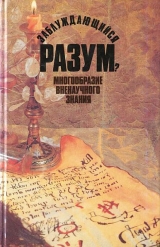
Текст книги "Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
Поэтому научно мы можем описывать два ряда параллельных явлений и не можем найти их взаимосвязи. Я указал на это событие в истории европейской философии, потому что оно является ключевым. Конечно, в основе этого разделения лежит древнее, додекартовское разделение, различение духа (сознания) и плоти (тела), однако особый, принципиальный статус психотехники, по-моему, оформляется именно со времени Декарта. Соответственно появляются и науки о духе, и науки о природе. Эта ситуация является своеобразной точкой ветвления классической науки и формирующейся неклассической, наук объясняющих и наук герменевтических, научной психологии и психотехники и т. д.
Мне бы хотелось теперь вкратце очертить область психотехники в собственном смысле слова. Психотехника обладает самостоятельным статусом. Существующими научными средствами мы не можем ничего сделать для того, чтобы расшифровать это знание и перевести его на язык жесткой классической науки. Одновременно мне кажется, что идеи альтернативной науки также являются паллиативными, они пытаются замазать существующие трещины, не пытаясь продумать основания кризиса.
Более эффективным я считаю разработку феноменологической традиции. Отмечу две запомнившиеся работы. Первая работа Дэвида Майкла Левина, профессора феноменологии, «Телесное воссоздание бытия», где есть попытка разработать программу научной феноменологической психологии. Автор второй работы (Д. Шапиро) в книге «Телесные модусы рефлексии» также строит программу новой психологии, которая учитывает не наши ментальные состояния, не апелляцию к логосу, а пытается найти транслируемые (и это очень важно для науки) и воспроизводящиеся состояния, которые являются интегральными психофизиологическими состояниями. Они обладают рядом гештальтных свойств, в которых: соединены и интеллектуальный момент, и психофизические составляющие.
Можно вспомнить, что буддистская теория дхарм фактически воспроизводила ту же самую программу. Дхарма изначально определялась как духовно-телесное. Потом на этой основе уже строилась вся буддистская практическая психотехника. Я попробую сформулировать два-три принципа психотехники как практического искусства. Она основывается на том эмпирическом положении, что состояниями сознания можно управлять. Я различаю психотехнологию и психотехнику по тому же основанию, по которому М. Хайдеггер в статье «Вопрос о технике» различал технику и технологию.
Психотехнология – это искусство манипулирования массовым сознанием, и как практическое искусство она мало осмысленна. С одной стороны, мы имеем тот факт, что сознанием и телом можно управлять, а с другой стороны, мысль нельзя породить по своему произволу. Это первый момент, конституирующий границы психотехники. Другой момент – гештальтное качество. Психотехника оперирует особого рода состояниями, которые транслируются в культуре, причем чаще всего через антропоморфные образцы жизнедеятельности.
Это положение можно проиллюстрировать известным тезисом М. К. Мамардашвили: мы можем понять только то, что сделали сами, только сделанное. Психотехника оперирует не понятиями, а крупными «живыми» «блоками», и именно их она транслирует в культуре.
Третий момент, который мне бы хотелось отметить в качестве «довеска»: в футурологической литературе XXI век часто называется веком психотехники. Этим уже сегодня занимается ряд исследовательских центров, например в США. А что касается традиционной литературы, то вопросы, связанные с управлением сознанием, наиболее проработаны в народной медицине тибетского буддизма. Появилось несколько хороших работ на европейских языках. В них говорится о «системе целостных гештальтов» и их динамической организации, которая позволяет транслироваться определенным психотехническим состояниям. Это позволяет создать практическую науку о развитии человека. Таковы некоторые новые акценты к слову «наука».
В. Порус. Отвечая Н. Автономовой, я бы вспомнил знаменитую шутку: застенчивый – значит робкий, робкий– значит трус, трус – значит дезертир, дезертир – значит изменник Родины. Таким незаметным нажимом можно перейти от достаточно безобидных понятий к строгим оценкам. Когда я говорил о материнской, кровной связи человека с природой, я не имел в виду почвенничества, призыва к возврату к биологическим, доразумным чувствованиям как основе социального общения. Клич «Хайль Гитлер», взывавший к животному, противоразумному в человеке, никоим образом не связан с тем, о чем говорил я. Жажда материнства тоже доразумна. Но доразумного много. Нельзя ставить в один ряд любовь, нежность и агрессивность, жажду убийства.
В самом деле, возражения против ложно понятого морального уравнения развитых и неразвитых народов справедливы. Но разве подлинный диалог основан на формальном уравнивании? Равенство должно быть изначально, как равенство партнеров, но это не значит, что мы должны уравнивать силу и слабость, обилие возможностей и отсутствие таковых.
Как партнеры диалога культуры равны, но они вовсе не равны в смысле своих реальных возможностей. Поэтому, когда я призываю к диалогу культур, это отнюдь не значит, что между ними надо ставить формальный знак равенства. Далее, можно ли интерпретировать такой призыв, как отрицание прогресса, универсальности истины? Нет. Более того, мистика может стать столь же агрессивной, как и дегуманизированный, сциентизированный научный рай.
Когда одна форма культуры пытается подмять под себя все остальные, доказать свое преимущественное право говорить от имени человека, вот тогда возникает не диалог, а спор не на жизнь, а на смерть. Когда же идет диалог двух партнеров, уважающих друг друга, но имеющих разные возможности (и уважающих именно это друг в друге), тогда, я думаю, никакие универсальные ценности не страдают. Прогресс останется прогрессом и будет таковым даже в большей степени, чем это было ранее, если бы прогрессировала бы только одна форма культуры, считающая себя носителем прогресса и его синонимом. Прогресс науки – это вовсе не отрицание всего ненаучного, не подмена наукой всей культуры. Точно так же прогресс культуры не может сводиться к прогрессу мистики, науки или чего бы то ни было еще.
Благо. Этот термин вызывает массу разногласий. С истиной дело обстоит лучше, хотя, пожалуй, лишь на первый взгляд. Существует предрассудок, что истина есть то, что соответствует реальности, и мы каким-нибудь путем это соответствие устанавливаем. Но возможно благо для одного человека, которое в то же время не является благом для другого, и это закладывает основания будущего конфликта. При этом я не отрицаю вероятности универсализационного мышления. Есть универсальное благо, которое несомненно. Сомнения в нем означают выход за пределы культурной жизни, за пределы человеческого развития, за пределы человека вообще. Конечно, каждый волен выходить за пределы человеческого, объявлять себя сверхчеловеком, носителем сверхмиссии, идеи и т. д. Но оставаясь людьми, мы должны подчиняться некоторым универсальным и абсолютным критериям человечности, в том числе и благу. Я не вижу здесь оснований для разногласий.
Вот И. Касавин задался вопросом, а не нарушим ли мы права каждой культуры иметь свои собственные основания, если начнем искать основания, общие для всех культур? Мне кажется, что такой путь рассуждения заведет нас в тупик. Если каждая культура будет уповать только на свои собственные основания, то действительно диалога не получится. Но есть общечеловеческая платформа для соглашения. Плохо, когда частные основания выдаются за универсальные и абсолютные. Вот в чем опасность конфликта.
И. Касавин. Можно ли понять Вас таким образом, что единственное основание для диалога – это осознание того, что диалог фактически ведется? Считаете ли Вы, что разные формы культуры никогда не существуют независимо друг от друга, и фактическое взаимодействие уже осуществляется; и вопрос не о том, что оно осуществляется, а в том, чтобы сделать его наиболее удачным?
В. Порус. Да, это одно из оснований. Но этого мало. Надо признать и то, что остановки этого диалога всегда являются источником всечеловеческих трагедий. Важно осознать не только то, что диалог уже ведется, но и то, что он может быть прерван.
Н. Автономова. Есть ли какие-то результаты у этого диалога?
В. Порус. Да, конечно.
Н. Автономова. Вы говорите, что партнеры в диалоге обладают заведомо разным опытом. Придут ли они к позиции: «да, ты это понимаешь лучше, чем я», или же они попытаются остаться в той этически взвешенной безоценочной сфере, которая не мешала бы им продолжать этот диалог?
В. Порус. Нет, не может быть абсолютно безоценочной сферы, иначе это не диалог, а спор глухих. Диалог должен стремиться к всечеловеческому единству. Если он не придет к этому, человечество обречено. Означает ли это, что такое соглашение должно подразумевать радикальный отказ от каких-то принципиальных установок н ценностей, капитуляцию перед победившими в этом диалоге? Нет, не означает. Я думаю, что всечеловеческое единство культуры способно ассимилировать все ценное, все положительное, все лучшее, что есть в различных культурах. Если при этом происходит отказ от некоторых оснований, то это не беда. Важно, чтобы этот отказ был ненасильственным.
Н. Автономова. Ну, это настолько очевидно, что здесь не о чем спорить.
В. Порус. Я с самого начала думал, что мы с Вами боимся одного и того же, только наши страхи воплощаются в разные образы.
Н. Автономова. Как Вы все-таки различите: хорошее кровное и плохое кровное? Ведь в заповедях фашистов не было призыва «иди и убивай». Они задним числом оправдывали необходимость убийства сопротивлением непонимавших идей фашизма. Я все-таки хотела бы понять, как Вы дифференцируете хорошее и плохое?
В. Порус. Вопрос трудный.
И. Касавин. А можно ли этот вопрос понять как вообще вопрос о том, каковы эти культурные универсалии? Они могут существовать, но они носят абстрактный характер? Или же они существуют и носят совершенно конкретный характер руководства к действию? Является ли истина только регулятивной идеей, позволяющей нам просто двигаться в познании, или же истина есть совокупность каких-то предписаний, которые нам реально помогают двигаться, а не просто обеспечивают сам процесс?
В. Порус. Я думаю, что абстрактно решать этот вопрос не следует. Если бы этот вопрос решали люди шесть-семь столетий назад, они бы по-иному ответили на него. Люди будущего тоже во многом не согласятся с нами. Этот вопрос и его решение зависят от исторического опыта. Наши абстракции не истина в последней инстанции. Я как раз против априорного, абсолютного размежевания хорошего и плохого. Я думаю, что это нужно предоставить истории, нашему совместному бытию. Но мы не должны сбрасывать и предшествующий опыт: жесткая дихотомия «свой – чужой», «научное– антинаучное» чаще приводила к тяжелым поражениям того, что мы называем прогрессом, человечностью, гуманизмом и т. д.
Н. Автономова. Тем не менее именно научное сознание во многом способствовало снятию дихотомии типа «свой – чужой».
В. Порус. Да, конечно. Только не нужно доводить это до абсолюта. Не нужно выдавать нужду за добродетель. Научному анализу подвержено все, в том числе и сам научный анализ, но из этого еще не следует, что научный анализ – это слово Божье.
В. Майков. Как Вы считаете, есть ли антропологические гарантии добра, онтологические гарантии природы человека? Где возможности отличения хорошей материнской этики от плохой? Или все это зависит только от нас? Я задал классический вопрос.
В. Порус. Я так же классически отвечу. Онтологических гарантий, понимаемых как гарантии свыше, нет. Эти гарантии даются жизнью человечества, тем, что называется нашей совестью, нашим умом, историческим опытом, надеждами. Истина, добро, благо и т. д. не существуют вне нашего исторического бытия. Действительность их постоянно воскрешает.
И. Касавин. Я все-таки повторю свой вопрос. Мне представляется, что основы какого-то абсолютного подхода к рассмотрению многообразия культуры или знания содержатся только примерно в таком утверждении: все это многообразие внутренне соотнесено между собой. Каждый элемент культуры соотнесен с другим, и только в том, что они существуют все вместе, и есть основание того, что между ними возможен диалог. Я не вижу никакого другого основания для существования абсолютного. Если из своей собственной природы каждый элемент культуры выводит основание абсолютного, то эти основания по определению не будут универсальны, Если же эти основания выводятся из их совместной природы, то здесь есть определенная возможность того, что они будут приложимы ко всем элементам культуры. Единственное, что я вижу общим для всей культуры, – ее многообразие и соотнесенность элементов друг с другом. Нужно осознать свою совместность.
Н. Автономова. Чем больше наше многообразие, тем глубже и шире может быть основание для единства.
В. Порус. Но я ко всему этому добавил бы еще идею блага. Если культура не имеет цели, направления, то, независимо от того, сколько будет оснований, смысла уже не будет. Для культуры нет иной цели, кроме как общечеловеческое благо. В противном случае это будет не человеческая культура, а какая-то иная.
И. Касавин. Благо часто предстает в образе забора, которым разгораживают различные части культуры. С таким же успехом оно может предстать в образе взаимной коммуникации. Совершенно неясно, чем, собственно, является благо. Может быть, наивысшее благо, как полагает Фейерабенд, состояло бы во введении ограничительных линий между традициями таким образом, чтобы каждая спокойно развивалась и не мешала другой.
В. Порус. В этом есть свой резон. Но дело не в плюрализме самом по себе.
И. Касавин. Но тогда ни о каком единстве культуры нельзя говорить. Нельзя говорить об универсальных культурных универсалиях.
В. Порус. Всему должна быть мера. Даже в применении универсальных понятий. Свобода, понятая как абсолютная бесконтрольность, безусловность, – это абсурд. Но вместе с тем есть и универсальное понятие свободы, свободы как ценности. Точно так же и здесь, в разговоре о культурах. Конечно, своя ценность есть в автономности культур, их суверенности и партнерстве. Но это сомнительная ценность, если она единственная. Плюрализм есть условие всечеловеческого развития. Свобода каждого есть условие развития свободы всех. Это общечеловеческая максима. Вот так я понимаю основные принципы экологии культуры, о которой мы здесь говорили.
И. Касавин. Мне представляется, что плюрализм есть не только основа развития, но и значимый его результат. Так как этот плюрализм сохраняется и служит гарантией того, что в дальнейшем он еще больше расширится, мы и можем говорить о каком-то развитии.
В. Порус. Я понимаю это как единство относительного и абсолютного. Плюрализм есть условие развития и его результат. Но так можно говорить не только о плюрализме. Но, на мой взгляд, плюрализм не может быть регулятивной идеей, он не может быть тем трансцендентным иксом, к которому мы устремляемся как к горизонту. Плюрализм – есть каждый раз фиксируемое состояние, которое мы осознаем как степень осуществления той цели, к которой идем или, по крайней мере, ставим перед собой. Сам по себе он целью быть не может.
Н. Автономова. То есть, по-видимому, дело обстоит так же, как невозможность снятия всех связей и зависимостей, как невозможна абсолютная неиерархичность. Коль скоро мы эти связи устанавливаем, всегда будут более сильные и более слабые элементы внутри общего целого.
В. Федотова. В ходе обсуждения различных типов знания в различных типах культуры все признавали, что наука не является доминирующей и единственной во всех культурах формой знания. Однако встал вопрос: как к этому относиться? С одной стороны, были упреки в том, что науку выпячивают, считая ее лучше другого знания. С другой стороны, была попытка показать, что вряд ли возможно полное равенство всех типов знания; быть может, есть какой-то более универсальный тип.
Основная конфронтация наметилась по вопросу об отношении к плюрализму знаний, включающему вненаучные формы или возможности какой-то универсализации. Мне кажется, что мы все время при решении теоретических вопросов находимся в плену наших ценностных устремлений. Например, вопрос о соотношении науки и ценности мог решаться в интересах деидеологизации (требования развести науку и ценности), но он мог решаться и в интересах гуманизации (требования объединить науку и ценности).
Сейчас намечается новая тенденция: ради гуманизации и деидеологизации объединить науку и ценности, но речь уже идет об универсальных ценностях. Наши ценностные оценки, видимо, справедливы, если речь идет о разных типах знания. При решении вопроса о соотношении истины и правды смещение теоретических установок к ценностным можно продемонстрировать на следующем примере. В нашей повседневной жизни правда считается выше истины, превосходит ее, дана нам непосредственно, конкретно, содержит вопрос о справедливости. Истина же обрела какие-то схоластические безличные черты.
Это так и есть, но вовсе не значит, что так будет всегда. Я процитирую Искандера («Кролики и удавы»): «Да-да», – ответили кролики, чувствуя, что в словах Задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожная истина, а в словах Короля – какая-то скучная, но зато успокаивающая правда». Таким образом, то, что решается по проблеме научной и вненаучной форм социального знания, исходя из ценностей, – это исторически конкретное решение. Надо показывать и в тексте, и в заключении, что это не раз и навсегда данное решение, что ценностно нагруженная наука может быть плохой и свободная от ценностей наука может быть плохой. Именно от конкретной ситуации зависит тот факт, что либо правда, либо истина может нести в себе больший социальный пафос. В начале дискуссии мне показался недостаточно проработанным вопрос о том, почему все-таки появление новых типов знания, таких, как научное, не устраняет других типов знания?
Традиционная концепция отражения, которая твердит, что мы отражаем единый мир, только в разных зеркалах, уже не находит своего обоснования. Я не понимаю, зачем требуется такое множество зеркал, для того чтобы отразить один и тот же мир. Мне кажется, что наивный реализм постоянно сдает свои позиции. Сначала мы узнаем, что существует активность субъекта познания, социальный заказ на какое-то понимание, в частности, интерес к правде, а не к истине в наше время тоже во многом социально определен.
Когда мы говорим, что нет монополии на истину, то тем самым мы хотим сказать, что нет одной кому-то известной истины. Возникает потребность в плюрализме этих истин или правд. Наивный реализм в науке, или псевдоклассика методологических установок, заставляет нас верить, что мы отражаем один и тот же мир.
Очень важный вывод, вытекающий из анализа вне-научных форм знания, состоит в том, что эти формы знания работают как бы в разных мирах. И хотя существует единый мир, для каждого человека он как бы «вырезан» практикой его сознания. А мир, творимый сознанием, не может быть хотя бы до поры недействительным для этого сознания. Если взять мир, то наши принципы слабо действуют в этом мире, поэтому не исключено, что в каких-то мирах научное знание не будет столь же уважаемо, сколь уважаемо оно в нашем мире. Фейерабенд, например, указывал, что его методологический анархизм вырос на основе общения с мексиканцами, пуэрториканцами, которые демонстрировали иную логику.
Единый действительный мир дан нам как множество миров, зависящих от исторического времени, нашей культуры, социальной принадлежности, образования, рода занятий, интересов. Каждый раз эти миры по разному бывают заинтересованы в знаниях разного типа. (Известен пример с африканцами, которые не пользуются услугами европейской медицины, ибо она не может вылечить их так, как это сделает шаман.) Такой взгляд необходим и для того, чтобы определить наше место и способы нашей работы.
Инженер может сказать, что философ оторван от жизни, и будет прав с точки зрения отсутствия у философа заботы о конкретном деле, об обычном мире повседневности. Равным образом будет прав и философ, считающий, что мир его законов, смыслов, всеобщего – это тоже действительный мир, с которым сталкивается инженер, не делая его предметом своих интеллектуальных усилий. Ощущение отрыва от жизни не покидает творческого человека именно потому, что он строит свои миры, свои реальности.
Но это уже другая тема. Когда мы касаемся вненаучного знания, мы говорим о тех мирах, которые построены, но их особость по отношению к действительному миру не осознается; эти миры воспринимаются как действительные в обыденном, мифологическом, религиозном сознании. А деятели культуры все-таки понимают, что построенный мир не есть действительный мир.
И. Касавин. В выступлении В. Федотовой мне не совсем ясно следующее. Когда мы говорим об этой примитивной теории отражения, то прежде всего мы имеем в виду объективный мир, который отражается в нашем знании, а не тот мир, о котором говорили Вы. Мне очень близка мысль о том, что разнообразию знаний соответствует разнообразие практик. Кстати говоря, эта мысль появилась довольно давно. Но когда мы критикуем примитивную теорию отражения, то мы говорим не о практике, которая отражается в знании, а об объективном мире. Здесь происходит, на мой взгляд, серьезное спутывание этих миров. О многообразии миров можно говорить, когда мы говорим о разных видах практик, о разных формах жизни человека. Что именно Вы имели в виду?
В. Федотова. Когда мы говорим «объективный мир», то в это понятие не вкладываем ничего, кроме смысла «природный» мир. Если мир колумбийца – это мир, описанный Маркесом, который гипостазирует сознание колумбийца, отождествляя его сознание с его миром, его практикой, его жизнью, то является ли этот мир объективным?
Б. Пружинин. Осознает ли колумбиец частичность, ограниченность своих представлений? Осознает ли он связанность своих представлений о мире с практикой, с узостью какой-то практики, с необходимостью совершенствовать свои представления о мире, накапливать опыт совершенствования отображения реальности? Или же он живет в этом мире и живет?
В. Федотова. На уровне обыденного сознания у него нет потребности рефлектировать неадекватность своего сознания мира. Он воспринимает свое сознание как действительный реальный мир. Мир для него такой, как в этом сознании. Если мы ему предложим какое-то знание о социальных процессах, то оно не будет «работать», потому что он не видит мир таким, каким мы его видим.
Можно вспомнить Карпентьера и историю с диктатором, пытавшимся изъять из магазинов всю «красную заразу» и уничтожить все, что может инспирировать революцию, но который сказал, что «Капитал» можно оставить, потому что не верил, что «вагоновожатые могут его свергнуть при помощи этих квадратных уравнений». То есть это как бы до поры не входило в этот мир.
Когда я говорила, что созданный индивидом мир не может не быть его действительным миром, я все время говорила «до поры», т. е. какое-то изменение практики наверное откроет ему глаза на то, что мир другой. Но тут надо различать: о научном ли мы сознании говорим, о сознании, которое тяготеет к показу мира таким, какой он есть в действительности, независимо от того, как его видят эти колумбийцы, от того, какие там экономические процессы, социальные структуры, или мы говорим о том мире, каким его видит живущий в нем человек.
Б. Пружинин. Но ведь деление на научное и ненаучное проходит по совсем иным линиям. Дело в том, что для того чтобы у человека возникло желание совершенствовать свои знания и представления о действительности (а, мне кажется, мы сейчас смешиваем понятия «отражение, отображение действительности» и «знание»), необходима сама мысль о некой действительности, в соответствие с коей необходимо привести наши знания. Стихийное бедствие, нашествие, завоевание – и колумбиец уже смотрит на мир иначе, чем смотрели его отцы. Но он-то этого и не хотел, об этом не думал, опыт этих изменений он не осознал.
В. Федотова. Вы спрашиваете так, будто человек специально занят добыванием своих знаний и затем у него возникает потребность отрефлектировать истинность своих знаний. Но в обычном знании, полученном неспециалнзированно, такой задачи нет. Поэтому не возникает и вопрос о том, правильно ли то, что я знаю. В данном случае истина существует скорее как правда. Такие мировоззренческие образования всегда претендуют на господство и на некритическое утверждение себя в качестве всеобщего.
А. Грязнов. Расскажите поподробнее о наивно реалистической позиции. Насколько она стабильна? Способна ли она изменяться? Мне кажется, что сторонники универсальной концепции, способной объяснить и альтернативные формы знания, исходят из идеи того, что человеку просто присущи некоторые постоянные концептуальные схемы. Эта идея может получить подкрепление и лингвистической теорией, например моделью Хомского. Может быть, именно такая позиция была у Автономовой, поскольку она знакома со структурным подходом в этих вопросах. Можно рассматривать наивный реализм как такую постоянную позицию.
И. Касавин. Вы хотите сказать, что универсализм и упование на существование единой наивно реалистической точки зрения – это одно и то же?
А. Грязнов. Возможно.
И. Касавин. Попросту говоря, нет никакого единого наивного реализма, а есть различные наивно реалистические утверждения, которые весьма существенно отличаются друг от друга. Можно сказать, что в науке может существовать наивный реализм – так называемый the common sense of science и, с другой стороны, есть другой наивный реализм – наивный реализм туземцев племени азанде, наивный реализм образованного человека античности – это тоже наивный реализм, но совсем другой и т. д.?
А. Грязнов. Может быть, есть какие-то более глубинные структуры, которые обусловливают такую позицию. Например, это могут быть лингвистические структуры, когда уже нет разницы между туземцем племени азанде и человеком-ученым.
И. Касавин. Но есть различие языков.
A. Грязнов. Различие языков – это внешнее различие. Различие проявляется здесь на уровне «внешней» грамматики. Но, может быть, есть сходство на уровне «глубинной» грамматики.
B. Федотова. У Автономовой – ценностная защита универсализма. Она приводит драматический пример, как почвенничество Хайдеггера привело его к сближению с фашизмом. Я считаю, что с фашизмом можно сблизиться на какой угодно почве, в том числе и на почве универсализма. Мы, например, были достаточно универсальны и тем не менее… знаем свою историю.
Позиция наивного реализма в науке или вообще по отношению к знанию – это позиция, которая считает, что есть один мир и есть его содержание, отраженное в сознании, – это и есть знание. А поскольку мир один, постольку и знание одно, едино. Поэтому альтернатив ему (знанию) не может быть. Истина одна, а все, что мы получаем «рядом», – это донаучное, ненаучное, пред-научное, антинаучное. Есть и модификации этой позиции. Например, когда позиция воспроизведения содержания объекта в знании выглядит как позиция зеркального отражения, субъект понимается как абстрактный гносеологический субъект.
Свои позиции наивный реализм сдает постепенно. Точка зрения абстрактного гносеологического субъекта заменяется точкой зрения социально-исторического субъекта познания, появляется дифференциация объекта и предмета науки, представление об идеалах и нормах научного исследования, укорененных в социальных структурах, о латентной и прямой социальной детерминации знания. Все это есть отход, отступление от позиции наивного реализма.
Я думаю, что введение, постановка проблемы нормального функционирования всех до-, не-, антинаучных форм знания – это падение крепости наивного реализма, считающего науку единственной представительницей истинного знания. Нас перестают заставлять видеть мир как единый, но отраженный в разных зеркалах. Через многообразие практик, миров, культур мы начинаем понимать, что этот мир не такой уж единый. То есть, говоря об объективном мире, мы чаще всего имеем в виду только мир природы.
Л. Поляков. Мне кажется, что мы совершаем весьма интересный эксперимент, вводя презумпцию существования какой-то одной объективной реальности или говорим о переходе на плюралистические позиции. Мы должны помнить о том, что сам наш разговор ведется на определенном языке – языке научной традиции или какой-то другой. А не является ли презумпция общей объективной реальности, на которую нацелены познавательные устремления любого человека и соответственно идеал некой строгой науки, дающей познание все более глубокое (первой степени, второй степени и т. д.), – не является ли это необходимым условием выживания, существования человеческого коллектива, коль скоро он вообще возникает? Не является ли это обязательным условием или, если угодно, врожденным пороком социума, в котором должна найти свое адекватное теоретическое отражение эта установка на единство?
В какой-то момент доминирует эта презумпция общности, соединения труда. Именно в какой-то момент, потому что социум можно рассматривать в разных степенях диффузности: как в начале – предшествующая диффузность, так и в конце – рассеянность, несвязность структурных отношений. Это все равно социум, потому что уже есть как бы силовые линии, которые начинают собирать магнитные опилки по определенным правилам.
Мне кажется, что сама идея науки, научного знания является адекватным выражением социальности человека. Точно так же, как настойчивые поиски эсперанто в области языка свидетельствуют об этом же. Настойчивые поиски коррелята социума, когда достигается явно выраженная связность, структурность, взаимозависимость, начинаются в буржуазном обществе как обществе по преимуществу связанном собственно социальными связями. Если учитывать этот аспект, то не таким уж отвлеченным будет и разговор о разных типах культур и укорененности разных типов знания, дознания, незнания, сверхзнания в соответствующих культурных сообществах.
И. Касавин. В этой связи я бы хотел рассказать о своем разговоре с человеком, настроенным весьма отрицательно к плюралистической концепции знания.
– Вот вы анализируете, – начал он, – различные виды знания и предполагаете, что в чем-то они сопоставимы, что нельзя говорить «это знание лучше, а это – хуже», нельзя же сопоставлять таким образом прыжки в длину и прыжки в ширину. Но какую позицию занимаете Вы сами, анализируя эту проблему? Научную или ненаучную?








