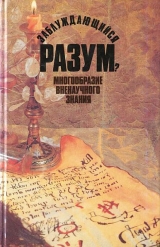
Текст книги "Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Действительно, искусство тяготеет ко второй установке, выступая как форма понимания мира и взаимопонимания людей. Это не значит, что искусство вовсе чуждо объективному познанию. Элементы знания и познания всегда наполняли содержание и форму искусства, и без них ни создание произведений искусства, ни их жизнь в культуре не были бы возможны. Но функция искусства – служить пониманию. И эта функция не может быть ни вытеснена, ни подменена познавательными функциями.
Явление искусства – целостность, составленная из трех обязательных компонентов: авторский замысел, его реализация (произведение), восприятие произведения сознанием реципиента. Смысл, которым наделяется произведение искусства, – результат совместной смыслопорождающей активности автора и реципиента. Эта совместная духовная работа необязательно приводит к совпадению замысла и интерпретации; замысел инициирует явление искусства, но его дальнейшая жизнь – это непрерывный процесс смыслосотворения.
Особенно это очевидно, когда авторское произведение (замысел) требует исполнителя, скажем в музыке или в театре. Само исполнение также является произведением искусства; но ведь и в неисполнительском восприятии, даже в нерефлективном переживании произведения происходит тот же процесс осмысления.
Конечно же и по отношению к произведению искусства возможна не «субъект – субъектная» установка, а познавательно-объективистский интерес. Можно изучать те или иные особенности произведения: подсчитать количество ударных и неударных слогов стиха, найти геометрические пропорции скульптур Фидия, установить законы светотени на полотнах Рембрандта, определить психологические нормы восприятия обратной перспективы на древнерусских иконах.
Такие познания могут быть полезными не только с чисто искусствоведческой точки зрения. Они могут дать основу грамотного восприятия произведений искусства, обогатить его, создать условия для культурной коммуникации в мире искусства. Без такого понимания нет и не может быть профессиональной подготовки артиста, художника, вообще культурного реципиента. Но оно не способно заменить собой понимание иного рода, ради которого, собственно, и существует искусство (ведь не для того же, чтобы поставлять материал искусствоведческим анализам!), понимание, основанное на совместной работе чувства и мысли, вызываемых произведением искусства[169]169
Полемизируя со сторонниками структуралистского литературоведения, В. Б. Шкловский писал: «…литературоведение должно быть литературопониманием… Дыхание искусства разнообразно, но оно связано с великим пониманием искусства, созданного видением, обновлением чувств. Поэтому всемерность и разнообразность, вечность искусства основаны на обновлении и углублении восприятия… Анализ структуры стихотворения – и слова, и ударения, и рифмы – это знаки движения мысли и чувства. Иначе оказывается, что вместо анализа искусства люди занимаются анализом терминологии» (Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 103, 106–107, 108).
[Закрыть].
Между этими типами понимания нет противоречия. Они могут осуществляться совместно и дополнять друг друга. Но противоречие все же может возникнуть, и тогда это серьезный симптом вырождения субъекта культуры, утратившего способность к смыслопорождению и гипертрофировавшего в себе объективистски-формальное отношение к искусству.
Выступая перед телезрителями, Алла Демидова как-то сказала, что к концу 70-х годов в Театр на Таганке пошел новый зритель, какого не было в начале 60-х: не успеет еще отзвучать последняя реплика, как на сцену уже выходят зрители с цветами… Они пришли в театр не для того, чтобы «понимать и плакать», а чтобы смотреть на игру популярных актеров, оценить режиссерские находки, не говоря уже о той, весьма широкой категории посетителей театра, о которой Л. Филатов с горечью говорит: «Я могу на сцене страдать, корчиться, харакири себе сделать – для них это зрелище, к тому же не вполне понятное по причине малого количества прочитанных книг». Между актером и глазеющим зрителем такого рода – стена непонимания, искусство становится ритуальным лицедейством, престижным зрелищем.
Кризис культуры, наметившийся и быстро разраставшийся в «застойные годы», прежде всего и главным образом углублял разрыв между искусством и человеком, разрушал связь понимания, уничтожал возможность конгениального смыслопорождения в актах восприятия произведений искусства, муки понимающего смыслотворчества были устранены духовной анестезией. Но душа, которая не болит, это уже только пустая оболочка духа.
Когда смыслотворчество, в котором соединены усилия автора, исполнителя и воспринимающего субъекта, подменено стандартным подражанием образцам культурного общения, явление искусства исчезает, остается его суррогат, а произведения искусства впадают в анабиоз и числятся в культурных реквизитах эпохи. Попадая в вакуум понимания, они утрачивают и свой изначальный потенциал смыслопорождения, мумифицируются в саркофагах музеев, хранилищ, фонотек, библиотек, репертуаров.
Искусство – это не только процесс постоянного восстановления, возобновления, возрождения смысла художественных произведений, это еще и постоянное творение самой способности понимания – творение понимающего субъекта. Своим произведением художник только открывает бесконечную перспективу творческих актов смысловоссоздания. В цепи этих актов формируются и трансформируются смыслообразующие способности людей. Когда говорят о шедеврах, вечных ценностях искусства, помимо прочего имеют в виду силу этого изначального импульса, сохраненного и умноженного творчеством понимающих эти шедевры людей.
Понимание искусства всегда и необходимо проблематично. Произведение, принятое эпохой за «разгаданную тайну», понятое «раз и навсегда», прекращает свое бытие как явление искусства. Говорят, что шедевры не умирают, ибо они могут возрождаться, воскресать в творчестве иных поколений. Но само воскресение – свидетельство смерти. Произведение умирает, когда исчерпывается творческий потенциал его понимания, и возрождается с возникновением нового потенциала.
Жизнь произведения искусства – это всегда многоголосие различных пониманий, «испытание смыслами». Нет ничего более убийственного для произведения искусства, чем навязывание стандартной интерпретации. Вот почему учебники литературы в наших школах – «смиренные кладбища» мертвых шедевров, а уроки литературы – погребальные церемонии.
Но еще более отвратительна эпидемия, охватившая в последние десятилетия школьную словесность: стандартизованные ритуалы якобы свободного смыслотворчества учащихся, пародирующие процесс понимания художественной литературы, все эти шпаргалки – образцы рассуждений и сочинений на тему «Мое представление о счастье», «Мой любимый герой», «В жизни всегда есть место подвигу» и т. п. Что может вернее убить в человеке всякое сопереживание, любой проблеск сотворчества, тягу к пониманию книги, события, проявления души другого человека, чем поощряемое и культивируемое воспроизведение смысловых штампов – усыпление и омертвление души?
«Душа ребенка не должна быть холодным хранилищем истин, – писал великий педагог В. А. Сухомлинский. – Большой порок, который я стремился предотвратить, – это равнодушие, бесстрастность. Маленький человек со льдинкой в сердце – будущий обыватель. Уже в детстве надо зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти и непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу»[170]170
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Минск, 1982. С. 226.
[Закрыть]. Угасание этих искр в школьном образовании – неоспоримый симптом тяжелых социальных заболеваний, среди которых едва ли не самое тяжкое – дегуманизация человеческих отношений, деградация способности понимания, диалога живых душ. Социальное зло питается продуктами распада человеческой духовности.
Конечно, нельзя сводить жизненность произведения искусства только к многообразию смыслотворческих актов, к простому увеличению суммы «явлений», в которых это произведение участвует. Это многообразие должно быть живым и ориентированным на главные жизненные человеческие ценности – счастье, жизнь, добро, красоту, истину, справедливость… В конечном счете понимание удостоверяет свою человеческую общезначимость именно своим соответствием этим устремлениям.
Однако это соответствие – не простое совпадение с некими раз и навсегда установленными образцами. Вечность гуманистических ценностей – это вечность их постоянного обновления, воссоздания в бесконечных актах их понимания. И что особенно важно – это вечность их борьбы с омертвением духа, с антигуманизмом, с антиценностями. Путь к подлинным ценностям извилист, труден, пройти его нельзя «строевым шагом», по команде, по указке. Каждый человек должен пройти этот путь своим путем, своим разумением. Желание упростить ему эту задачу, запретить попытки поиска собственной дороги – верный способ повернуть вспять движение к ценностям гуманизма.
В соперничестве, борьбе, диалоге различных пониманий произведений искусства, в плюрализме смыслотворчества отображается реальный плюрализм мировоззренческих структур, идейных и политических ориентаций, типов духовности[171]171
Понятие «тип духовности», восходящее к С. Кьеркегору и широко применявшееся М. М. Бахтиным, недавно с успехом было использовано В. Г. Федотовой в анализе духовно-культурной жизни современного общества. Она различает три типа: эстетизм, теоретизм и этизм, каждый из которых определен доминирующими принципами,
максимами, формирующими отношение индивида к действительности и культуре.
Эстетизм ориентирован на эмоциональное, чувственно-экстатическое переживание, на достижение максимальной полноты жизни, хотя бы и за счет отвлечения от морали и истины.
Этизм – позиция, ставящая во главу угла нравственное содержание жизни и подчиняющая ему все прочие жизненные устремления, вплоть до аскезы.
Теоретизм – ориентация на истину, стремление к созданию особого сущностного бытия, противопоставленного феноменам жизни. «Эстетизм, теоретизм, этизм выступают как реальные жизненные односторонности, вытекающие из разделения труда и социальной неоднородности» (Федотова В. Г. Духовность как фактор перестройки// Вопросы философии. 1987. № 3. С. 24). Конечно, не стоит напрямую выводить духовную неоднородность из разделения труда и социальной неоднородности; возможны и другие типологии, основанные. на иных доминациях духовных ориентаций. Но сам типологический подход, несомненно, плодотворен. А может быть, нужна и типология бездуховности, так сказать, реестр духовных деградаций? Тем более что бездуховность часто рядится под тог или иной тип духовности, пародирует и дискредитирует его.
[Закрыть]. По характеру и содержанию смыслов, вкладываемых в произведения искусства, можно судить о том, к какому типу духовности относится смыслосозидатель, каковы тенденции развития этого типа, каковы его шансы в соревновании с иными типами, каковы возможности синтеза различных типов. Более широко – понимание искусства может служить моделью развития духовной жизни общества, по которой можно проследить важнейшие черты этой жизни: борьбу идеологий, мировоззрений, систем ценностей и идеалов, умирание и возникновение основных жизненных ориентаций и перспектив.
Возьмем для примера оценки гоголевского «Ревизора», принадлежащие авторам, несомненно относящимся не только к различным социально-политическим ориентациям, но и к разным типам духовности.
М. Б. Храпченко: «Основной конфликт, на котором построена комедия, заключен в глубоком противоречии между всей социальной практикой привилегированной бюрократии и интересами народа. Беззакония, казнокрадство, взяточничество, корыстные мотивы деятельности вместо заботы об общественном благе – все это показано в «Ревизоре» не в качестве индивидуальных пороков отдельных чиновников, а в виде тех общепризнанных «норм» жизни, вне которых управители не мыслят себе свое существование».
В. Набоков: «…пьесу Гоголя общественные умы неправильно поняли как социальный протест, и в пятидесятых и шестидесятых годах от нее пошел нс только кипящий поток литературы, обличавшей коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавшей в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околоточного или помещика, который сечет своих мужиков».
М. Б. Храпченко: «Гоголь великолепно показал типы «всевластного, безответственного, подкупного, дикого, невежественного и тунеядствующего» чиновничества[172]172
Закавычены слова В. И. Ленина из статьи «Задачи русских социал-демократов» (см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 456).
[Закрыть], типы людей, которые не только существуют, но и весьма активно действуют в современную эпоху в странах, где господствуют социальное неравенство, неравноправие в различных своих формах… Беспощадно разоблачая «преступления и пороки», писатель создал произведение, которое объективно носило революционный характер».
В. Набоков: «…подходить к пьесе как к социальной сатире (вторя мнению общества) или как к моральному обличению (запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем) – значит упускать из виду главное в ней. Персонажи «Ревизора»… реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя… Забавно, что эта сновидческая пьеса, этот «государственный призрак» был воспринят как сатира на подлинную жизнь в России. И еще забавнее, что Гоголь, беспомощно пытаясь пресечь опасные, подрывные домыслы о своей пьесе, указал, что в ней уж, во всяком случае, есть один положительный персонаж: смех. На самом-то деле пьеса вовсе не комедия… Пьесы Гоголя – это поэзия в действии, а под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье…»
М. Б. Храпченко: «Существует мнение, что в откликах на «Ревизора» Гоголя прежде всего поразило несоответствие между замыслом комедии, в которой он будто бы не ставил никаких широких проблем, и тем реальным звучанием, которое получил «Ревизор», оцененный «массою публики» как произведение бунтарское, направленное на подрыв государственных основ. Эту точку зрения нужно признать несостоятельной. Гоголь остро воспринимал вовсе не тот факт, что комедия его произвела на общество слишком сильное впечатление, большее, чем он хотел; наоборот, его глубоко волновало, что разные слои общества, «целые сословия», не захотели увидеть и понять колющую правду, воплощенную в «Ревизоре»… Сила и страстность социальной критики Гоголя питались его тесной связью с жизнью страны, с жизнью народа, которому он самоотверженно служил, вступив в жестокую борьбу с миром произвола и насилия, миром лжи и обмана».
В. Набоков: «Обвинения, выдвинутые негодующими противниками «Ревизора», которые усмотрели в пьесе коварные нападки на российскую государственность, произвели на Гоголя гнетущее впечатление… Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире, обладал способностью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и опубликовал. Этот метод он применил и к «Ревизору». Он присовокупил к нему эпилог, где объяснял, что настоящий ревизор, который маячит в конце последнего действия, – это человеческая совесть. А остальные персонажи – это страсти, живущие в нашей душе… Эпилог производит такое же удручающее впечатление, как и более поздние рассуждения Гоголя на сходные темы, если не предположить, что он просто хотел натянуть нос читателю или себе самому. Если же отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный случай: полнейшее непонимание писателем своего собственного произведения, искажение его сути…
Гоголь был странным, больным человеком, и я не уверен, что его пояснения к «Ревизору» не обман, к какому прибегают сумасшедшие. Трудно примириться с тем, что Гоголя так огорчила не оценка его пьесы, а то, что его не признали пророком, учителем, поборником человечества (дающим этому человечеству нагоняй для его же блага)… С другой стороны, тот урок, который критики – совершенно произвольно – усмотрели в его пьесе, был социальным и почти революционным, что казалось совсем уж неприемлемым для Гоголя»[173]173
Храпченко М. Б. Николай Гоголь. Литературный путь. Величие писателя. М., 1984. С. 292, 293, 340–341; Набоков В, Николай Гоголь//Новый мир. 1987. № 4. С. 187, 189, 193, 194–195.
[Закрыть].
Из этих выписок отчетливо видно различие смыслов, порождаемых «читательской критикой» (выражение Л. С. Выготского, которым он обозначал тип интерпретации художественных произведений, связанный не с профессионально-искусствоведческими изысканиями, а с «привнесением» в них смысла, производного от мировоззренческой, социально-политической, идеологической, эстетической ориентации читателя), когда она исходит из принципиально различных идейных, шире – духовных оснований.
Здесь эти различия затрагивают даже определение жанра: В. Набоков не считает «Ревизора» комедией; мир пьесы, преломленный в понимании Набокова, – это мир поэтических фантазий, в котором лишь наивные души могут увидеть «яростную социальную сатиру». Герои Гоголя, по мнению Набокова, лишь «по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения», они «подверглись такой глубочайшей перетасовке и переплавке в лаборатории гоголевского творчества», что находить в них «подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре». Поэзия Гоголя выше критики какого-то конкретного государственного устройства, нравственных и социальных пороков; она обращена к конфликтам и дисгармониям высшего, универсального порядка. Гоголь– бытописатель царства нечистой силы, дна преисподней, но выписывает подробности этого быта так издевательски, похожими на детали пошлейшей и подлейшей жизни, что «наивные души» принимают это за реализм, да еще и критический.
Набоковский Гоголь – поэт «потустороннего», «обманного», «не подвластного здравому смыслу» мира[174]174
См.: Набоков В. Николай Гоголь//Новый мир 1987 № 4 С. 187, 198, 199.
[Закрыть], а его воздействие на читателя – разумеется, на читателя, близкого самому В. Набокову по способу смыслонаделения гоголевской пьесы, направляемому парадигмой «эстетизма», – вызывает не смех и слезы, а «блаженное мурлыканье»!
В принципе эта интерпретация не нова. Вспомним, что в свое время К. С. Аксаков усматривал величие Гоголя, ставящее его вровень с Гомером и Шекспиром, в обладании «великой тайной искусства», а не в остроте его социального критицизма, что вызвало резкий протест В. Г. Белинского: «Говоря о Шекспире, было бы странно восторгаться его уменьем все представлять с поразительною верностью и истиною, вместо того чтоб удивляться значению и смыслу, которые его творческий разум дает 66-разам его фантазии… Истинная критика «Мертвых душ» должна состоять не в восторженных криках о Гомере и Шекспире, об акте творчества… о тройке и телеге: нет, истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом…»[175]175
Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 429, 430–431.
[Закрыть] В. Г. Белинский полагал задачу «истинной критики» в проникновении к глубинам социально-философского смысла гоголевских творений; однако, по сути, его собственная критика была не «раскрытием», а «сотворением» этого смысла, пронизывающим и личностные, субъектные отношения великого критика к великому художнику. В этом один из важнейших источников трагического пафоса «Письма к Гоголю»: кто не ощутил эту боль непонимания, боль разрыва духовного единения, навеки запечатленную поразительнейшим документом истории русской культуры?
Понимание «Ревизора» М. Б. Храпченко совершенно антинабоковское. Эстетические достоинства гоголевской поэзии прежде всего и главным образом выводятся из ее обличающей силы, направленной на переустройство реального мира Сквозник-Дмухановских и Ляпкиных-Тяпкиных. Даже конкретные факты биографии писателя и истории его пьесы трактуются В. Набоковым и М. Б. Храпченко по-разному: в изображении Набокова Гоголь – не то гениальный безумец, не то филистер, сам не сознающий силы и значения своего поэтического дара, испуганно «уползающий» за границу после скандала, вызванного «Ревизором»; М. Б. Храпченко выводит Гоголя бесстрашным и самоотверженным борцом с миром зла, лжи и социальной несправедливости, которого волнует неспособность «образованного общества» увидеть в бездне порока, раскрытого в пьесе, реальность русской жизни. Если следовать типологии В. Г. Федотовой, такую интерпретацию, «дотягивающую» Гоголя до идеализированной и схематичной фигуры духовного вождя российского свободомыслия, можно было бы с некоторыми колебаниями назвать «теоретизмом» – за стремление подчинить любые факты избранной объяснительной схеме, в которой читателю предлагается видеть синоним «истинного понимания».
Однако не заочный спор В. Набокова и М. Б. Храпченко занимает нас здесь, и потому нет надобности доказывать односторонность обеих интерпретаций. Пример этот важен другим: гоголевская пьеса и по сей день, как полтора столетия назад, – арена противоборств различных и противоположных интерпретаций, источник «живой жизни» явлений искусства, порождаемых ею.
Изложенный подход на первый взгляд мог бы предстать как очередная попытка плюралистического и релятивистского истолкования того, что называется пониманием в искусстве. Хотя это не так, здесь есть реальная проблема, от которой нельзя просто отмахнуться.
«Сколько было Гамлетов?» Так назвал свою статью Е. Сурков, полемически заостряя проблему соотношения авторского замысла и творческой его интерпретации и называя релятивистский подход к этой проблеме «теоретически ошибочным и практически опасным»[176]176
Сурков Е. Сколько было Гамлетов?//Новый мир. 1986. № 12.
[Закрыть]. Теоретическая ошибочность релятивистского решения этой проблемы (Гамлетов столько, сколько было актеров, выступавших в этой роли; впрочем, почему только актеров? добавим: и сколько было режиссеров, трактовавших величайшую трагедию, и сколько было критических и философско-литературоведческих истолкований и, наконец, сколько было зрительских и читательских смыслов, вложенных в образ принца Датского!) в том, что шекспировский замысел превращается в пустую форму, способную принять даже чуждое самому Шекспиру содержание, в том, что релятивизм не позволяет отделить подлинное высокое искусство от примитивных поделок и подделок. Релятивизм убивает истину в искусстве столь же беспощадно, как и в науке, в научном познании.
Опасность же заключается в том, что вместе с гибелью истинного понимания шедевры искусства отдаются во власть ширпотребу, принижаются до неразвитого вкуса «нижних слоев культуры», до эстетической и нравственной глухоты и слепоты, из духовной пищи превращаются в бездуховную жвачку.
Проблема, таким образом, состоит в том, чтобы соединить «живую жизнь» художественного произведения, невозможную без плюрализма пониманий-интерпретаций, с требованием конгениальности этих пониманий, без которого снимается заслон перед халтурой, кощунственным надругательством над культурными ценностями, развязными домыслами, бездарным оригинальничаньем. Возможно ли такое соединение? Сколько может быть Гамлетов?
«Гамлетов было много, будет еще больше, – отвечает Е. Сурков. – Надо только, чтобы все они, будучи разными, отличными друг от друга, были шекспировскими. И через его трагедию вели разговор с нашими зрителями о таких вопросах жизни и смерти, таких бытийственного значения проблемах, какие не только были под стать шекспировскому герою, но и, что особенно важно, актуальны, остро значимы для нашего современника»[177]177
Сурков Е. Сколько было Гамлетов?//Новый мир. 1986. № 12. С. 230.
[Закрыть]. Но что значит «быть современным и все же шекспировским Гамлетом»?
Е. Сурков прав, когда напоминает, что литературная критика обязана быть на страже подлинного искусства, его высоких идеалов. Но эта задача была бы невыполнимой, если бы оружием критики являлись шаблоны и на века неизменные критерии того, что высоко, а что ничтожно в искусстве.
Жизнь искусства – это постоянно развивающаяся, меняющаяся жизнь его понимания, непрерывный процесс обновления, созидания, восстановления и уничтожения его смысла. И эта жизнь – часть всеобщего жизненного социального процесса, культурного потока, погружаясь в который искусство обретает свой статус, свою ценность, свой смысл. Когда воды этого потока мутны, нельзя удивляться тому, что загрязняются, искажаются, получают уродливые или причудливые очертания смыслы явлений искусства. Перефразируя известный афоризм Г. В. Плеханова, можно сказать: жалкое время порождает жалкое понимание искусства[178]178
См.: Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. В 5 т. М.,1957. Т. С. 480.
[Закрыть]. И напротив, великое время, стремительный, очищающий поток культурного развития возвеличивает и искусство, высоко вознося уровень его понимания.
Эго значит, что искусство участвует в творении культуры в той же степени, в какой культура создает искусство. Шкала ценностей в искусстве не существует вне времени, вне истории человеческой культуры, она создается и пересоздается на основе более общей шкалы – соотношения ценностей этой истории. И это, наконец, значит, что смыслотворение в искусстве есть часть смыслотворения жизни.
Высокие же смыслы жизни – истина, добро, красота, – постигаемые через любовь к жизни и творимые любовью, бесконечно далеки от каких бы то ни было шаблонов и вместе с тем нерастворимы в потоках исторического бытия. В них кристаллизуется опыт бесчисленных поколений, позволяющий сохранить оптимизм, когда мы пытаемся рассмотреть будущее.








