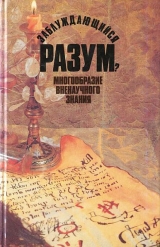
Текст книги "Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Наука и нравственность
(О духовном кризисе европейской культуры)
Н. Н. Трубников
Без умолку безумная девица
Кричала: «Ясно вижу Трою павшей в прах».
Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,
Во все века сжигали люди на кострах.
В. Высоцкий.
Песня о вещей Кассандре
Корень вопроса при обсуждении темы о науке и нравственности заключается, видимо, не просто в том, чтобы понять, как вообще соотносятся эти два явления. Само по себе их соотношение, как и соотношение их с другими формами сознания, чрезвычайно многообразно, и мы могли бы привести десятки, если не сотни самых различных его случаев, зависящих как от общей концепции и способов образования исходных понятий, степеней теоретичности или эмпиричности нашего подхода к предмету, так и от неоднозначности самих этих двух форм человеческого отношения к миру.
Что же касается сегодняшнего глубокого и острого интереса к этой теме, то он определяется, очевидно, не столько любопытной ее историей, не столько почему-то вдруг возникшим сознанием ее теоретической важности и т. д., сколько своеобразной новизной скрытого в сегодняшнем сопоставлении понятий нравственности и науки, не высказанного, но заметного в нем сомнения: нравственна ли наука? Нет сомнения, научна ли, например, нравственность– глубокий интерес заключен явно не в этом, – а именно нравственна ли наука? По крайней мере та, в которой мы сегодня участвуем и которую знаем и как некоторую форму специфического отношения человека к миру и как довольно мощную материальную силу современного общества.
В этом смысле для всех нас, имеющих какое-то отношение к науке, источник беспокойства, а с ним и повышейного интереса к теме заключается, очевидно, не просто в том, нравственно или безнравственно современное использование достижений науки, нравственно или безнравственно то или другое явление современного научного развития, даже не в том, можем ли мы и сегодня, как мы это делали последние 200–300 лет, начиная от эпохи Просвещения и до середины нынешнего века, все еще возлагать надежды на то, что научное развитие по мере достижений в области приобретения и распространения знаний сможет выработать надежную основу для решения наиболее важных проблем человеческого бытия, но в том, может ли вообще наука, как особая форма сознания, быть и оставаться высшей инстанцией при решении всех без исключения общих, т. е. и мировоззренческих, нравственных и им подобных вопросов?
В своей основе неожиданное и беспокоящее состоит, как видно, в подозрении, что принцип научности, научной объективности и строгости действительно может не оказаться, как мы надеялись и верили чуть ли не до самых последних лет, самым высоким и общим в иерархии человеческого суждения о мире.
Этот же вопрос, поставленный извне научного сознания, также заключается, по-видимому, не просто в том, могут ли люди все еще уповать на то, что наука когда-нибудь окажется способной если и не сделать сама собой их жизнь разумной и счастливой, то по крайней мере вооружить их надежным знанием способов устройства такой жизни. Более важный вопрос и более глубокий смысл сегодняшнего обсуждения темы о науке и нравственности заключается и здесь в том, может ли, хотя бы в принципе, научное, как таковое, быть источником, почвой и судьей всех без исключения человеческих суждений о мире? Не являются ли, напротив, некоторые из этих суждений, например нравственные, в общегуманистическом и мировоззренческом, пускай даже и более абстрактном смысле суждениями более высокого и общего порядка, чем суждения науки как таковой, подобно тому, как, например, научные суждения являются суждениями более высокого порядка относительно своего предмета, чем суждения здравого смысла.
Подобного рода вопросы, не столько уже решенные, сколько почти и не возникавшие, почти невозможные лет 50 или 100 назад, неожиданно оказались почему-то возможными сегодня. И не только возможными, но и чуть ли не естественными. И эта их возможность и естественность как раз и обнаруживают чрезвычайно важные сдвиги, которые произошли в сознании современного человека относительно науки и научности по сравнению с сознанием людей ближайших к нам предшествующих культурных эпох.
Естественность этих вопросов обнаруживает не только глубокое и все более возрастающее недоверие к современному научному и техническому развитию в его материальных формах, и в первую очередь к науке, как бы мы пи понимали ее: как институциированную ли форму общественного сознания, как форму ли человеческой производящей знания деятельности, как систему функционирующего в обществе и обслуживающего его потребности знания или каким-то другим образом, но и вынесенный уже над наукой и соответственно над обобщенной фигурой ученого приговор, лишающий в глазах современного общества первую полномочий высшей инстанции человеческого суждения о мире, а второго – почтенной роли служителя незапятнанно чистой Истины.
Каковы бы ни были эти сдвиги относительно других форм сознания и других плодов нашей культуры, этот приговор касается в первую очередь науки, потому что именно она сыграла если и не самую решающую, то одну из самых решающих ролей в переформировании современного мира и современного мышления о мире. Этот приговор в первую очередь касается науки также и потому, что со времен Просвещения именно она была не только самым любимым, больше всех лелеемым и больше всех обещавшим, но, к сожалению, и больше всех, как оказалось сейчас, обманувшим из всех порождений европейской образованности.
Этот, в общем-то не такой уж несправедливый приговор касается науки еще и потому, что, не желая или не находя в себе сил признаться, что современный ученый в своей основной массе давно связал себя с теми общественными формами, в которых выступает современная наука, и стал если и не «ученым лакеем», то, во всяком случае, «пролетарием умственного труда», значительнейшая часть представителей науки продолжает все еще тешить себя и других давно изжившими себя иллюзиями относительно Чистой Науки и ее благородных жрецов, служащих Прекрасной и Доброй Истине.
Вызвавшая этот приговор вина современной науки заключается, стало быть, не только в том, что она не находит в себе сил уяснить свое новое место и свою новую, не столь безупречную, как многим хотелось бы, роль в современном мире. Она состоит также и в том, что наука все еще продолжает по традиции или по легко объяснимой косности мысли не только пользоваться, но часто и злоупотреблять давно утраченным ею правом на роль высшей инстанции человеческого духа.
И если не о признании справедливости этого приговора и не об осознании этой вины, то по крайней мере об осознании утраты этой былой роли говорит сама возможность сегодняшнего обсуждения темы о нравственности и науке. Она свидетельствует о том, что нравственность и наука оказались сегодня способными поспорить друг с другом, как когда-то смогли поспорить наука и религия, что в сознании современного человека научное и нравственное перестали совпадать в самом существенном и важном, как они совпадали для большинства образованной публики прошлого. И даже больше того, то, что они встали сейчас друг против друга, свидетельствует, что именно в этом, т. е. именно в самом существенном и важном, научное и нравственное заняли различные, а нередко и противоположные позиции, что они разошлись и продолжают расходиться, а когда и сходятся, то уже отнюдь не как сотрудники и друзья.
Это расхождение и этот разрыв выражаются прежде всего в том, что критерий научности с идеалом строгого и объективного знания потерял сегодня для многих из нас достоинство высшего критерия одновременно и в нравственном, и в мировоззренческом, и в общегуманистическом смысле. Соответственно и личность ученого уже не может котироваться на рынке познания столь же высоко, как и раньше. Она не могла не потерять ореол святого и бескорыстного интереса к истине, служащей благу людей.
И дело заключается вовсе не в личностях ученых как таковых, как в пору Вольтера оно заключалось не в личностях священнослужителей. Дело вовсе не в том, что в хорошую и чистую науку проникли не совсем чистоплотные руки.
Дело в том, что сам принцип научности, как оказалось, просто не совпадает с принципом нравственности и не включает последний, как мы это раньше предполагали, в более строгое, более общее и более истинное научное содержание. Сама реальность заставила нас понять, что и это наше предположение было очередным большим заблуждением. И мы вынуждены сегодня расплачиваться за него, как и за наши прежние заблуждения, как рано или поздно нам приходится расплачиваться за все наши заблуждения.
Не поэтому ли нравственный идеал и нравственная оценка, какими бы жалкими они ни выглядели сегодня перед яркими одеждами современной науки, сколь бы малосодержательными они ни представлялись нам сегодня и ни были на самом деле, как бы архаично ни звучали сейчас для нас их суждения о добре и зле, остались вопреки всяческим ожиданиям способными снова заявить о себе и о своей чуть было не переданной «не в те руки» роли – роли другой, отличной от науки и, как кажется сейчас, более высокой и общей, чем наука, сферы человеческого суждения о человеческом.
Они оказались способными снова заявить о себе, с одной стороны, потому что добро и зло, если и не как нечто вполне объективное, то хотя бы как человеческое суждение об объективном, продолжают существовать в этом мире, в том числе и в мире чистой науки, а также и потому, с другой стороны, что нравственные оценки добра и зла, по-человечески заинтересованные и субъективные, остались за пределами строгого знания, за пределами науки как таковой.
* * *
Позволю себе пересказать здесь очень поэтичную старую немецкую легенду о могущественном горном духе Рюбецале.
Поднявшись однажды на поверхность земли, Рюбецаль был поражен зрелищем купавшейся в струях водопада красавицы. Чтобы вполне насладиться созерцанием столь совершенной красоты, дух воплотился в ворона и перелетел на ближайшее к водопаду дерево. Однако, удобно устроившись в его ветвях, ворон почему-то начал прислушиваться к карканью и принюхиваться к доносящемуся издали запаху падали. Дух быстро понял, в чем дело, и немедленно превратился в цветущего юношу.
Не в такого ли юношу должны время от времени превращаться и те, кто олицетворяет собой науку, чтобы не забыть, ради чего они, собственно, взлетели на свое дерево? И не связанностью ли с исходными интересами человеческой жизни, не с интересами знания как такового, а знания, которое должно служить благу людей, нравственно оправдывается существование науки? И если так, то не в этом ли оправдании или осуждении человеческих дел заключается и смысл нравственности и нравственных суждений о мире? Не этот ли исходный интерес сохраняет и сегодня за нравственными суждениями, десятилетиями третированными наукой как морализирование, не только право на существование наряду с наукой, а часто и в отличие от науки и вопреки ей, но и право на морализирование, т. е. на свершение нравственного суда над человеческими делами и над наукой, как одним из человеческих дел?
Это не значит, конечно, что нравственные суждения или морализирование уже по одному этому «лучше» научных суждений. Это значит, что одних только научных суждений, одного только теоретизирования, голого или чем-то прикрытого или даже вполне благопристойно одетого, нашему миру оказалось недостаточно.
Это не значит, далее, что научные суждения несовместимы с нравственными. Это значит только, что воплотившийся в ворона дух взлетел на свое дерево все-таки не ради падали. И если он забывает об этом, кто-то должен ему об этом напомнить. И пусть он остается вороном, но тогда пусть не выдает себя за духа.
Это значит, что научные суждения, «по определению» объективные, относятся к миру не «как он дан человеку» или «как он может быть дан человеку», но если и не к миру «как он есть сам по себе», то во всяком случае «как он дан строгому исследованию». Но это определение никогда не есть ни первое, ни последнее из человеческих определений. Иначе говоря, позиция строгого исследования, безупречная с собственно научной точки зрения и высшая в пределах науки как таковой, не является окончательной и высшей за этими пределами, не является окончательной и высшей с точки зрения общечеловеческой.
Это значит, что в своем исходном пункте наука взлетает на свое дерево и обращается к предмету «самому по себе» все-таки для того, чтобы иметь возможность определить этот предмет для человеческого блага. Только этим и ничем другим может быть оправдано существование науки. Если она этого не делает, она не нужна. Если она делает не это, она вредна. И каким бы чистым ни казался ее интерес к истине, если этот интерес не имеет конечной цели блага людей, он есть интерес к падали или рано или поздно превращается в таковой.
Это значит также, что и с самого начала и в конечном счете различение истины и заблуждения имеет живой смысл только тогда, когда оно есть одновременно и соответствующее различение добра и зла, когда оно основывается на той предпосылке, что истина – это хорошо для блага людей, а заблуждение – плохо. И эту оценку наука никогда не находит в своей собственной сфере. Совсем напротив, она всегда получает ее извне. И уж ей-то бы следовало знать, что скрывается всякий раз за этим «извне», потому что то, что истина – это хорошо, а заблуждение-плохо, зависит только от этого извне принесенного в науку требования.
Об этом тем более следовало бы помнить, что и сама-то истина при нынешнем расчленении знания все более перестает быть категорией науки, все более становится в сфере научного знания чем-то очень архаичным, нестрогим, чем-то к тому же в абсолютном смысле недостижимым, похожим скорее на род временного заблуждения, на исторически преходящую форму непреходящего бытия последнего. Сегодня наука ищет не столько истинного, сколько достоверного и конструктивного знания. Однако, как бы там ни было, в какой бы форме мы ни принимали то, что в классической философии называлось истиной и заблуждением, эти определения лишь извне получают определения добра и зла. И когда с точки зрения этого требования извне нужна не истина, а что-либо другое, более конструктивное или эффективное, то именно это «другое» будет хорошим, тогда как все, выходящее за эти пределы, будь то какая-то идеальная истина или простое заблуждение, равным образом будет плохим.
Иначе говоря, отношение истины и заблуждения попадает под суждение добра и зла, но вовсе не непременно совпадает с ним. Такое прямое совпадение не необходимо. Оно не вытекает ни из принципа научности, ни из принципа нравственности. И как истина может быть доброй или злой, так равным образом добрым или злым может быть и заблуждение. И если наука в принципе может (а, возможно, должна не только в принципе, во всяком случае наука о нравственности, этика, если таковая возможна как наука) выяснить истинный смысл и заблуждения человеческих суждений о добре и зле, то она тем Не менее никак не может подменить эти суждения, отменить их и заставить всех нас отказаться от них в пользу чистых суждений науки. Это невозможно потому, что чисто научное вовсе не необходимо будет одновременно и чисто человеческим.
Запись химической формулы «Циклона-Б» может быть вполне достоверной, а наше знание об основных свойствах этого вещества истинным. Однако эти истины могут быть добрыми только с точки зрения успешно завершившего работу исследователя, создававшего, как он думал, эффективный крысиный яд. Они могут быть добрыми и для научного администратора, поскольку их знание позволило ему быстро «отреагировать» на пожелание могущественного в его время гестапо. Они были добрыми, стало быть, и для гестапо. Но они никогда не были добрыми в чисто человеческом, т. е. в гуманистическом смысле. И не только «на выходе», как стало модно говорить сейчас, т. е. не только в Освенциме. Они не были добрыми и «на входе», потому что человек, позволивший себе травить животных, пускай это всего только крысы, рано или поздно позволит себе травить людей. Когда для исследователя-химика, рассуждающего как завскладом, или для заведующего складом, рассуждающего как химик, нравственно травить крыс, которые пожирают столь необходимые людям продукты, тогда и для Гиммлера или Гесса столь же нравственно травить и «не людей»: уродов, евреев, антифашистов-немцев, потерявших способность работать на Великую Германию русских. Ведь в противном случае на них тоже пришлось бы расходовать те же самые столь необходимые «людям» продукты.
Когда ученый высказывает суждения о добре и зле с точки зрения чистого интереса науки, его суждения могут быть суждениями научной этики, этики науки. Но последняя вовсе не непременно будет наукой этики, имеющей всеобщее значение, как геометрия или физика. Когда фашистский партай-фюрер высказывает суждение нравственности с точки зрения нравственных норм его партии, это будет суждение партай-нравственности, которое вовсе не необходимо сохранит нравственное определение за пределами этой партии. Скорее всего то и другое будет всего лишь суждением партикулярной нравственности, клановой, сословной или национальной, и оно вовсе не обязательно сохранит статус нравственного за пределами соответствующей партикулярности. Возможно даже, что за этими пределами оно окажется отнюдь не бесспорным, как не бесспорны для нас, например, нормы национал-социалистической нравственности.
Но я спрашиваю: в чем именно более нравствен тот человек, который изобрел «Циклон-Б» для убийства крыс, по; сравнению с тем, кто применил его для убийства людей? Разрешая себе убивать животных, не разрешал ли он и Рудольфу Гессу убивать тех, кого тот не считал за людей? Я задаю этот вопрос потому, что не с убийства ли животных – крыс, птиц, кошек и т. д. – начинается вообще убийство, о том числе и убийство людей?
Что мне ответит на это наука? Что ответит мне наша нравственность? Они будут молчать. Или они ответят, что, задавая такие вопросы, мы зайдем слишком далеко.
Ну что же! Давайте попробуем зайти далеко!
В докладе Французской академии об открытии атомной энергии (кажется в 1934 г., не очень далеко, но все же) Жолио-Кюри, как утверждают злые языки, сказал: «Если ученый окажется перед альтернативой: взорвать ради достижения истины мир или отказаться от этой истины, он должен избрать, и он изберет первое».
Эти слова, способные сегодня вызвать гнев и нравственное осуждение, были встречены, как утверждают те же злые языки, аплодисментами высокого ученого собрания и прекрасных дам в ложах для избранной публики.
О чем же, однако, говорит этот анекдот? Вряд ли о безнравственности Жолио-Кюри и аплодировавшей публики. Скорее о безнравственности тех, кто хотел бы сегодня, имея за плечами высокий человеческий авторитет Жолио-Кюри, разрешить себе особую научную нравственность в отличие от ненаучной общечеловеческой. Не нравственность ли того завскладом, или того химика, или того администратора, чтобы не идти еще дальше, хотели бы они себе разрешить?
Но этот анекдот говорит также и о том, что суждение нравственности тоже есть суждение о мире, каким бы субъективным оно нам ни казалось. Оно тоже может изменяться и изменяется, как может изменяться и изменяется мир, о котором оно выносится. То, что для Жолио-Кюри и слушавшей его публики было смелой метафорой, что рисовало в глазах публики возвышенный образ ученого большого мужества, благородной целеустремленности к высокой истине и т. д., нежданно стало как крысиный яд химика, как ликторский знак силы в единении, символом ужасного кошмара для всего современного мира, для Освенцима и Хиросимы, для Европы и Азии, стало символом угрозы повторения подобных кошмаров для всех нас.
Но этот анекдот говорит еще и о том, что за прошедшие после доклада Жолио-Кюри десятилетия строение мировой материи если и изменилось в чем-нибудь, то изменилось столь ничтожно мало, что самая точная наука ничего не скажет нам об этом. И если заметнее изменения наших физических знаний о мире, то самые коренные, неизмеримые и необратимые изменения претерпело наше отношение к предмету, о котором говорил Жолио-Кюри. Если для Жолио-Кюри атомная проблема была проблемой физического знания, проблемой открытия новых источников энергии, в конце концов даже проблемой создания нового оружия, то для нас она стала проблемой жизни и смерти человечества, культуры, каждого из нас, тех, кто живет и кто еще успеет родиться.
Истекшие десятилетия мало что изменили в предмете, о котором говорил Жолио-Кюри. Но они наполнили слова Жолио-Кюри смыслом, о котором тот едва ли мог догадываться. Значит, этот анекдот говорит также и о крайней близорукости, вопиющей узости человеческих суждений о мире, не только суждений нравственности, но даже и суждений строгой науки.
Но если суждения нравственности, говоря о добре и зле, высказывают не столько мнение, сколько со-мнение, если они не предполагают объективной истинности и являются больше проблематическими, чем аподиктическими, если они включают свой предмет, хотя и в прямую и непосредственную, но очень нестрогую связь с миром, прежде всего с миром человеческих надежд и идеалов, если они высказывают лишь человеческое отношение к предмету, его опасение или надежду и черпают уверенность не в зафиксированном факте, а в неопределенно широкой совокупности впечатлений о мире, то наука, и об этом никогда не следует забывать, свои суждения о мире высказывает в форме объективной истины и от ее имени. И мы вынуждены верить в эти истины, потому что при желании и достаточной усидчивости мы сможем проследить строгую цепь от 2x2 = 4 до Е = mc2.
И эти суждения науки, ее четко сформулированные теоремы и строгие выводы действительно хороши, потому что они истинны. Однако эти истины часто оказываются слишком уж твердыми для не столь твердого нравственного мира людей, их истинность – слишком узкой для нравственной широты человека. Поэтому эти истины вовсе не обязательно остаются хорошими за пределами науки как таковой. Они могут быть даже очень плохими, потому что при их помощи может быть построена очень хорошая с узконаучной или узкотехнической точки зрения цепь суждений от Е = mc2 до взорванной в Хиросиме бомбы. И это плохо. Это плохо не с точки зрения непосредственно научной, технической, стратегической, политической или экономической, хотя и с этих сторон, по-видимому, могут быть предъявлены какие-то претензии. Они плохи с точки зрения общечеловеческой, потому что они позволили науке злоупотребить той властью знания, которую ей вручило человечество, или, пусть это прозвучит мягче, не помешали ей передать эту власть в злоупотребившие ею руки.
Так было. И не только с бомбой. И уйти от этого нельзя. Вина за этот взрыв и за многие другие лежит не только на Трумэне или Макартуре, но и на Жолио-Кюри, Эйнштейне, Ферми и Оппенгеймере. И не только на них. Вина лежит на всех, кто имел отношение к этому взрыву. А то, что отношение к нему имели все, в том числе и жертвы Хиросимы, ни с кого не снимает нравственную ответственность. Ни с американцев, ни с японцев, ни с немцев, англичан и французов, ни с нас, русских.
Ведь в конце концов корень зла заключается не в самой по себе науке, не в том, что наука своими сопритязаниями и обещаниями оказалась в какой-то момент несостоятельной в самом высоком из возможных для человека смысле, что «знамя гуманизма», «знамя человечности» – если припомнить слова одного очень известного в свое время автора – оказалось в какой-то момент выброшенным наукой «за борт», хотя и в этом есть своя, и очень немалая, доля правды. Дело не только в том, что научность, научная объективность и строгость оказались несамодостаточными, что по отношению к суждениям нравственности они оказались суждениями более низкого порядка. Дело скорее в том, что сами наши суждения нравственности не оказались достаточно высокими в общегуманистическом отношении.
И если для науки как несамодостаточной и несамоцельной сферы человеческой деятельности чрезвычайно важно знать, из какого источника она черпает свои исходные основания и что вооружает ее конечными критериями, то для сферы нравственности еще более важно понимать ее собственные основания и критерии суждения о добре и зле. Ведь именно здесь, именно в этом пункте ни наша наука, ни наша нравственность не выдержали в самый важный момент жесткого испытания. Не только нравственность нашей науки, но и нравственность нашей нравственности оказалась в решающий момент сомнительной.
* * *
Про Пабло Пикассо рассказывают, как он нарочно разбил подряд несколько скрипок, пытаясь в зрительных образах передать звучание лопнувшей струны. Бог с ним и со скрипками. Вряд ли это были Амати или Страдивари. Но все-таки отрадно в этой связи, что, например, Паганини не был римским императором или Николай Павлович Романов – скрипачом. Неровен час, пришло бы им в голову, как когда-то Нерону, передать в звуках скрипки образ горящего Рима или затопленного Петербурга. Не знаю, как бы поступил, будучи императором, Паганини, но Николай Павлович, как известно, был очень экономный человек и, конечно, не стал бы расходоваться на плотину, скорее он нагнал бы солдат с ведрами. Еще он был очень нравственный человек. «Слава Богу, в России смертной казни нет», – говорил он и приговаривал провинившихся к скольким-то тысячам шпицрутенов.
Что это значит? Это значит вот что:
Когда художник, поставив эстетическое выше нравственного, разрушает в поисках идеальной формы реальную, это может быть опасно, а для искусства даже и смертельно. Но это еще не смертельно для человечества. Когда реальные формы жизни разрушаются во имя идеальных форм мысли, особенно если это мысль человека, располагающего императорской властью, это очень опасно. Когда четкие нравственные критерии утрачивает современный ученый, вооруженный всей мощью современной техники и поддержанный всеми «активами» современных государств, когда он «в интересах науки» и не из нравственного, а часто и из чисто «эстетического» интереса к «делу», к открытию и творчеству, как таковому, изобретает наборы ядов, атомное, бактериальное, психопатогенное и т. п. оружие, это смертельно для человечества, не говоря о том, что это смертельно и для науки.
Это смешно и глупо, это смертельно для науки, когда ученый, исходя из явно ненаучных соображений, открывает нечто вроде «опережающего отражения действительности». И это смертельно для человечества, когда другой ученый, понаторев в подобного рода «диалектической премудрости», вряд ли доступной неученой голове, изобретает «предупредительный ответный ядерный удар по агрессору».
Очень плохо, когда светило педагогики, чуть ли не наш доморощенный Януш Корчак и «учитель нравственности» из самых благих побуждений, но с чудовищной близорукостью проводит в своих трудах идеи непримиримой классовой и тому подобной нравственности. И ничуть не лучше, когда другой ученый, тоже из самых благих побуждений, отвергая исторически изжившую себя, изолгавшуюся мораль, как форму внешнего группового давления на нравственный выбор личности, противопоставляет общественной морали личную нравственность.
Я хочу задать здесь вопросы: чем нравственность одной группы объективно нравственнее нравственности другой? Существуют ли помимо права большинства, т. е. права силы, какие-либо объективные основания для предпочтения той или другой? Я также спрашиваю: не является ли моя личная нравственность моралью «другой группы»? И если она таковой не является, то есть ли мой личный выбор и моя личная нравственность форма общественного сознания человека или только форма его личного сознания? Не подсказывает ли нам здесь тень Гегеля, что следовало бы поставить вместо этого «или»? Ведь если она есть форма Общественного как такового, то причем здесь я и моя личность? А если она есть форма только личного сознания, то сознанием (co-знанием) чего с чем она является? Если в общественной морали Общество помимо меня сознает «себя с собой», то мне здесь нечего делать, к моей нравственности это не имеет никакого отношения. Но если моя личность со-знает себя только с собой, то где тогда мне, помимо собственного произвола или собственного нравственного разумения, искать основания как для суждения о своих собственных поступках, так и о нравственности или безнравственности других? Как бы я мог осудить безнравственный, с моей точки зрения, поступок другого, если он совершен в полной гармонии с личным нравственным сознанием этого человека, если, допустим, фашистский лидер действовал в полном согласии со своими фашистскими убеждениями? Ведь дело, видимо, совсем не в том, что эта его нравственность всякий раз поощрялась господствующей моралью. Ведь если бы это было так, то пусть не Рудольф Гесс, Аракчеев или любезнейший Леонтий Васильевич Дубельт, которые действительно поощрялись сверху, то Гитлер или Николай I выйдут у нас в образец высокой нравственности.
Я прекрасно понимаю, что только моя личная совесть есть подлинная арена нравственных битв. Но я спрашиваю, что есть моя личная совесть, вполне ли автономная величина или со-весть чего-то с чем-то?[179]179
Язык – это не только душа, но и мысль, вечная мудрость народа, и у него (и у языка, и у народа) всегда можно многому поучиться. Случайно ли, например, что многие положительные нравственные понятия имеют в русском языке приставку «со»: совесть, сомнение,
сознательность, сочувствие, сострадание, содружество и т. д., тогда как отрицательные – «само»: самолюбие, самомнение, самодурство, самохвальство и т. д.?
Не следует, правда, абсолютизировать эту закономерность, так как за пределами нравственных понятий она уже не имеет такого смысла, и в слове, например, «самовар» уже нет ничего отрицательного, как в слове «соглядатай» – положительного. Эти слова, как и слова «собутыльник», «сотрудник» и т. п., находятся уже за пределами нравственности.
[Закрыть] И я не совсем уверен, что она, как и мое со-знание, есть только мое личное достояние и мое личное дело, а не форма связи моего личного с человечески-общественным. Кроме того, я еще менее уверен, что мой личный нравственный опыт, т. е. лишь одна из половинок со-вести, как и нравственный опыт той социальной группы, к которой я принадлежу по прихоти судьбы, условиям рождения или образа жизни (часть другой половинки, но еще не вся другая половинка), окажется в самый важный для меня момент более полным и в этом смысле более ценным, чтобы не сказать– более истинным, чем опыт целого, чем сопоставление моего личного нравственного опыта с доступным мне нравственным опытом всего человечества.
Я прекрасно понимаю, что современное общество открывает широкие двери для нравственно нечистоплотного использования преобладающих в нем форм морали. Но ведь оно открывает также возможности и для подобного же использования норм права, что еще не дает мне основания, если я не порвал с обществом как преступник, навязывать ему свое личное право. Это дает мне только основание спросить: право ли то право, которое допускает бесправие, и моральна ли та мораль, которая позволяет безнравственность?
Мне говорят, что и господствующая в обществе мораль, и господствующее в нем право всегда имеют предусмотренную законом «конфетку», чтобы поощрить меня следовать их нормам. Но я спрашиваю: не ту ли «конфетку» получаю я, действуя вопреки морали и праву, и не действую ли я вопреки морали и праву, чтобы все-таки получить не одним, так другим способом столь привлекательную для меня «конфетку»? И тогда я спрашиваю: не только моральна ли та мораль, которая разрешает безнравственность, но и нравственна ли та нравственность, которая разрешает аморальность? И еще я спрашиваю: где предел этого дробления?








