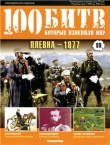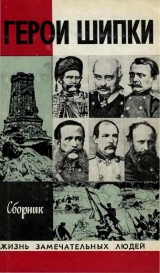
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Мысли Верещагина о войне во многом складывались под влиянием Скобелева. Немирович-Данченко называл генерала фанатиком военного дела, но приводил слова Скобелева, опровергающие это утверждение: «Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости... Черными пятнами лежат на королях и императорах войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов»...
В Сан-Стефано Скобелев потерял сон:
– Что будет, что будет с Россией, если она отдаст все... Зачем была тогда эта война и ее жертвы!
Берлинский конгресс, который почти свел на нет все сделанное, приводил его в бешенство. Позже Скобелев говорил:
– Я не люблю войны. Я слишком часто участвовал в ней. Никакая победа не вознаграждает за трату энергии, сил, богатств, за человеческие жертвы. Но есть одна война, которую я считаю священной...
Он стоял за освобождение и объединение славян.
– Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого. Одно только общее – войска, монета и таможенная система. В остальном живи как хочешь и управляйся внутри у себя как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне. К тому же времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее...
Он предвидел, что извечная угроза немецкого нашествия минует не скоро. О Бисмарке он сказал: «Ненавижу этого трехволосого министра-русофоба, но вместе е тем и глубоко уважаю его как гениального человека и истого патриота, который не задумается ни перед какими мерами, раз идет вопрос об интересах и благе его отечества...»
И обещал в будущей войне обойтись с немецкими вояками по-немецки.
Верещагин журил Скобелева за горячность в публичных выступлениях. Генерал, наверно, вспомнил это, когда однажды, много позже, на торжественном обеде велел наполнить свой бокал чистой водой, чтобы не кивали, будто он в подпитии, и сказал:
– Если русский человек случайно вспомнит, что он благодаря своей истории все-таки принадлежит к народу великому и сильному, если, боже сохрани, тот же русский человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, тогда в среде известных доморощенных и заграничных иноплеменников подымутся вопли негодования... Почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то страшная робость, когда мы коснемся вопроса, для русского сердца рполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории?
Скобелев утверждал, что «космополитический европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в неразрывной связи с народом».
Побывав в Германии на маневрах, Скобелев приехал в Париж, где рни вели с Верещагиным долгие задушевные беседы. Это тогда генерал, получив приветственный адрес от сербских студентов, высказался весьма резко:
– Почему Россия не всегда стоит на высоте своих исторических обязанностей вообще и славянской роли в частности? Это потому, что как внутри, так и извне ее ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. Мы не хозяева в своем доме. Да! Чужеземец у нас везде... Если, как надеюсь, нам удастся когда-нибудь от них избавиться, то не иначе как с мечом в руках...
Скобелева возненавидели за это не только в Германии, но и в России, где и царская семья, и большая часть ее окружения либо были иностранцами по крови, либо носили немецкие фамилии. Не случайно за свои радикальные ролитические взгляды и публичные выступления в защиту балканских народов против агрессивной политики Германии и Австро-Венгрии Скобелев был отозван императором Александром III из Парижа. Обстоятельства
странной смерти генерала, не достигшего сорокалетпего рубежа, до сих пор неясны.
Скобелев был талантливейшим военачальником, придерживавшимся прогрессивных взглядов в военном искусстве. Освободительная война создала ему большую популярность в России и Болгарии, где его именем названы улицы, площади и парки во многих городах.
Верещагин, узнав о смерти Скобелева, написал Третьякову: «Я телеграфировал Вам, просил подробностей о СхМертц Скобелева – не откажите. Поди, император сожалеет теперь, что шельмовал Скобелева».
Сожалений не было. Верещагин не догадывался еще, что чувством ответственности перед историей наделены очень и очень немногие из стоявших у власти в те времена.
Отношения Верещагина с царским двором после войны испортились безнадежно. Через восемь месяцев после того как художник напрасно прождал приема у наследника в Аничковом дворце, будущий Александр III приехал в Париж и изъявил желание посетить мастерскую Верещагина. Но художник сказал посланцу наследника:
– Пусть его высочество не изволит трудиться, ибо я не желаю показывать ему свои работы, как он не пожелал видеть .мою картину.
Вернувшись из Болгарии, где поклонился могилам и набрасывал пейзажи для будущих картин, художник, руководствуясь правилом доводить до конца любую работу, дописывал индийские мечети и помпезные процессии слонов, однако мысли его возвращались к раненым, к их мукам, перед глазами стояло поле под Горным Дубняком, убитые и замученные егеря, едва присыпанные землей, торчащие из нее руки и ноги, отрезанные головы с кровавыми крестами на лбах... Щемило грудь, и Верещагин «всплакивал» едва ли не каждый день. А уж когда взялся за сами картины, то и вовсе приходилось проглатывать слезы и прятать заплаканные глаза от прислуги и рабочих, то и дело наведывавшихся в мастерскую со своими хлопотами и привыкших видеть хозяина всегда сдержанным и даже суровым.
Было задумано и написано тридцать полотен. Верещагин стремился к максимальной верности натуре и потому во второй раз съездил в Болгарию, побывав теперь уже под Плевной, о чем и написал Третьякову: «Не могу
321
21 Герои Шипки
выразить тяжесть впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии, в особенности холмы, окружающие Плевну, давят воспоминаниями. Это сплошные массы крестов, памятников, еще крестов и крестов без конца. Везде валяются груды осколков, кости солдат, забытые при погребении. Только на одной горе нет ни костей человеческих, ни кусков чугуна, зато до сих пор валяются пробки и осколки бутылок шампанского, – без шуток. Вот факт, который должен остановить на себе, кажется, внимание художника, если он не мебельщик модный, а мало-мальски философ... Так я и собрал на память с «закусочной» горы несколько пробок и осколков бутылок шампанского, а с Гривицкого редута, рядом, забытые черепа и кости солдатика да заржавленные куски гранат».
Верещагин написал картину «Под Плевной». Слева затянутое дымом поле боя, справа царь и великий князь в креслах, а позади них свита. Никакого движения на картине. Смотрят. И бездействуют. Да, бездействие – это и есть главное впечатление, которое вынес художник от своего пребывания поблизости от тех, кто должен был руководить боем. Лев Жемчужников, его друг, писал потом, будто он изобразил рядом со свитскими пирамиду из шампанских бутылок, а потом закрасил. Неверно это. Он не карикатурист. Шампанское было до боя. И он не мог написать неправды. «Правда злее самой злой сатиры». Исправлял он картину? Да. Отрезал слева кусок, слишком удлинявший композицию.
И в картинах «Перед атакой», «Атака», «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной», «Транспорт раненых» он стремился к правде, мучился, переделывал вещи по нескольку раз, каждый день собирался рвать холсты, а потом все-таки добивался целостности восприятия... И в других картинах, в «Победителях», где турки мародерствуют, добивают раненых, сдирают с них мундиры и напяливают на себя, в «Побежденных», а иначе в «Панихиде по убитым», он ничего не преувеличил. Разве что в триптихе «На Шипке все спокойно» он позволил себе намек на преступную беспечность Радецкого и других, и вместе с тем это гимн мужеству и самоотверженности русского солдата, погибающего, но не оставляющего своего поста... И не он ли воспел победу в картине «Шипка – Шейново»? Солдаты и Скобелев. Прежде всего солдаты...
Его картины называют батальными.
– Это картины русской жизни, русской истории! – говорил упрямо Верещагин.
А как он работал! Уверяют, что все дело в «быстроте», с которой он пишет свои картины. Мыслимое ли дело написать за два года столько полотен? Слухи расстраивали художника, и он потом ответил на них так:
«Не менее 12 часов работы в сутки, никогда никаких приемов или визитов буквально. «Непокладание кисти» – при таких условиях два года стоили, наверное, четырех лет обыкновенных, да и то еще сильных занятий. Воображаемая «быстрота» моя сводится на из ряда вон выходящую трудолюбивость, чистую боязнь терять время в праздности. Только желудок и кишки, причинявшие сильнейшую боль, когда я принимался заниматься сейчас после еды, заставляли меня отдыхать часа два в день; остальное время изо дня в день я работал и работал... Уставал я так, что не знал, буду ли в состоянии продолжить на другой день, и, конечно, опять принимался. И во время еды, и во время отдыха или поездок думал о картинах и об недостатках исполнения. Лихорадки, которым за это время я беспрерывно подвергался, были, как я теперь убедился, часто изнурительного характера, хотя и имели свое начало в лихорадочном яде, захваченном на Востоке».
Болезненное состояние и неприятности навевали мрачные мысли. Верещагин ложился в постель с мыслью о близкой смерти, с нею вставал утром... И он торопился в мастерскую, чтобы успеть сделать хоть что-то, прежде чем умрет...
Но это неправда, что изнурительная работа сокращает жизнь. Безделье убивает быстрее.
17. За миг до гибели
31 марта 1904 года, через двадцать пять лет после завершения работы над картинами русско-турецкой войны, художник Верещагин чувствовал себя как нельзя лучше.
Он стоял на мостике броненосца «Петропавловск» рядом с адмиралом Макаровым. Дул порывистый холодный ветер, но адмирал не запахивал шинели, разгоряченный и взволнованный. На горизонте маячил флот японского адмирала Того. Макаров энергично распоряжался. «Ходит по-скобелевски, что твой тигр или белый медведь...» – отметил про себя Верещагин. Художник набрасывал в альбом видневшиеся вдали японские корабли с такой точностью и быстротой, что вызвал у всех на мостике неподдельное изумление. Макаров то и дело останавливался возле художника, заглядывал ему через плечо и одобрительно хмыкал.
Всего несколько дней назад они встретнлнсь на одной из улиц Порт-Артура.
– Приходите сегодня ко мне, – сказал Макаров, – потом поедем топить судно на рейде, – загораживать японцам ход.
С тех пор они не расставались. Им было о чем поговорить. Адмирал окончил морской корпус шестью годами позже, но в русско-турецкой войне участвовали оба. Макаров тогда с большим успехом, чем Верещагин, подрывал минами турецкие корабли. Верещагин недавно вернулся из Японии. Адмирал и художник делились впечатлениями об этой стране и ее фантастически быстро выросшей военной мощи. Художник Владимиров, присутствовавший при одной из их бесед, написал впоследствии о том, как Верещагин и Макаров «возмущались нравами, царившими при петербургском дворе, придворными интригами, грязной подоплекой ряда военно-государственных дел, поставивших Россию в тяжелое положение перед лицом внешнего врага».
И адмиралу и художнику пришлось немало перенести в их патриотическом старании о славе и силе России. Но все разваливалось из-за косности царствующего дома, окружившего себя интриганами, а то и просто врагами страны, действовавшими по принципу «чем хуже, тем лучше».
Верещагину эти разговоры с Макаровым напомнили мытарства с его картинами о русско-турецкой войне, которые ему так хотелось оставить в России н неразрозненными. Но правительство не покупало их. Оп тогда бедствовал, задолжал всем, даже у братьев брал по мелочам. А ведь обещал помочь всем и в первую очередь родителям. Не дождался помощи отец, помер. Не помог ему сын, заслуживший уже мировую славу. Тогда художник написал брату Александру: «Биографии мои теперь так и сыплются. То-то счастье, что называется, на брюхе шелк, а в брюхе щелк! Что-то недостает от того, что не могу поделиться успехом с милым розовым старичком, который ушел от нас. Что мама?.. Кабы дотянуть до времени, когда буду в состоянии предложить ей проехаться в теплый климат! Надеюсь, недолго до этого, но как бы не свернулась и она раньше этого; папа милый только выслушал обещание. Дырявые галоши его не идут у меня из ума – вот истинная нравственная казнюшка».
От него хотели, чтобы он лицемерил, вымарывали из его воспоминаний о войне все, что он писал о злоупотреблениях и несправедливостях, все его предложения, которые, по его мнению, способствовали укреплению боеспособности армии. Третьяков и то советовал ему переключиться на воспевание одних лишь подвигов и не увлекаться показом страданий... За границей успех его выставок был оглушительный – толпы выламывали двери, врываясь в залы. Ему давали любые деньги за картины, говорили, что это «эпоха», «новые горизонты», а он отказывался, готов был на что угодно, лишь бы они остались на родине. Но где там! Наследник, памятуя свой парижский афронт, сказал человеку, склонявшему его на покупку верещагинских картин:
– Читая этот каталог и тексты к картинам, я не могу скрыть, что мне противны его тенденциозности, оскорбляющие национальное самолюбие, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек!
А на выставку в восьмидесятом году пришло в Петербурге двести тысяч человек. Какие жаркие схват;;! вспыхивали в залах! Одни говорили, как наследник. Другие, вроде писателя Данилы Мордовцева, восклицали:
– Этот ужас, который я испытываю перед картинами, возвышает в моих глазах подвиг русского народа таи, как не возвысили бы тысячи других батальных изображений его храбрости!
Радикалы гнули свою линию:
– Республику в Болгарии побоялись установить, а посадили на престол Александра Баттенберга; но все же, хотя при немце, дали конституцию, а Россия, обагрившая кровью болгарские поля, продолжает оставаться рабской страной...
Революционеры использовали картины Верещагина для своей пропаганды.
Выставку пожелал увидеть царь. Великаны-гвардейцы перенесли на руках полотна в Зимний дворец. Сам художник показывать свои картины не пошел, а послал брата Александра, но того без церемоний удалили из белого Николаевского зала, и царь смотрел один. Александр II воздержался от каких-либо замечаний, но ему нашептывали, что будто бы в Париже картина «Под Плевной» имела табличку «Царские именины».
Верещагин был издерган до крайности. Разругался со Стасовым. Особенно после того как критик хотел свести художника со Львом Толстым, а тот внезапно уехал в Москву, и его напрасно ждали в Публичной библиотеке. Верещагин написал Толстому злое письмо. И Стасову написал: «Больше батальных картин писать не буду – баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого...»
Он вроде бы окончательно бросил кисть и взялся за перо. И тут попадал в больные места. Писал о необходимости теплой одежды для солдат – вычеркивали. Написал, что ружья нужны хорошие, тоже не прошло. Писал хлестко: «Недаром солдаты -наши под Плевной в отчаянии хватали за штык свои тяжелые, переделанные ружья с засорившимися, недействовавшими более замками и разбивали их об земь: коли, дескать, нет от тебя толку, так и не живи же ты на свете... Постыдились признаться в том, что знала и громко говорила вся армия, именно, что наши переделанные ружья никуда не годятся в сравнении с турецкими. Так армия и Балканы перешла с кренковскими дубинками, а десятки тысяч ружей Пибоди пролежали грудами под снегом». Последнее было камнем в огород Дмитрия Ивановича Скобелева, отвечавшего за трофеи. Зато Михаила Дмитриевича Скобелева он ставил в пример всем при всяком удобном случае...
Картины он не писал, но выставки свои устраивал во всех европейских столицах. Клеветники говорили, что картины Верещагина годны для украшения султанского дворца, а в Вене турецкий консул демонстративно ушел с выставки, заявив, что художник возводит напраслину на турок и чрезмерно возвышает русских. В Берлине сухопарый фельдмаршал Мольтке, посмотрев выставку, запретил офицерам посещать ее. В Париже некий Цион, владелец выставочного зала, нахальный тип, вздумал нагрубить Верещагину. «Тогда я ударил его по роже 2 раза шляпою, которую держал в руке; на вытянутый из кармана револьвер я вынул свой и направил ему в лоб, так что он опустил свое оружие...» – писал художник Стасову.
Но это были все мелкие неприятности на фоне гигантского успеха, многотысячных очередей на выставки, обвала газетных статей, согласно твердивших о Верещагине как о гениальном художнике. Торговцы картинами всей Европы осаждали его с самыми выгодными предложениями. Мечта Верещагина отдать все картины в одни руки не исполнилась. Часть их купил Третьяков (и недорого), часть Терещенко, а остальные ушли за грапи-цу. Большую часть полученных денег Верещагин раздал на художественные школы.
Истинный художник не может бросить своего дела. И рука снова потянулась к кисти. Поездить бы по России, «это более заняло бы голову, чем разные Индии; но ведь теперь это положительно немыслимо, затаскают по участкам и канцеляриям за разными дозволениями...». После балканской серии это действительно было немыслимо, и он поехал в Индию. Он писал изумительные этюды и портреты, но ему было скучно. Впрочем, один сюжет увлек его – «Подавление индийского восстания англичанами».
– Уж это проберет не одну только английскую шкуру, – сказал Верещагин, выписывая пушки и привязанных к их дулам индийских крестьян.
Английские газеты кричали о клевете, а на одной из выставок старенький сухонький отставной английский генерал, всмотревшись в картину, сказал горделиво, что это он первый придумал такой способ казни.
Художник рвался на родину. Франция ему надоела.
– Французы – великие поборники свободы, но с нею не очень церемонятся, – говаривал он.
Художник все чаще приезжал в Россию, писал Кремль, работал в старинных русских городах. Он восторгался памятниками старины и выступал публично в их защиту. Он писал портреты простых русских людей и выставлял их в Нью-Йорке. Тамошние газеты заявляли: «Верещагин производит великие творения свои не ради искусства, но ради человечества вообще и в особенности ради русской народности...» В Америке художника носили на руках, но это не помешало торговцам – «сутенерам искусства» – ободрать его как липку. Он убедился, что гигантские цены, о которых сообщают в газетах, – фальшивка, нужная торговца'.!, чтобы потом выгоднее торговать произведениями искусства. Художник не пошел на сделку с бизнесменами, и они, сговорившись, сбили цены на аукционе, и более ста картин были куплены по низкой цене.
– Великий художник и совершенный младенец для жизни практической, – говаривал Стасов о Верещагине.
А деньги художнику были нужны. В жизни его произошла большая перемена. В Америке он нашел свое счастье...
С Елизаветой Кондратьевной он все-таки обвенчался, однако отношения их оставляли желать лучшего. В январе 1890 года он писал ей: «Доверие мое к тому, что ты можешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится; держать тебя взаперти в деревне я не могу и не хочу, а следить, присматривать за тобой мне просто противно – ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда...»
Художник не видел своей легкомысленной жены уже несколько лет. Он предлагал ей развод или свободу и просил лишь, чтобы она не наносила позора имени, которое носила.
Еще в Нью-Йорке условлено было, что он проедет с выставкой по всем крупным американским городам. И он решил – на русской выставке должна звучать русская музыка. И вот московская филармония получила письмо с просьбой прислать в Америку хорошую пианистку. Выбор пал на Лидию Васильевну Андреевскую. Вопреки воле родителей она двинулась в «безумное» путешествие за океан.
Ей было двадцать три года, Василию Васильевичу – сорок шесть. Тихая, задумчивая, прилежная, она понравилась Верещагину, но он не сразу разглядел ее неброскую красоту, тем более что Лидия Васильевна характер имела замкнутый. Когда его пленила женственность Лидии Васильевны? Тогда ли, когда он решил, что ей надо сидеть за роялем в русском народном костюме, и жемчуга нарядного кокошника заставили светиться бирюзой ее светлые глаза? Или во время долгих бесед, когда он изумился ее глубоким познаниям в живописи и литературе? Как бы то ни было, но Лидия Васильевна, Лида, стала необходима ему ежечасно, ежеминутно, а с рождением первого ребенка, девочки, появились заботы о собственном доме, который хотелось непременно построить в России. Дети должны расти на родине. Вот тут-то и понадобились ему деньги...
Покончено было со всеми ссорами и дрязгами эпизодического совместного жития с Елизаветой Кондратьев-ной. Верещагин высылал ей тысячу рублей в год и обещал (и выполнил обещание) платить эти деньги пожизненно. Художник не сразу получил развод, но это было уже неважно. Его переполняла нежность к Лиде и детям, с которыми он перебрался жить под Москву, в Нижние Котлы, где вырос большой дом с просторной мастерской.
Характер у художника был тяжелый. Неприятности делали его раздражительным, он не выносил никакого прекословия к семье, кричал на Лиду, а потом мучился сам. Во время одной из разлук перед переездом в Россию он написал Лидии Васильевне:
«Правду тебе сказать, никогда еще неизвестность так не тяготила меня, как теперь. Что-то будет? Как-то я буду работать? А главное, самое главное – будем ли мы дружно жить?.. При малейшей ссоре, малейшей неприятности с тобою у меня все застилает в глазах, все делается немило, начиная с тебя самой, работы делаются противны, просто хочется какую-нибудь пакость сделать, хоть бы это стоило боли страдания».
Но время сглаживало шероховатости семейной жизни. Верещагин стал мягче, спокойнее. Во время частых путешествий он тосковал по жене и детям, привязанность к которым в его возрасте становится особенной, и он писал письма нежные и тревожные.
Россия, ее природа и люди, полностью завладела помыслами художника. Он все время в пути... Нет числа пейзажам, портретам, статьям – этим его объяснениям в любви к родине. И он обратился к прошлому отечества, как бы предвидя грядущие испытания мужества и стойкости русского народа. Семнадцать лет он отдал серии картин о событиях 1812 года. И снова правительство не захотело их приобрести. Тот, у кого нет будущего, не проявляет интереса и к прошлому. В отчаянии Верещагин хотел «предать казни», сжечь всю серию картин. Русские эмигранты, издававшие в Лондоне газету, запрещенную в России, писали, что картины о народной войне 1812 года заставляют биться русское сердце от восторга за Верещагина, что в них выражена справедливая мораль: «Всякий захватчик, который думает о покорении России, осужден на гибель!»
Предчувствуя приближение новой войны, Верещагин в своих статьях все чаще вспоминал балканские события, предостерегал от беспечности. Он рассказал о Шипке и считал необходимым, «чтобы солдат наш, с одной стороны, возможно развился нравственно и физически, с другой – сбросил бы с себя немецкий облик... и, одетый в полушубок, с теплыми рукавицами и носками, наловчился бы во всех маневрах, изворотах и движениях зимой... Одна уверенность иностранцев в том, что войска наши, тепло одетые, обучены по-домашнему устраиваться в снегу, на больших морозах, отобьет охоту у ближних и дальних соседей постоянно собираться к нам в гости, стращать, что вот-вот придут. Милости просим – поиграем в снежки!»
Пацифизмом, который ему часто приписывали, от этих слов и не пахнет.
Правительство вынуждено было публиковать официальные опровержения, звучавшие смешно. В заявлении военного министерства говорилось:
«Вообще генерал Радецкий жил на Шипке в чрезвычайно тяжелых условиях и если играл в свободное время в карты (по очень маленькой ставке), то самая эта игра действовала успокоительно на окружающих...»
Возмутился даже бывший начальник скобелевского штаба генерал Куропаткин, написавший:
«Радецкий, чтобы не тревожить Россию, доносил, что «на Шипке все спокойно», и это в то время, когда вверенные его командованию войска самоотверженно умирали, засыпаемые снегом. Знаменитая картина В. В. Верещагина верно передает то, что в снежные бураны переживали наши герои офицеры и солдаты на шипкинских позициях».
Отправившись в 1903 году в Японию, художник видел не одни лишь экзотические картины быта и природы этой страны. Тотчас по возвращении он сказал при встрече с Репиным:
– Японцы давно превосходно подготовлены и непременно разобьют нас... У нас еще нет и мысли о должной подготовке к этой войне... Разобьют, голову дам на отсечение – разобьют!
Он написал несколько писем лично Николаю II, делясь своими впечатлениями о японской военщине и пытаясь дать полезные советы. Ему не ответили. Японцы атаковали русскую эскадру в районе Порт-Артура без объявления войны в феврале 1904 года, но еще в январе, уже зная твердо, что это произойдет, художник написал Куропаткину:
«Пожалуйста, устройте мое пребывание при Главной квартире Вашей ли или другого генерала, если дело дойдет до драки. Напоминаю Вам, что Скобелев сделал бы это...»
Верещагин понимал, что Куропаткин – это не Скобелев. Сильные люди в ветшающей империи были не в почете. Если они и появлялись, то их ждало либо забвение, либо гибель... И все же художник соглашался стать ординарцем у любого генерала и выехал на Дальний Восток уже в феврале. Он хотел всюду поспеть, побывал в Мукдене и Ляояне, добрался до Порт-Артура...
И вот он стоит на мостике «Петропавловска» с альбомом в руке.
Утром, переходя с крейсера «Диана» на броненосец «Петропавловск», Степан Осипович Макаров сказал Верещагину:
– Василий Васильевич, вернитесь в порт. Будет бой, и бог знает, кто из нас уцелеет. Вы нужны России....
– Степан Осипович, я приехал в Порт-Артур не ради праздного любопытства, а именно для того, чтобы запечатлеть морское сражение, – почти раздраженно ответил художник.
Броненосцы «Петропавловск», «Полтава», «Победа», «Пересвет» и другие русские суда атаковали эскадру японских крейсеров, пока на горизонте не показались главные силы неприятельского флота.
Макаров называл художнику вражеские броненосцы, а тот быстро набрасывал их силуэты. Сил у японцев оказалось больше, чем в макаровской эскадре. Адмирал приказал ей отходить на внешний рейд, чтобы принять бой при поддержке береговой артиллерии. Верещагин пошел на корму броненосца...
Часы показывали 9 часов 34 минуты утра, когда палуба под художником всколыхнулась от взрыва. «Петропавловск» наткнулся на мины, поставленные японцами. Тотчас взорвались торпедный погреб и паровые котлы броненосца. Через полторы минуты он, зарывшись носом в воду, ушел в глубины Желтого моря.
Из семисот с лишним человек команды другие корабли подобрали лишь семь офицеров и пятьдесят два матроса. Минный офицер Иениш рассказал о последних секундах жизни художника Верещагина:
«Смотрю, на самом свесе стоит группа матросов и среди них в расстегнутом пальто Верещагин. Часть пз них бросается в воду. За кормой зловеще шумит в воздухе винт. Несколько секунд – и взорвались котлы. Всю середину корабля вынесло со страшным шумом вверх. Правая 6-дюймовая башня отлетела в море. Громадная стрела на спардеке для подъема шлюпок, на которой только что ост шовился взгляд, исчезает из глаз, – я слышу над головой лишь басистый вой... Взрывом ее метнуло на корму, и место, где стояли еще люди и Верещагин, было пусто – их раздробило и смело...»
О чем он успел подумать за мгновенпе до гибели?
Наверно, кат; и любой русский воин, о жене, о детях, о родине. И еще о том, что совесть его чиста...
II
Антим Костов
(Болгария)
ВОЕВОДА – КАПИТАН ЦЕКО ПЕТКОВ
Война наконец объявлена. В Плоешти 1877 года раздаются громкие команды, дробь барабанов, блестят медные трубы. Велпкий князь Николай Николаевич принимает парад. Возле него стоит седой воевода Цеко Петков-Долгошевскн. Над дружинами болгарских ополченцев развевается Самарское знамя.
Вот старый дед Цеко вбивает золотой гвоздик в древко самарской святыни и взволнованно произносит:
– Да поможет бог пройти этому святому знамени из конца в конец несчастную землю болгарскую! Да осушит его шелк скорбные очи наших матерей, жен п дочерей! Да бежит в страхе все нечистое, злое перед ним, а за ним станут мир и благоденствие!
Седовласый воевода подводпт к главнокомандующему передовой отряд специального назначения, состоящий из болгарских ополченцев.
Вслед за тяжелыми боями под Плевной начинается последний для старого заслуженного воина победоносный поход.
Шеститысячная армия генерала Павла Петровича Карцева пробивается через заснеженный и непроходимый
Троянский перевал. У Курт хисара (Волчьей крепости) турецкие войска и орды башибузуков встречают освободителей ураганным Огнем.
Полковник Греков и майор Духновский ведут свои полки в атаку. Страшен удар в штыки. Но турки, укрывшиеся за скалами и камнями, не отступают. Бой затягивается. И в тот момент, когда напряжение достигает наивысшего предела, позади турецких позиций на белом фоне горы неожиданно появляется крупная фигура деда Цеко. И громовое «ура!» несется с обеих сторон турецкой крепости. «Летучая» дружина воеводы врезается в самый тыл вражеского расположения. Враг ошеломлен, разбит, смят. Бой прекращается. Последний бой... Генерал Павел Карцев обнимает седовласого воина: «Белый орел!
Настоящий болгарский атаман!»
На следующий день над вершинами Балкан – солнце, свет, простор. Вся Южная Болгария лежит как на ладони...
* 9 9
Долог был путь легендарного героя болгарского ополчения от Гайдуцкой долины и Метковеца до этих мест.
Какое тогда было лето? – 1827-е. Ему минуло всего двадцать лет, когда с «князем» 9 Иваном Кулиным и несколькими юнаками он перебил турецких стражников свирепого анадольца Арата Пехливана.
В 1835 году – как раз на праздник Вознесения (Спасов день) он развернул знамя мятежа в Манчово.
1841 год. С поникшей головой он стоит у пирамиды черепов: это уничтоженные завоевателями участники Нишского восстания. А в июле он получает печальную весть: отряд сербского капитана Татича, с которым воевода должен был идти на янычар от берега Дуная, разбит...
В 1856 году население его родных Долгошевцев избирает воеводу правителем, или «князем». Он защищает освящение новой болгарской церкви, сбросив греческого владыку Венедикта, потворствовавшего поработителям, в глубокий овраг.