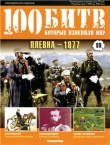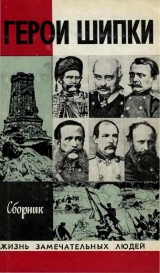
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Теперь уже турки были близко. Они осыпали русских пулями из своих дальнобойных ружей Пибоди, оставаясь в пределах недосягаемости. Художник сел писать, а генерал собрался на рекогносцировку. Стоявший рядом с Верещагиным Куропаткин вскрикнул и упал. Его тяжело ранило навылет. Он все просил сказать, не смертельна ли рана.
Скобелев велел унести Куропаткина и отер слезы. На рекогносцировку он поехал вместе с Верещагиным.
Вскоре им пришлось спешиться. Художник шел слева от генерала и с тревогой прислушивался к назойливому свисту пуль.
«Вот сейчас тебя, брат, прихлопнет, откроют тебе секрет того, что ты хотел знать, – что такое война!» – думал художник.
Он наблюдал за Скобелевым, за лицом генерала, за руками. Боится ли тот хоть немного? Нет, лицо спокойно, руки в карманах. Походка с развальцой. Кажется даже, что он замедляет шаг.
Лишь оказавшись в безопасном месте, Скобелев сказал:
– Ну, Василий Васильевич, мы сегодня прошли сквозь строй!..
Это художник знал и сам, его интересовало, что испытывал Скобелев.
– Скажите мне откровенно, – сказал Верещагин, – неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?
– Вздор! – ответил генерал. – Меня считают храбрецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, когда начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится.,. Когда под Плевной меня задела пуля и я упал, мой первая мысль была: «Ну, брат, твоя песенка спета!»
Художник был доволен. Уж больно терзала мысль, не трус ли он сам.
– Я взял себе за правило, – добавил генерал, – никогда не кланяться под огнем. Раз позволишь себе сделать это – зайдешь дальше, чем следует... Кстати, Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Нет ли беспорядка? Вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?
– Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.
– Да разве я горячусь?
– Есть немножко...
Верещагин подумал о том, как еще вчера недовольный генерал раздавал оплеухи, а потом пытался шутками задобрить пострадавших.
В этот день атака не состоялась. Не подоспели пушки и кавалерия. Начальник бригады болгарского ополчения князь Вяземский доложил, что доставить орудия к вечеру невозможно. Скобелев и не настаивал. Верещагин сравнил про себя – Гурко приказал бы: «Втащить зубами!» Со стороны колонн Святополк-Мирского доносился шум боя.
Скобелев метался.
– Василий Васильевич, хорошо ли я сделал, что не штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что это я нарочно, будут упрекать... Я подам в отставку!
– О какой отставке вы говорите! Вы сделали все, что могли. Отвлекли часть турецких сил... Штурмовать с одним полком было немыслимо.
14. Шипка – Шейново
С утра густой туман скрыл от турок подходившие русские колонны. Верещагин выполнял обязанности ординарца, передавал приказы выступать. Заговорила и артиллерия.
Турки защищались отчаянно и отбили первую атаку.
– Музыку сюда! – приказал Скобелев.
Теперь Долина Роз напоминала Верещагину парадный Царицын луг. Полки шли под звуки маршей. Заметив, что одно из знамен в чехле, Верещагин подскакал к командиру и приказал развернуть знамя.
– По чьему приказанию? – спросил командир.
– Генерала Скобелева.
Турки осыпали снарядами Скобелева и его штаб.
– Да разойдитесь вы! – кричал генерал. – Черт бы вас побрал! Перебьют вас всех, дураков!
Когда новый начальник штаба отъехал куда-то по делам, оформлять письменно приказы Скобелева пришлось художнику. Это оказалось чистым наказанием. Скобелев в энергичных выражениях приказывает начальнику кавалерии генералу Дохтурову действовать решительнее.
А записку не подписывает.
– Это старый генерал, я не могу так писать ему.
Верещагин был рад, что подоспел начальник штаба.
Впереди длинной полосой вырисовывалась дубовая .
роща, в которой была расположена деревня Шейново. Художник сделал набросок поля битвы...
Скобелев двинул на турок Казанский полк. В два часа противник выкинул на кургане белый флаг.
Верещагин поскакал вслед за Скобелевым. Всюду попадались толпы пленных, масса трупов, брошенное оружие. Под курганом у деревянного барака стоял хмурый седой турецкий генерал. Это был командующий шип-кинской армией Вессель-паша, за ним толпилось до полусотни турецких генералов и офицеров.
Скобелев пытался позолотить пилюлю и заговорил о храбрости войск Вессель-паши. Но тот молчал и злобно смотрел на русского генерала, который наклонился к Верещагину и тихо сказал:
– Поезжайте скорей к генералу Тимоловскому и скажите, чтоб он, нимало не медля, отвел пленных от оружия. Я имею сведение, что Сулейман-паша идет сюда из Филипполя. При первом известии об этом турки схватятся за оружие.
Художник поскакал, передал приказ и вернулся.
Пригрозив не оставить камня на камне в Шипке, Скобелев вынудил Вессель-пашу послать туда своего начальника штаба с приказом сдаваться.
И вот уже за дубовой рощей фронтом к Шейнову, а левым флангом к горе Святого Николая стоят в строю русские войска. Скобелев дал шпоры коню и понесся так,
что Верещагин и остальные едва поспевали за ним. Генерал, высоко подняв над головой фуражку, звонко крикнул:
– Именем отечества, спасибо, братцы!
Шапки полетели вверх. «Ура!» – перекатывалось но строю.
Впоследствии Верещагин написал картину «Шипка– Шейново» – Скобелева, скачущего вдоль строя, и себя, едва поспевающего за генералом. Это единственный автопортрет художника.
Потом начались неприятности. Скобелеву завидовали. Молодого генерала обвинили в том, что он не поддержал атаки накануне. Уже было доложено по инстанции, что Скобелев, поздравляя солдат, нарушил формулу – сперва надо было поблагодарить их от имени государя и потом отечества.
Скобелев попросил Верещагина съездить в Главную квартиру и рассказать главнокомандующему, почему он не мог атаковать днем раньше.
– Вам поверят более чем кому-либо другому, – добавил генерал.
– Признаюсь, Михаил Дмитриевич, – сказал Верещагин, – такое поручение крайне мне неприятно. Великий князь может просто сказать мне, что это не мое дело...
– Нет, не скажет, поезжайте, сделайте это для меня!
Перед отъездом Верещагин предложил Вессель-паше
отправить телеграмму из Главной квартиры в Константинополь и получил клочок бумаги, где было написано по-французски:
«После многих кровопролитных усилий спасти армию я и мои паши сдались с армией в плен. Бессель».
Набрав всяких поручений, Верещагин выехал вместе с Немировичем-Данченко через горы в Сельви. Дорогой художник развеселился. Денщик Скобелева сбыл писателю лошадь, которая брыкалась и не слушалась повода. Полное и обычно довольное лицо Немировича-Данченко исказилось от гнева. Он пускал в ход плетку, приговаривая:
– Постой, подлец, я тебя проучу...
Но конь только брыкался и кружил на месте. Худзж-ник, наверно, меньше бы подшучивал над писателем, если бы знал, что тот будет описывать недавнее сраженгю такими словами:
«28-го Скобелев повел войска на штурм... Несколько редутов взяли штыками. Бой был упорный и отчаянный. Кругом люди падалп как мухи. С злобным шипением пули уходили в снег Казанлыкской долины, другие словно вихрь проносились мимо, и посреди этого ада В. В. Верещагин, сидя на своей складной табуретке, набрасывал в походный альбом общую картину^атаки... Много истинного мужества и спокойствия нужно было для этого!..»
И еще он рассказывал о художнике:
«В(асилпй) В(асильевич) до вечерней зари каждый день работал там, рисуя с натуры картины, полные нечеловеческого ужаса. Я удивлялся тогда, до какой степени поднялись нервы у Верещагина... Он не только рисовал – ои собирал и свозил с полей целые груды пропитанного кровью тряпья, обломки оружия, мундиры турецких солдат. До некоторых из этих предметов было противно дотронуться, но такой реалист, как Верещагин, собственноручно связывал их в узлы и таскал на себе».
Узнав в Габрове, что главнокомандующий едет туда, художник решил дождаться его, переночевал у брата, жившего в городке после ранения, навестил Куропат-кина.
Адъютант главнокомандующего Скалой (родственник и давний приятель художника) тотчас провел его к великому князю. Как он и думал, объяснения его были приняты холодно.
– Ваше высочество, Скобелева упрекают за то, что он не атаковал турок днем раньше, но это было материально невозможно. Отряд его еще не спустился, и нападать с ничтожными силами было крайне рискованно. Даже в счастливом случае большая часть неприятеля ушла бы, так как у нас не было кавалерии, чтобы перегородить неприятелю дорогу...
– Ну, разумеется, так, – сказал главнокомандующий, давая понять, что аудиенция окончена.
Верещагина ждали Скалой и старый Скобелев.
– Вы бы сказали его высочеству, сколько Мишей взято знамен, орудий, а то вы только говорили, что атаковали стройно, с музыкой... – упрекнул художника старик.
– Ну, рассказывал что знал. Об орудиях великий князь узнает и без меня.
Разговор со Скалоном был серьезнее. Тот сообщил художнику, что теперь, когда победа близка, когда турки были на грани разгрома, верхи решили заключить мир.
– Не может быть! – возмутился художник. – Это измена. Стоило ли столько крови проливать! Я сейчас скажу ему это.
– Скажите, – согласился Скалой. – Вы можете...
Верещагин ворвался к главнокомандующему.
– Ваше высочество, я хочу сказать несколько слов!
– Пожалуйста!
– Правда ли, что ваше высочество хотите заключить мир?
– Не я, любезный друг, а Петербург хочет.
– Обойдите как-нибудь приказание.
– Нельзя. Коли прикажут, заключу мир.
– Да это невозможно, не надобно тогда было начинать войну, – горячился художник. – Оборвите телеграфные проволоки, поручите это мне, я все порву... Немыслимо заключать мир иначе, как в Константинополе или по меньшей мере в Адрианополе!
– Где уж нам до Адрианополя дойти! Сухарей и тех нет – интендантство не заготовило. Вы собираетесь обратно к вашему приятелю? Ну, скоро увидимся. Я еду в Шейново. Радецкий, Мирский и ваш Скобелев покажут мне своих молодцев...
Великий князь встал. У него была представительная, высокая фигура. Верещагин откланялся.
Когда он вернулся, Скобелев уже знал о смотре, который собирался сделать главнокомандующий, и готовился к нему. Художник видел, что генерал совершенно растерялся перед этим испытанием, поскольку не знал тонкостей разводов и парадных учений, не знал, где стоять, как командовать... Учил его ординарец, некогда служивший в гвардии.
– Вы, ваше превосходительство, должны выехать и скомандовать...
– Что вы, Василий Васильевич, смеетесь, однако? – перебил его генерал.
– Да как же не смеяться: генерал, перед которым турецкая армия сложила оружие, как школьник заучивает разные слова, приемы, уловки...
Скобелев совсем оробел, когда показался главнокомандующий со свитой. Великий князь еще издали помахал фуражкой Радецкому и закричал:
– Федору Федоровичу, ура!1!
Он обнял и поцеловал Радецкого, повесив ему на шею большой крест и поздравив со званием генерала от инфантерии. Верещагину главнокомандующий весело крикнул:
– Базиль Базилич, здравствуйте!
А Скобелеву он едва кивнул головой. Генерал окончательно смешался и заледенел...
Совсем недавно в архиве Верещагина была найдена такая запись: «Солдаты, видимо, почувствовали невнимание, оказанное их любимому начальнику, они встретили великого князя с таким малым проявлением энтузиазма, кричали «ура» так неохотно, что их холодный прием должен был броситься в глаза; не знаю только, понял ли он, понял ли, что хоть не награда, а один сердечный поцелуй... герою – и солдатские шапки полетели бы вверх не по приказу, как это обыкновенно делается, а от восторга».
15. К берегам Босфора
Все утряслось как-то. Гурко разбил войска Сулейма-на-папш под Филипполем, и путь на Константинополь был открыт. Скобелев бросил обозы и с одними вьючными лошадьми начал свой стремительный бросок. Ну а сухарей хватало, несмотря на небрежение и воровство интендантов. На складе в Шейнове оказалось двенадцать тысяч пудов превосходных турецких белых сухарей и еще кое-что. Скобелев поприжал запасы, да Верещагин его выдал. Сообщил в Главную квартиру о сухарях. Главнокомандующий обрадовался. Художник потом утверждал, будто бы именно сухари повлияли на решение двигаться вперед. Впрочем, у Скобелева всегда был для солдат и припас и приварок. Недаром великий князь, увидев скобелевские части после Шейнова, воскликнул:
– Это что за краснорожие! Видимо, сытые совсем. Слава богу, хоть на мертвецов непохожи.
Выступая, Скобелев звал Верещагина с собой. Художник и рад был бы поехать, да казак при спуске с перевала разбил ящик с краскамп. Требовалось привести все в порядок.
На другое утро пришло известие, что начальник авангарда генерал Струков захватил подожженный турками мост через Марицу, потушил его и занял железнодорожную станцию Семенли. Начальник кавалерии Дохтуров, встретившийся утром Верещагину вместе со Скобелевым, сказал с завистью:
– Посмотрите, пожалуйста, на этого Струкова, куда только он не примажется... Ведь вот победу одержал.
Художник собирался было вступиться за Струкова. Ему нравился спокойный худощавый генерал с громадными усами вразлет. Но Скобелев опередил Верещагина.
– Вы не правы, – возразил он. – Струков обладает высшим качеством начальника в военное время – способностью к ответственной инициативе.
Верещагин выехал к Струкову. Дорога была усеяна отставшими солдатами. Скобелев распорядился не гнать силой переутомившихся и верно рассчитал – дошли все, больных не было. При первой же встрече генерал сказал художнику:
– Знаете, Василий Васильевич, Сулейман-паша идет нам навстречу.
– Откуда вы знаете это?
– Я верные сведения получил, скоро пойдем в битву, не отставайте!
Скобелев за сутки прошел с пехотой восемьдесят верст. Он боялся, что Сулейман-паша, гонимый Гурко, будет прорываться вдоль железной дороги в Адрианополь. Но паша с остатками войск бежал через Родопские горы. Скобелев был весел и устроил пир...
На другой день драгуны Струкова захватили город Германлы. Верещагин был с ними. На станции они увидели поезд, в котором сидели турецкие уполномоченные, томившиеся в страхе. Кругом кипел бой.
Струков и Верещагин вошли в вагон-зал. Их встретили турецкие министр иностранных дел Сервер и министр двора Намык. Первый с широким живым лицом, в европейском пальто и галошах, второй старый совсем, остроносый, в широкой турецкой одежде и с феской на голове. Струков представился как начальник авангардного отряда, а Верещагин как секретарь Струкова. Оба были в бурках и имели диковатый вид, хотя и говорили безукоризненно по-французски.
Струков дипломатично упомянул стойкость турок в сражениях, но министры перебили его, и Сервер спросил напрямик:
– Скажите мне откровенно, неужели Вессель не мог долее удержаться?
– Не мог, паша, уверяю вас, – сказал Верещагин и начертил на бумаге позиции турок и русских под Шей-новом. Министры хмурились.
– Поезд, на котором мы приехали, вы, надеюсь, сейчас же отправите назад? Он стоит под парламентерским флагом.
– Я испрошу на этот счет приказания моего начальника, генерала Скобелева, – ответил Струков.
Турецкие министры отправились в карете.к русскому главнокомандующему хлопотать о перемирии, а поезд Скобелев забрал себе.
Во время переговоров в Главной квартире турки напирали на то, что Адрианополь еще не взят и взять его будет нелегко. Ночью их разбудили.
– Что, что такое?
– Имеем честь поздравить со взятием Андриано-поля!
Министры долго еще не могли прийти в себя.
А дело было так.
Верещагин шел в авангарде вместе со Струковым. Он дивился выносливости и подвижности этого генерала, такого худого, что непонятно было, в чем душа держалась. Вставал Струков рано, сам убирал свою постель, вина не пил, табаку не курил, не только за людьми, но и за лошадями смотрел, как за детьми; по ночам вскакивал по нескольку раз, чтобы лично выслушать все донесения.
В авангарде было три полка. Командиры их да еще Верещагин со Струковым и составили военный совет, когда из уже близкого Адрианополя прибыли два посланца – болгарин и грек. От имени своих общин они приглашали русских занять город. Турки, мол, уже взорвали арсенал, население боится грабежей. Турецкие солдаты покинули форты и бродят по городу.
Струков спросил у совета, можно ли занять тремя полками громадный город, вторую столицу султана.
– У нас пехоты нет, – добавил он. – Численность же турецких отрядов, расположенных в городе и вокруг города, во иного раз превышает численность нашего передового отряда.
Верещагину как младшему чином предложили первому подать мнение.
– Наступать! – сказал он решительно.
– Хорошо вам советовать, не неся ответственности! – возразил один из полковников. – А если мы наткнемся на пехоту в городе? Необходимо подождать генерала Скобелева. Я подаю голос за ожидание подхода главного отряда!
Второй полковник поддержал Верещагина, а третий не сказал ни да, ни нет. Струков молчал, и совет разошелся.
На другое утро художник проснулся и увидел сидевшего у его постели Струкова. Тот, видимо, давно ужа ждал пробуждения Верещагина.
– Я решился, – сказал генерал.
– Браво!
Посланцам было велено ехать в город. Пусть предупредят, что в знак покорности Адрианополя должны быть поднесены ключи от него.
– Да ключей нет у города, – ответили смущенные посланцы. – Где же их взять?
– Чтобы были, знать ничего не хочу! – ответил Струков.
Когда полки подошли к Адрианополю, навстречу им двинулась громадная толпа. С криками люди бросались на колени перед русскими солдатами, целовали землю, обнимали их, едва не стаскивая с седел.
И вдруг Верещагин всполошился.
– Александр Петрович, – сказал он, – нам немыслимо входить в город.
– Отчего?
– Посмотрите на эти узкие улицы... Всякий трусливый крик, всякий выстрел произведет панику. Мы-то еще ничего, а орудия совсем застрянут, не поворотишь ни одного.
– Так что же делать?
– Не входить в город. Остановиться где-нибудь здесь.
– Да где же встать?
Верещагин осмотрелся кругом.
– Вот налево гора, свернем туда.
Возвышенность оказалась идеальной боевой позицией. Город с нее был виден как на ладони. Залитые солнцем, ярко желтели его глинобитные дома, ослепительно сверкали белые стены дворцов, нацелились в небо стройные минареты многочисленных мечетей...
Прибыли духовенство всех вероисповеданий и городские власти. Струкову поднесли на блюде ключи (как выяснилось, их купили на базаре). То ли в шутку, то ли всерьез власти перестарались – к трем большим ключам добавили еще две связки маленьких. Самый большой ключ Верещагин взял себе – колоть орехи, два поменьше были отправлены главнокомандующему, а потом к Петербург.
Струков велел депутации создать совет выборных (по два человека от каждой национальности) для управления городом и доставки продовольствия русским ьон-скам. Он сказал, что за все будет заплачено русским командованием. Отпустив депутацию и построив отряд в каре, Струков поблагодарил солдат и нрпказал разбить бивак на окраине Адрианополя.
Все свои занятия в те дни Верещагин считал «мало< художественными». А дел было много. Это он в сопровождении болгарина-переводчика разъезжал по главным улицам города и оповещал паникующих жителей, что русские никого не дадут в обиду. Это он иереловил нескольких пытавшихся мародерствовать драгун и заставил Струкова распорядиться, чтобы им всыпали горячих. Продовольствия из города не поступало. Командиры частей уже начали коситься на щепетильного художника, как вдруг принесли хлеб, суп, говядину, вино и даже табак на всех.
Верещагин вел дипломатические переговоры в консулами великих держав, ставил караулы к складам, чтоб не разграбили, осмотрел знаменитую мечеть султана Селима с ее четырьмя великолепными минаретами.
Раз только он пытался взяться за кисть, но ничего из этого не вышло... К Струкову привели двух отчаянных
головорезов-башибузуков, и было доказано, что они без жалости уничтожали болгар и даже вырезали младенцев
31с
из утроб матерей. Толпа болгарских женщин и детей бросала в ттиу комьями грязи, а русский часовой старался этого не замечать. Волна ненависти к хищникам вдруг захлестнула Верещагина, и он предложил Струкову распорядиться, чтобы бандитов повесили.
– Что это вы, Василий Васильевич, сделались таким кровожадным? – спросил генерал. – Я не знал этого за вами.
– А что это вы, Александр Петрович, вдруг стали миндальничать с негодяями? Я бы им еще и написал на виселице... в назидание всем, кто надумает еще зверствовать!
– Нет, я не возьму этого на свою совесть. Пусть Скобелев решает.
В вечеру того же дня в роскошном поезде, отнятом у турецких министров, приехал Скобелев. Адрианополь встречал Ак-пашу с превеликим энтузиазмом. Мужчины высыпали на улицы, а женщины высовывались в окна. Среди гречанок оказалось столько красивых, что Верещагин, ехавший рядом со Скобелевым, то и дело командовал:
– Глаза направо! Глаза налево! Выше!
Оба они были ценителями женской красоты, и им обоим не исполнилось еще и по тридцати пяти...
Узнав о зверствах башибузуков, Скобелев по просьбе Верещагина велел предать их полевому суду. А Скобелев всегда отличался гуманным отношением к пленным. Он приказал под Шейновом приготовить в солдатских котлах двойной запас пищи. «Бей врага без милости, – сказал он солдатам, – покуда оружие в руках держите. Но как только сдался он, аману запросил, пленным стал – друг он и брат тебе. Сам не доешь – ему дай». И солдаты зазывали пленных к своим котлам. Признавал он, правда, что бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны....
Скобелев рвался к Константинополю и был уже на самых его подступах, когда его остановило перемирие. Адрианополь стал тыловым городом, теперь там располагалась Главная квартира. В ней прижился казачий сотник Александр Верещагин. В начале февраля он получил письмо от брата-художника, ушедшего с войсками вперед. Василий Васильевич прослышал, что Александр заискивает перед штабными, «добровольно лезет в лпв-рею». Возмущение его поведением брата было так ве-
лико, что он пригрозил публичным разоблачением его недостойного поведения. Верещагин писал:
«...Пожалуйста, никому не льсти, как бы дешево тебр и как бы приятно это субъекту ни было. Ле заискивай! У тебя есть это в характере уже, ты не прочь ластиться. Я уверен, что ты не прочь был бы получить какое-нибудь лакейское место при великом князе, например, где ты мог бы стоять у двери, докладывать и т. п. Самым серьезным образом не советую тебе мечтать об этом... Если же ты ударишься в искательство, то обругаюсь не только тебе в глаза, но и обругаю тебя перед теми, у кого станешь заискивать, – слышал?»
Художник становился все более желчен. Его раздражала неопределенность воззрений царя и его родственников, внешний либерализм сановников, сочетавшийся со склонностью приобретать политические и иные капиталы, не брезгуя никакими средствами, а это, в свою очередь, разлагало офицерство, тоже стремившееся урвать по возможности... Империя катилась под уклон.
Брату он советовал перейти в строевую часть, но, зная порядки там, написал как-то:
«Смотри, Александр Васильевич, будь образцовый сотенный командир, не зажиливая ни одной копейки у казаков, не смотри на то, что делают другие, делай казакам ученье и спрашивай с них, коли не будешь их обворовывать, они за выучку в претензии не будут; не смущайся гем, что другие скажут: лишь бы ты знал, что делаешь».
Лишь бы ты знал, что делаешь! Слова не просто вырвались. За ними была цепь мучительных размышлений. Во что бы то ни стало сохранить независимость и тот покой, который дается уверенностью в собственной праведности. Это нужно для исполнения того, что задумано. Пора было садиться за работу. От Сан-Стефано, где остановились русские войска, до Константинополя всего пятнадцать верст. Офицеры ездят в штатском осматривать древнюю столицу. Можно было бы махнуть через Константинополь в Париж, но надо еще собрать оставленное по пути оружие и другие материалы, нужные для работы над новыми картинами.
Скобелев в последнее время ходил пасмурный.
– Что вы думаете, – спросил он как-то, – кончились военные действия?
– Кончились, – ответил художник.
чг– Вы думаете, будет заключен мир?
– Думаю, что будет заключен мир, и немедленно же утекаю.
– Подождите, может быть, еще не заключат мира, пойдем на Константинополь.
– Нет! Заключат мир, а я уеду писать картины.
– Счастливец вы! – со вздохом сказал Скобелев. – Я тут предложил, займу-ка я самовольно Константинополь. Пусть меня на другой день предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали. Не хотят... А мы не можем отступать. Это вопрос нашей народной чести. Следует занять Галлиполи, и ни одно английское судно не прорвется в Босфор...
16. Работа
Впечатления от войны, на которой он провел десять месяцев, еще не отстоялись. Надо было обдумать темы, представить себе направление всей серии картин. Все свежо в памяти, но мысль скользит по поверхности... Что-то вроде этого он написал Стасову тотчас по приезде в Париж: «Вот теперь комедия окончилась, публика аплодирует, актеры вызваны или будут вызваны, скоро будут потушены лампы и люстры, и декорации, такие красивые и такие натуральные, выкажут свою подделку и картон. Оказывается, что и мне приходилось смывать малую толику румян и белил с лица».
Чтобы не терять времени, Верещагин принялся заканчивать полотна своей индийской серии, брошенные в Мэзон-Лаффитте в апреле прошлого года. Надо торопиться, нужны деньги. Требуют денег подрядчики, не выплачено еще все за землю, на которой стоит мастерская. Дом не успели построить, а уже просела крыша... И родителям надо посылать. Отец намеревается хлопотать у правительства пенсию за убитого Сергея. Щепетильный художник сразу усмотрел в этом корысть, а ему не хотелось, чтобы даже тень легла на имя Верещагиных. Но что толку в таких его заверениях: «Я прошу Вас, дорогой папа, верить, что я непременно буду помогать Вам и мамаше, как только продам кому-нибудь мои работы...» А торговать картинами не хочется. «Лавочка мне теперь, как всегда, была и будет противна».
Он почти не выходит из мастерской, ни с кем не ви-
§16
дится, почти никого не принимает, разве что Тургенева, говорившего за глаза, что Верещагин «замечательный, крупный, сильный, хоть и несколько грубоватый талант».
Пришлось выехать в Лондон за индийскими костюмами, предметами быта. Принц Уэллский сделал ему выгодное предложение, но художник отказался от заказа, чтобы не стеснять себя. Так же складывались и отношения с Петербургом. Брату Александру он написал:
«Не будет ли возможности переслать золотую перевязь к сабле? Серебряную прислал недавно Струков, который, спасибо ему, все исполняет. Только недавно сделал он порядочную глупость: сказал наследнику, на вопрос его высочества, что я не откажусь исполнить те картины, которые его высочество пожелает поручить мне исполнить. Между тем мне и в голову никогда не приходило работать по заказу для кого бы то ни было, и я ему этого не говорил».
Работая над индийскими картинами, Верещагин неотступно думал о военных эпизодах, перебирал их в памяти. К концу года не выдержал и отправился в Болгарию, посетил окрестности Шипки. Рисовал, наблюдал, думал... Оказавшись проездом на Балканы в Петербурге, художник тотчас был приглашен наследником в Аничков дворец на переговоры по поводу покупки его картин. Он поехал и дожидался, пока ему не сказали, что его высочество сегодня занят, и назначили другой день. Он ушел взбешенный, дав себе слово не шляться больше по передним.
Брат передал, что его хочет видеть Скобелев.
Генерал таинственно затворил дверь кабинета. Верещагин стал было рассказывать о несостоявшейся аудиенции:
– Найдутся желающие иметь мои работы и помимо таких важных и занятых особ, Михаил Дмитриевич...
– Ну погодите же! Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич. Болгарский князь предлагает мне пойти к нему военным министром. Я ему после войны, когда командовал там четвертым корпусом, обучил и оставил целую армию. Он дает слово, что, как только мы поставим солдат на ноги, затеет драку с турками, втянет Россию. Будет снова большая война... Принять или не принять?
Верещагин рассмеялся.
– Признайтесь, – сказал он, – что вы неравнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках. Вам оно будет к лицу.
– Черт знает что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь. Ведь это не шутка!
– Знаю, что не шутка. Втянуть Россию в войну, да еще с такой безнравственной легкостью! Что Баттенберг это затевает, оно понятно. Он авантюрист, которому нечего терять. Но что вы, Скобелев, поддаетесь на эту интригу – это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!
– Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!
– Откажитесь под какпм бы то ни было предлогом... Скажите, что вас не отпускает начальство.
– Он обещал говорить об этом с государем...
– Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.
Этот разговор со Скобелевым художник записал и
опубликовал в воспоминаниях о генерале, присовокупив:
«Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и ее движения вперед, а не назад... повторяю, что распространяться об этом неудобно».
В Скобелеве художник нашел собеседника себе по настроению. Оба были нетерпимы к вельможным бездарностям, к безделью, прикрываемому фразой, к фальши, к своекорыстию, ко всему, что заставляло Россию топтаться на месте. И у обоих были заткнуты рты. Генерал говаривал:
– Я не знаю, почему так боятся печати. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, злоупотребления были указаны ею именно... Почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думает о том, как бы ее ограничить? При известном положении общества печать – это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи уходит в нее.
Под «известным положением общества» подразумевались революционные настроения. И мысль эту он почерпнул у славянофилов, ратовавших за «свободное слово». Генерал не проезжал Москвы, не побывав у Ивана
Сергеевича Аксакова, газета которого «Русь» всегда читалась Скобелевым и испещрялась пометками. Стихи Хомякова и Тютчева он знал на память и пересыпал ими свои разговоры о России. Из старых славянофилов в живых оставался лишь Иван Аксаков. Генерал любил его, но, как человек с практическим взглядом на вещи, отзывался о нем так:
– Он слишком идеалист. Вчера он это говорит мне: «Народ молчит и думает свою глубокую думу». А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда.