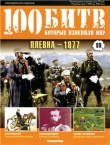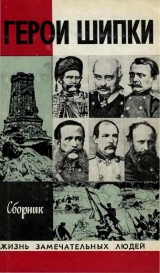
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
В церкви Гурко приложился к образам и спросил, где же священник, но священника не было.
– Едва русские стали приближаться к Балканам, – переводил Хранов торопливую речь болгар, которые и улыбались и плакали, – как губернатор Этрополя Назиф-эффенди призвал зажиточных жителей и стал уговаривать их бежать вместе с турками. Когда же те наотрез отказались, он приказал схватить пятнадцать самых видных горожан, девушек и женщин из богатых семейств, а также всех священников. Губернатор говорил: «Посмотрим, как вы теперь не пойдете с нами... А не пойдете, так я прикажу переколоть по дороге всех заложников...»
Бежавший из Орхание купец добавил, что там особенно бесчинствовали башибузуки: грабили дома, резали женщин и детей, подожгли болгарские кварталы. Шефкет-паша присутствовал при этих бесчинствах и поощрял их.
Жители Этрополя стояли понурив головы. Их горе глубоко трогало офицеров свиты Гурко. Отважные воины, не кланявшиеся турецким ядрам и пулям, отворачивались и смахивали слезу. Командующий тоже был сильно взволнован услышанным и, стараясь не показать этого, глухо сказал:
– Русский народ избавил вас от притеснителей веры и врагов! Так молитесь богу о даровании побед русскому оружию! Сейчас наш священник отслужит здесь божественную литургию...
На другое утро Гурко продиктовал текст телеграммы великому князю – главнокомандующему Николаю Николаевичу:
«Турки, очищая деревни и города перед наступлением моих войск, убивают жителей, более зажиточных уводят с собой, грабят, сжигают и разоряют занимаемые нами районы. Над нашими ранеными, случайно попадающими в их руки, продолжают неистовствовать. Прошу разрешения объявить и приводить в исполнение репрессивные меры. Думаю, что террор надо уничтожать террором же».
7
Лейб-гвардии гренадеры под командованием полковника Любовицкого, выступив из Этрополя в три пополудни 17 ноября, до утра шли узким ущельем, извивающимся между лесистыми шапками горных вершин.
Тропинка, плотно прижимаясь к скалистым высотам, нависала над ревущим ручьем, мчавшимся по неровному ложу. Тонкий слой снега, серевшего в ночи, уже лежал на склонах вершин. Тропа была до того узка, что местами оказывалось невозможно пройти двоим. Офицеры вели своих лошадей в поводу. Бобин замыкал шествие роты, подгоняя отстающих и постоянно высматривая, где Козлов, держится ли.
С тех пор как унтер-офицер сошелся с Козловым, все стали замечать в нем перемену. Он сделался мягче и веселее и даже иногда шутил, чего прежде никогда с ним не бывало. Переменился и Козлов, стал несколько увереннее и спокойней, хоть и по-прежнему мечтал заболеть и вернуться домой.
Заметив, что гренадеры валятся с ног от усталости и желая прибодрить их в долгом ночном переходе, Любо-вицкий скомандовал:
– А ну, орлы, песню!
Не сразу, но запевала отозвался:
Ой во поле-поле стояла ракита,
А под этой ракитой гусарик убитый...
Среди подхвативших песню Бобин узнал и тоненький голосок Козлова:
Он убит, принакрыт черною китайкой...
Приходила к нему пава-жена молодая,
Китаечку открывала, в лицо признавала...
Ты встань-восстань, мой милый гусарик убитый!
Твой конь вороной по лужкам гуляет,
Тебя молода жена домой ожидает...
За поворотом тропинка наконец расширилась. Тут, на площадке, турки выстроили из камня блокгауз с узкими амбразурами вместо окошек. Накануне он был захвачен сотней Великолуцкого полка.
У блокгауза жались в кучу лошади, в сторонке казаки пытались без малейшего успеха развести на жидкой грязи костерок. Резкий, пронизывающий ветер несся с Златиц-кого перевала, удерживаемого неприятелем, и загонял солдат внутрь блокгауза. Там, наполняя помещение дымом и смрадом, горел огонь.
Офицер Великолуцкого полка, сидя на барабане между солдатами, рассказывал о вчерашнем деле полковнику Любовицкому, который пил чай, усиленно щурясь от дыма.
– Верстах в шести от Этрополя встретили конных башибузуков... Едут такие довольные собой, болтают ногами и голосят во все горло. «Алла иль ля ля!» Куда, думают, забраться сюда русским, когда здесь на каждом шагу сам черт себе ногу переломит. Как я услыхал их голоса, скомандовал солдатам прилечь. «Улучим минуту и ну, ребята, – говорю, – залпом!» Шарахнули по ним – они с коней долой да, словно зайцы, как пустятся бежать за кусты да каменья. А мы пошли дальше, смотрим – эта караулка и в ней человек двадцать турок... Дали они несколько выстрелов и побежали по тропинке на перевал. Мы за ними. А там нас таким огнем шуганули, что поневоле пришлось возвращаться в караулку. Оставили только охотников для перестрелки...
Любовицкий дал гренадерам недолгий отдых и приказал тремя колоннами пробираться к перевалу: две обходили турецкое укрепление, а средняя направилась по тропинке прямо. Сам он против обыкновения остался внизу: в походе разболелись старые раны. Прошел час, другой, и заслышались первые выстрелы, стукавшие слева на одной из лесистых шапок. Где именно, он не мог определить, так как эхо гор приближало звуки и обманывало слух. Перестрелка мало-помалу разгорелась до сильной трескотни. Вот прошуршала рядом с блокгаузом в деревьях пуля, другая ударилась у ручья о камень: турецкие пули хватают далеко.
Полковник ожидал вестей. Вскоре зачернела фигурка гренадера. Унтер-офицер Бобин доложил:
– Как завидел турок наших на флангах, тут он как бешеный заметался по редуту-то и побежал, побежал.
Раненых, по словам Бобина, не было, так как наступавшие гренадеры на каждом шагу отыскивали отличные прикрытия от пуль за камнями, постепенно приноравливаясь к горной войне.
Любовицкий немедля двинулся верхом на перевал, до которого было версты две, и через полчаса пути выехал из лесу на узкую площадку, совсем обледенелую, на которой дул сильный ветер, кружа в воздухе порошинки снега. Это была самая высокая точка Златицких Балкан. Внизу густой туман лежал над ущельем и долиной. Сзади быстро неслось плотное облако. Вот оно налетело на перевал, окутало Любовицкого и его гренадер холодным паром, до того густым, что нельзя было разглядеть фигуры в двух шагах. Затем оно пронеслось далее, открыв солдат, которые, завернувшись в шинели и башлыки, теснились у костров, пылавших на дне отбитых ложементов. Одни лежали, безучастно глядя па огонь, другие молча кипятили в манерках воду, бросая в нее сухари, а третьи, сгрудившись вокруг Козлова, подтрунивали над ним, пользуясь тем, что рядом не было Бобина.
– Что, страшно тебе было, Козлов? – спрашивал, подмигивая солдатам, бывалый гренадер.
– И-и... – простодушно отвечал тот. – Беда как страшно... Да ведь все идут... Куда мне деваться?..
Между тем казаки донесли Любовицкому, что отступивший неприятель занял выход из ущелья по ту сторону перевала и поставил там орудия, что спуститься в долину можно только с бою. Кроме того, в селениях, лежащих в долине, а также в самой Златице сосредоточено более шести таборов пехоты при шести орудиях. С наличными силами нечего было и думать о дальнейшем продвижении.
Любовицкий решил окопаться на перевале в ожидании приказаний Гурко и занять пехотной цепью окрестные вершины, чтобы наблюдать за долиной Златицы и одновременно предупредить возможное обходное движение турок. Он оставался на перевале до глубокой ночи, отдавая приказания, и сам ходил с солдатами на ближайшие высоты, превозмогая боль от двух незакрывшихся ран.
Борьба за балканские перевалы вступила в свою решающую фазу.
8
Завладев Правецом, Этрополем, Златицким перевалом и Орхание, Гурко встретился с сильно укрепленными позициями неприятеля. Оставалось до подхода подкреплений занять господствующие высоты и разместить на них артиллерии. Против перевала на горе Шандорник закрепились отряды Рауха и Дандевиля, Шувалов обосновался перед перевалом Араб-Конак.
Гурко объезжал позиции своих войск, торопя с установкой орудий.
Дорога из Этрополя раздваивалась и шла вправо к генералу Дандевилю и влево к Рауху. Первый отряд находился в восьми верстах тяжелого пути в гору. Это была настоящая лесная трущоба, в которой нога то ступала на острый камень, то уходила в грязь по самое колено.
Гурко еще издали заслышал громкие крики и понукания, усиленные эхом гор: вверх по круче поднимали два девятифунтовых орудия. Шесть пар волов в ярмах, запряженных попарно гуськом, едва переступали ногами. От передней пары был протянут канат, за который уцепились солдаты вперемежку с болгарами. Канат оказался короток. Тогда, держась за его конец, два болгарина подали руки финляндцам, которые в своп черед протянули руки вперед и составили живую цепь человек в тридцать. Самого орудия уже не было видно вовсе: оно исчезло за кучей облепивших его людей. Человек по шесть ухватились за колеса, надавливая на спицы.
– Эй, дубинушку! – закричал солдат. – Ходчей пойдет! Затягивай!
Эй, дубинушка, ухнем! —
начинает молодой усталый голос, и остальные подхватывают, наваливаясь на орудие:
Эй, зеленая, сама пойдет!..
– Ну, ну, матушка! – кричат задние.
Гурко молча слезает с коня и сам подставляет плечо под задок орудия. Холодный ветер ходит по лесу и шумит между вершинами обледенелых деревьев, несется с горных гребней, бросая в лицо то мелкими брызгами дождя, то порошинками снега. Борода у Гурко намокла и обледенела.
Видя любимого командира, солдаты выбиваются из сил, но орудие едва продвигается вверх.
Вместо одного дня, который предполагал затратить Гурко на подъем орудий в горы, потребовалось трое суток непрерывной изнурительной работы.
Ободрив солдат, командующий отправляется дальше, в расположение отряда Дандевиля. Лошадь уходит ногами в жидкую грязь, скользя и поминутно спотыкаясь. Вереницей тянутся солдаты, с трудом передвигая ногами в клейкой массе. Шинель, лицо – все забрызгано грязью.
Путь до того труден, что на сильном коне приходится добираться более трех часов. Чем выше в гору, тем реже лес, который мало-помалу уступает место громадным камням, покрытым мхом. На вершине густое облако закрыло контуры двух восьмипушечных батарей. Они молчаливо глядят в туманное пространство.
На опушке леса перед своей палаткой командующего встречает генерал Дандевиль, сорокалетний, с нежным румянцем во всю щеку.
Туман начинает рассеиваться, и оба генерала отправляются на батарею. Гурко приказывает открыть огонь, и с вершины к туркам несутся шестнадцать гранат. Командующий ежеминутно переходит с места на место, чтобы лучше видеть действие снарядов. Но, кроме белых дымков над лысиной Шандорника и над профилем редута, ничего нельзя разглядеть. Турки тотчас же отвечают залпами, и вот уже в лесу поднимается грохот, свист и вой, удесятеряемый эхом.
– Своя? – спрашивает поручик Полозов у фейерверкера Слепнева и сам отвечает: – Чужая!
– К семеновцам пошла! – уточняет фейерверкер полет гранаты.
– Опять без супа оставит! – улыбается неунывающий Полозов.
– Можете себе представить, Иосиф Владимирович, – решается оторвать Гурко от наблюдений Дандевиль, – вчера турецкая граната влетела семеновцам на кухню и прямо в котел с супом!
– Метко стреляют! – не то с похвалой, не то с осуждением отзывается Гурко и снова приникает к биноклю. – Видимость, однако, никудышная...
– А вчера было так ясно, – говорит Дандевиль, – что различались даже верхушки минаретов Софии!
– София... – думает вслух Гурко. – Так близко и так далеко...
Прослышав о приезде командующего, на батарею поднимается генерал Краснов, назначенный начальником кавалерийской бригады. При виде его взгляд у Гурко светлеет.
– Помнишь, Данила Васильевич, как у перевала под Уфланли ты угостил меня супом из слив. Веселое было время!
– Оно и нынче не так уж плохо, – откликается Краснов своим характерным казачьим говорком и предлагает: – Прошу ко мне в палатку отобедать. Слив нет, зато сливовица найдется...
Гурко благодарит своего боевого товарища, умалчивая о том, что предложенное меню его не очень устраивает. Любимое кушанье генерала в походе, хоть это и плохо вяжется с суровым характером командующего, – манная каша на молоке с сахаром. Да где же взять на эдакой шишке корову...
Денщик уже расставляет на коврике тарелки, рюмки, миску с зажаренным мясцом, именуемым «беф а-ля Крас-нофф», бутылку ракии.
– Вот изволите видеть этого казачишку, – подмигивает Краснов в сторону денщика. – Хвастает, что Шан-дорник может взять!
– Точно так! Взять можно, ваше превосходительство!. – вытягивается чубастый казачина.
– Ну да как же можно, расскажи! – поощряет его улыбкой Гурко.
– Рассказать доподлинно не могу, а ежели бы, то есть, нашим станичникам изволили бы приказать: «Возьмите, мол, братцы, самый этот Шандорник», – и точно бы взяли!
– Да как бы взяли-то? – донимает его Данила Васильевич. – На коне с пикой, что ли?
– Зачем на коне с пикой, – обижается казак. – Уж не могу знать, как бы взяли. Собрались бы, это, посудили бы, высмотрели бы, а потом бы подползли, да и ворвались в крепость...
– А как бы вас там рожном приняли?
– Зачем рожном! – уже сердится денщик. – Мы бы не полезли на рожон, а полезли бы, кабы рожна не ждали. Вон они ночью, сказывають, сплошь спять. Всех бы и передушили, а не то бы связали и к начальнику бы представили, – просто и спокойно доказывает он, словно рассказывает о том, как он назавтра заседлает своего маштака, сядет и поедет.
– Что ж, в самом деле, Данила Васильевич, может, и впрямь взяли бы редут? – улыбается в бороду Гурко. – Выискались бы молодцы, разнюхали бы все да и забрали Шандорник...
– Да где ж! Так, зря болтают! Необразованные земле-еды! – с притворной насмешкой отвечает Краснов. – Не ихнего ума это дело!
Он достает из секретных запасов бутылку красного вина, так как водки не пьет, и приглашает отведать свое фирменное блюдо. Готовится оно так: в котелок кладется рубленый лук, крошеное мясо, и все кипятится в говяжьем жире. Непременная особенность его та, что «мясо по-красновски» полагалось есть на морозе.
После стакана вина Краснов возвращается к прежней теме и с жаром продолжает:
– Как казачкам Шандорник взять! Вон псковцы и те не взяли!
Он намекает на неудачное дело 17 ноября, когда три роты псковцев подползли к редуту в тумане. Им показалось, будто турки отступают, они бросились в атаку, но были отбиты и сброшены.
– Не вовремя полезли, – вступает в разговор молчавший до этого Дандевиль. – Вот их и опрокинули...
– Ну вот то-то же! – с неопределенной усмешкой заключает свою речь Краснов. – Казачки-то, они не такие. Они на всякую выдумку мастера. И, само собой, бесшабашные!
9
Суровая зима завернула и на Балканские горы, засыпав их глубоким снегом. Борьба русского солдата с природой приняла еще более драматический характер: на высоте нескольких тысяч футов, вырубив себе траншейки в мерзлой земле, он стоит лицом к лицу с зимою, словно непрестанно находится в открытом бою. В особенности тяжело положение на Златицком перевале, где место на вершине ничуть не защищено от ветра. Там зачастую день и ночь гуляет снежная буря и так засыпает построенные на скорую руку землянки, что по утрам людей приходится откапывать из-под сугробов. Турки зорко стерегут малейшее движение русских на перевале и едва замечают огонь или дымок, тотчас направляют туда с окрестных высот свои ружейные выстрелы. Поэтому в траншеях на аванпостах о костре не может быть и речи. Приходится неподвижно лежать на снегу целую ночь. Ветер и вьюгу сменяет оттепель, и солдатская шинель намокает, а к вечеру вновь мороз опускается градусов до двадцати, и мокрая шинель сидит на солдате колом, не согревая его.
Солдат-гвардеец идет по лагерю. На ногах мешковатые бахилы из воловьей кожи мехом внутрь. Эта неуклюжая обувь надета на расползающиеся сапоги, так что солдат ступает, с трудом вытаскивая ноги из снега. На плечи накинуто полотно палатки. В это полотно солдат закутался весь, прижав концы его вместе с ружьем к груди. Виднеются только глаза, кончик носа да торчащий на ветру остроконечный кусок башлыка. Полотно насквозь пропиталось мокрым снегом и сидит на солдате наподобие ризы.
Узнали бы вы в нем сейчас того молодцеватого генерала, который приветствовал Гурко на смотру в Эски-Бар-кач? Нужда заставила гвардейца походить на пугало.
Мудрено не навертеть на себя все, что только было под рукой, если выписанные жуликами-подрядчиками фуфайки от влаги погнили и расползлись, а подошвы у сапог отвалились.
Гренадер подходит ближе и оказывается унтер-офицером Бобиным, который готовится к суточному дежурству на Златицком перевале. Вокруг в мрачном настроении расположились солдаты и артиллеристы. Знаменитая паровая кухня 6-й батареи давно не дымит. Давно уже Йошка не кормит офицеров-преображенцев ростбифами да курочками, и лакомка Рейтерн, тихо матерясь, мочит в снегу пресную турецкую галету. Амулет артиллеристов – петух, облезлый, худой, злобно глядит из клетки, словно провидит свое печальное будущее. И час его бьет скоро. Вернувшись с дежурства, Полозов чувствует в палатке батарейцев давно забытый, нежно щекочущий нёбо аромат. Он принюхивается: так и есть – пахнет куриным бульоном – и отчаянно вопит:
– Ироды! Да вы никак бригадного петуха съели!..
В пехоте и сухарей не всегда вдоволь. Солдаты исхудали, ослабли. Бобин еще держится молодцом и, не покладая рук все свободное время сапожничает. Козлов старается услужить и помочь ему. Унтер-офицеру нравится, что Козлов подражает ему в трудолюбии, но отечески останавливает его:
– И чего суешься? Занеможешь, тогда что я буду с тобой делать! Ишь ведь худой какой! А тоже лезешь работать... Отдыхал бы лучше...
Назначенные на перевал солдаты выстроились у караулки. С горы спускается ночная смена.
– Что, холодно было? – спрашивает Бобин у гренадера, глаза которого, воспаленные от дыма, слезятся, и он поминутно вытирает их грязной обмороженной пятерней.
– Ад, дяденька! Хоть бы поскорее куда-нибудь повели! Куда легче было под Горным Дубняком!..
Бобин с командою ушел; Козлов слонялся между палатками, предаваясь мечтам о родине, о конце войны, о доме: «Кабы отсюда по болезни да прямо домой... Нет, нехорошо, надо дотянуть до конца... За это никто не похвалит...»
Наступил темный вечер. Козлов вернулся к себе в палатку и заметил висевшую там сухарную сумку Бобина.
«Вот те раз! – ахнул он. – Как же это Антон Матвеич сухари забыл? Вот ведь грех какой!»
Козлов хорошо знал, что Бобин будет голодать целые сутки, но ни за что не попросит у товарища сухарика. «Надо, надо снести сумку на аванпосты!» – решил он.
Наступила ночь, темная и туманная. Страшновато было Козлову идти одному да еще по горам – того и гляди попадешься турку. Но он все-таки решился и пошел.
Сперва шел по протоптанной дорожке, а потом она исчезла под снегом, и Козлов начал кружить. Снег по самое колено да деревья с нависшими ветвями, с которых обламывалась и падала гололедица, – вот все, что видел он вокруг себя. Сначала было страшно, и Козлов несколько раз возвращался, чтобы найти след, но его не было. И постепенно усталость превозмогла страх. Козлов сел отдохнуть под большим деревом, прислонившись к нему спиной. Его вспотевшее тело чувствовало приятную прохладу. «Не пора ли вставать?..»– думал солдат, однако сладкая лень удерживала его, и ему все казалось, что он на привале и что Бобин непременно прикажет подняться и идти.
Козлов прикрыл веки и увидел мать, стоящую перед избой: «Так и есть! Это моя родина, моя деревня...» А напротив изба соседа, откуда выбегает милая его сердцу девушка. «Господи! – подумал, засыпая, солдат. – За что такое счастье!..»
На другой день, возвращаясь с аванпостов, рота наткнулась на Козлова. Сидел он, прислонясь к дереву, веек облепленный снегом, голова была опущена на поджатые к самой груди колени, фуражка съехала на лоб.
Бобин растолкал любопытных, взял мертвого на руки и понес на бивак. Всю дорогу он молчал, а придя, положил Козлова в палатку на то самое место, где он всегда спал, и начал суетиться у костра.
Любопытные снова стали собираться возле палатки.
– И как это, братцы, угораздило? – переговаривались они.
– Негожий был... Все только хныкал...
– Ну ты рад и мертвого вылаять!.. Что теперь с него взыщешь?
– А все же, братцы, жалко... Тоже ведь человек... Опять же дома родные, мать...
– Нехристи! Хоть бы за дровами кто-нибудь сходил... Бога вы не боитесь! – сказал унтер-офицер собравшимся.
Ему хотелось, чтобы все было сделано как положено. Отогрев мертвого товарища у костра, он расправил ему руки и ноги, а затем, когда начальство разрешило похоронить Козлова, срубил сухое дерево, вытесал досок и сколотил гроб. Уложив товарища, Бобин поместил туда все его вещи, не исключая сухарей, кисета и трубки, подсыпал даже своего табачку, потому что в кисете почти ничего не оставалось. На могиле поставил крест и сам сделал надпись: «Рядовой Осип Козлов. Замерз 27 ноября». Затем, когда все было кончено, Бобин сложил инструмент и, пользуясь свободным временем, заплакал.
Остался он в палатке один. Просыпаясь по утрам, Бобин звал иногда по привычке товарища и хватался рукой за стоявшую около манерку:
– Что, малыш, чайку согреем?
Но, увидав, что хворостинки, служившие прежде постелью Козлову, покрылись инеем, опускал голову и погружался в тяжелые размышления.
Что суждено было Козлову замерзнуть в горах, в этом Бобин не сомневался. Но он был зол на судьбу за то, что она выбрала его самого невольной причиной смерти Козлова.
«Это уж судьба меня наказала, – подумал Бобин. – И как же я сухари-то забыл! Вот беда какая произошла от этого. Никогда со мной такого непорядка не случалось!»
Козлов был одной из многочисленных жертв холодной зимы, сотнями косившей русских солдат на Балканах.
10
Гурко телеграфировал великому князю – главнокомандующему Николаю Николаевичу:
«Снегу выпало очень много: на горах более аршина, в Орханийской долине пол-аршина. Сегодня третий день стоят морозы. Санитарное состояние с каждым днем ухудшается. В Псковском полку за два дня выбыло 340 человек. Средним числом заболевает около 50. Произвожу по возможности чаще смену. Неприятель стоит и ничего не предпринимает, весьма сильно укрепившись на своей позиции. Подкрепления к туркам прибывают мало-помалу. Теперь у Араб-Конака, кажется, около 40 батальонов, у Лютикова и Златицы около 10 в каждом пункте, всего же около 60 батальонов...
Более всего боюсь туманов и нехватки продовольствия. Дальнейшего запаса нет и не предвидится. Теперь уменьшил выдачу сухарей до 1 фунта; дней через 10 не будет хлеба. Главное, прошу спирту, чаю, сахару. Необходимо открыть в Яблоницах 1 или 2 полевых госпиталя...»
Гурко целые дни ходил угрюмый п еще более молчаливый, чем обычно. Он жестоко страдал, чувствуя, что уже не война с турками, которых он не привык страшиться, но сама природа явила трудности превыше сил человеческих. А тут еще тревожные вести с других участков фронта.
В турецкой армии произошла важная перемена: Мех-мет-Али, оказавшийся вялым и безынициативным военачальником, был отозван и на его место назначен Сулей-ман-паша, проявивший немало, упорства и дерзости в августовских боях у Шипки. Он теперь резко усилил давление на левый фланг русских войск – на Рущукскую группировку наследника цесаревича Александра. Отряд князя Святополка-Мирского, теснимый неприятелем, отступил с позиций у деревни Марени и отбивался под Еленою, окруженный с трех сторон. В то же время Сулейман атаковал позиции цесаревича у Осман-Базара. Необходимы подкрепления, но их не было: Плевна, словно Молох, пожирала все резервы.
«Сулейман пытается прорваться к Тырнову, чтобы выйти в тыл шипкинской позиции, которая после этого сама собой падет...» – размышлял Гурко, вместе с Наг-ловским просматривая телеграммы о положении на других участках.
Он готовился к трудному разговору с подчиненными ему генералами.
Всему есть свой предел – настал предел терпению командиров. Видя мучения солдат, огромные жертвы и переживая лишения наравне с рядовыми, гвардейские генералы тоже роптали. Готовые к открытой войне, к геройской смерти или победе, они не выдержали долгого сидения в холоде, голоде, снегу. Лучше всех держался самый старший – генерал-адъютант Шувалов: жил, как и солдаты, в простой холодной палатке, захваченной у турок. Когда же Гурко, навещая командира 2-й гвардейской дивизии, говорил ему шутя, что велит отдать в парольном приказе распоряжение о постройке Шувалову теплого барака и силой водворит туда хозяина, тот так же шутливо отвечал: «Не иначе, Иосиф Владимирович, вы хотите подорвать этим мой авторитет среди солдат...»
II, спартанец по своей натуре, Гурко уезжал с легким сердцем, спокойный за подчиненного ему командира.
Главная ставка размещалась в Орхание, в полуразрушенном доме, где вместо стекол кое-как была подклеена бумага, а печп заменял огонь, поддерживаемый в мангале. Гурко и его начальник штаба сидели в шинелях, перебрасываясь однозначными фразами: они привыкли понимать друг друга с полуслова.
Но вот комната начала наполняться военным народом. Генералы входили, приветствовали командира и, не раздеваясь, усаживались, тихо перешептываясь друг с другом. До Гурко донеслись слова исхудавшего, изжелта-серого лицом Рауха, обращенные к принцу Ольденбургскому:
– Три дня, ваше высочество, не умывался, не раздевался... А тут еще пальцы на ногах поморозил. Как в теплую комнату войду, словно зубной болью обдает...
Гурко поднялся, и под пристальным взглядом его глубоких серых глаз шепот стих.
«Большинство из них не может простить мне быстрого возвышения. Не может забыть, что еще полгода назад я был только начальником дивизии. А теперь из недавних товарищей стал командиром, который никому ничего не спускает. Жалуются в ставку, что я резок и крут...» – подумал он и после долгой паузы в мертвой тишине глухо и медленно заговорил:
– До сведения моего дошло, господа, что некоторые из вас позволяют себе осуждать меня и мои распоряжения, не стесняясь присутствием подчиненных и даже при нижних чинах... Я собрал вас для того, чтобы напомнить вам, что поставлен начальником над вами волею государя императора п только ему, отечеству и истории обязан отчетом в моих действиях. От вас я требую беспрекословного повиновения и сумею заставить всех и каждого в точности исполнять, а не критиковать мои распоряжения. Прошу вас всех это накрепко запомнить. А теперь официальный разговор кончен, и я предоставляю каждому из вас свободно высказать, кто и чем недоволен. Если я в чем-нибудь ошибся, готов поправиться...
В пустом проеме двери появился состоявший при штабе хорунжий князь Церетелев, делая знаки начальнику штаба; Нагловский на цыпочках вышел. Гурко снова оглядел генералов. Дандевиль, у которого румянец приобрел нездоровую, лихорадочную окраску, отвел глаза. Раух ответил хмурым взглядом запавших глаз. Только
Краснов улыбнулся, блеснув молодыми зубами в густой сивой бороде.
Обращаясь к Шувалову как к старшему в чине, Гурко спросил:
– Ваше сиятельство, что вы имеете сказать?
Начальник 2-й гвардейской дивизии, большелобый,
седобородый, с редкими, серыми от седины волосами, тотчас поднялся и просто ответил:
– Ничего! Я никаких неудовольствий не имею.
– А вы? – сказал Гурко генералу Рауху.
– Ничего, ваше превосходительство, – пробормотал тот. – Я только говорил, что трудно...
– Трудно? – перебил его Гурко. – Что ж, если большим людям трудно, я уберу их в резерв, а вперед пойду с маленькими! Запомните это, и хорошенько! – Он с неудовольствием заметил стоящего в дверях Наг-ловского. – Что, Дмитрий Станиславович?
– Ваше превосходительство! – торжественно обратился тот к Гурко. – Из ставки получена телеграмма: Плевна пала!
И
13 декабря в девять пополуночи генерал-адъютант Гурко вышел из своего маленького домика в Орхание и, перекрестившись, сел на коня.
Ординарцы и конвой, выстроившиеся полукругом у домика командующего, двинулись за ним. Утро было туманное, шоссе обледенело за ночь. Всадники то и дело обгоняли спешившихся, тянувших своих коней в поводу кавалеристов и стоящие без движения фургоны, которые не могли сдвинуть выбившиеся из сил лошади.
Гурко ехал впереди, молчаливый и задумчивый. Он еще и еще раз мысленно возвращался к подробностям предстоящего перехода через Балканы, взвешивал в уме каждую подробность, каждую деталь готовящихся военных операций.
С падением 28 ноября Плевны высвобождались скованные ею русские силы. На усиление отряда Гурко была назначена 3-я гвардейская дивизия Каталея и весь 9-й армейский корпус генерал-лейтенанта Кридинера. Но только к 12 декабря смогли подтянуться к Орхание эти давно ожидаемые подкрепления с артиллерией и обозами.
225
15 Герои Шипки
Во время долгого стояния в горах Гурко и Наглов-ский с помощью неутомимого– хорунжего Церетелева собрали сведения обо всех путях через Балканы. Было решено обойти неприятельские укрепления, спуститься в долину и выйти в тыл линии Шандорник – Араб-Конак, отрезая засевших там турок от Софии и Филиппополя. Однако отыскать сколько-нибудь сносную дорогу через горы оказалось до крайности трудно: все проходимые пути находились в руках у неприятеля, а свободными оставались немногие горные тропинки, недоступные для артиллерии и столь крепко защищенные самою природой, что даже турки не сочли нужным охранять их. Между тем решение задачи как раз и заключалось в том, чтобы пробраться через хребет целой армией, пехотой и артиллерией, появиться в долине Софии неожиданными гостями и ударить туркам в тыл.
Гурко предписал рано утром 13 декабря начать движение войскам, соблюдая следующий порядок:
Авангарду под начальством генерала Рауха выступить из Врачеша и следовать на перевал по старой Софийской дороге, превратившейся в пешеходную тропу, в обход противника, спуститься к селенита Чурьяк и выйти в долину Софии к Елешнице.
Колонне генерал-лейтенанта Каталея двигаться по той же дороге за авангардом.
Правой колонне, руководимой генерал-лейтенантом Вельяминовым, из Врачеша идти на гору Умургаш, а оттуда спускаться в направлении деревни Желяева.
Отдельной Этропольской колонне генерал-майора Дан-девиля выступить через Баба-гору к деревне Буново.
Отрядам Шувалова у Араб-Конака, принца Ольденбургского против горы Шандорник, генерал-майора Брока на Златицком перевале оставаться на занимаемых ими позициях и сильными демонстрациями отвлечь внимание неприятеля, в то время как движение Этропольской колонны создаст видимость, что именно там будут переправлены главные силы.
Между тем основные войска двинуты на нашем правом фланге. Сам Гурко следует за авангардом Рауха впереди колонны Каталея.
«Что ж! – думает командующий. – От судьбы своей никуда не уйдешь. С нашей стороны сделано все возможное для успеха. В остальном да поможет нам бог!..»
День наступил ясный, солнечный н не холодный, и ото