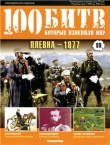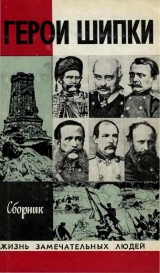
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Во время штурма у него пулей снесло шапку с головы, другая пуля перебила ствол ружья на уровне груди. И все же художник в тот же день снял под огнем красное знамя с какими-то письменами, привязанное атаковавшими у ворот. Полковник Назаров отдал этот трофей солдатам на портянки, чем огорчил Верещагина. Но еще больше его огорчили слова одного офицера:
– Вам первый крест, Василий Васильевич.
Художник возмутился. Разве ради награды рисковал он жизнью?
Генерал Кауфман с войсками подоспел на выручку осажденным через несколько дней. Увидев часов в одиннадцать вечера 7 июня 1868 года взвившуюся вдалеке ракету, все заликовали. Осада была снята. На другой день никто из офицеров уже и не вспоминал, как вслед за солдатами ругал Кауфмана за неосмотрительность, едва не кончившуюся гибелью гарнизона. Вспомнил об этом один Верещагин...
Кауфман вышел на площадь в окружении штабных и поздравил всех героев шестидневной осады, больных, раненых, утомленных. От собственной речи его прошибла слеза... Когда нришло время раздавать награды, к Кауфману подступил Верещагин и, по словам самого генерала, «огорошил» его.
– Ваше превосходительство! – сказал художник. – Когда наступила на нас беда в Самарканде, то все мы говорили: «Вот лысый черт ушел, а нас оставил тут
погибать...»
В свите Кауфмана стали что-то возмущенно кричать. Лысина генерала побагровела. В голове мелькнуло: «Военное время, прапорщик запаса, нарушение дисциплины, военный суд, расстрел...» Генерал-губернатор был облечен в Туркестане властью императорской... Перед ним стоял человек в сером пиджаке. «Типичный шестидесятник, – подумал генерал. – Рисуется своей утрированной неблаговоспитанностью. А художник талантливый и... храбрец».
Генерал оставил дело без последствий, а солдатская дума, георгиевские кавалеры, бывшие в бою вместе с Верещагиным, назвали его, по обычаю, вместе с другими как достойного награды – Георгиевского креста.
Верещагин считал, что чины и ордена художнику ни к чему, и он отказывался от любых других званий и наград. В 1874 году он прислал редактору газеты «Голос» письмо из Бомбея:
«М. Г.! Прошу дать место в вашей уважаемой газете двум строкам моего за сим следующего заявления:
Известись о том, что императорская Академия художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания.
В. Верещагин».
Бее были ошеломлены этим отказом. Звание профессора считалось высшим отличием художника. Оскорбленными почувствовали себя многие художники, облеченные званиями. И лишь Крамской написал Третьякову:
«Ведь что, в сущности, сделал Верещагин, отказавшись от профессора? Только то, что мы все знаем, думаем и даже, может быть, желаем; но у нас не хватает смелости, характера, а иногда и честности поступить так же».
А Георгиевский крест Верещагин носил. И подчеркивал, что это единственная награда, присуждаемая не начальством, а кавалерами ордена голосованием.
С этим крестом он появился на туркестанской выставке в Петербурге, которая принесла ему всеобщее признание. Но тогда, в 1869 году, он раздарил свои картины, уклонился от встречи с царем, несмотря на уговоры Кауфмана.
– Лично мои ты правила знаешь, – окажет художник позже своему брату Александру, – я не люблю ходить по важным господам.
И он помчался снова в Туркестан набираться впечатлений и рисовать, рисовать, рисовать... Й снова он ввязывался в схватки. Ходил в набег с русским отрядом, сражался, спас командира отряда, по счастливой случайности избежал смерти...
Что же влекло его в дальние странствия? Что заставляло ввязываться в опасные передряги? Страсть к приключениям? О нет. Он вспыльчив, он горд, но в здравом смысле ему не откажешь. Он своими глазами должен был увидеть все, что предстояло ему написать. Он хотел быть документально точным в своих картинах. Если надвигалась опасность, он не мог стоять в стороне, и всякий раз тоже брался за оружие, становился в солдатский строй. Оттого-то так и захватывали зрителей его картины. В них была правда. Чувствовалось, что за каждой из них в тысячи раз больше переживаний, чем отразилось их на полотне. А что касается обвинений в сатиричности полотен, которые начали предъявлять ему власти предержащие, то Верещагин лишь повторял слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Правда злее самой злой сатиры».
Большую часть картин по туркестанским впечатлениям он написал в Мюнхене. Там и работать было удобно, а главное, привлекли его прелести пятнадцатилетней Элизабет Марии Фишер-Рид, которая стала его гражданской женой, переименовавшись в Елизавету Кондратьевну.
Три года он никуда не ходил, разве что в музеи и на выставки. Знакомых в Мюнхене у него почти не было. А по истечении трехгодичного отпуска, который предоставило ему военное ведомство, назначив содержание три тысячи рублей в год, он привез в Петербург несколько десятков картин.
За год до того была у него первая персональная выставка в Лондоне. Все в ней было сенсационно – от надписи в каталоге «Эти картины не продаются» до невероятного наплыва публики и отзывов английских газет: «Мы отроду не видывали более живого изображения мира, почти вовсе неведомого...» В России за успехами Верещагина следил Стасов. Он писал об английской выставке, выпросил у вдовы Бейдемана портрет Верещагина, и в марте 1874 года художник посетил критика в Публичной библиотеке, где тот заведывал художественным отделом.
7 марта открылась выставка Верещагина в Петербурге. Ее посетили тысячи людей, и с каждым днем все большие толпы теснились у дверей. На зрителей пахнуло жаром раскаленных степей Туркестана, они увидели жителей этого края и их быт. И главное – война, жестокая и страшная война обрушилась на них во всей своей неприглядной красе. Как непохоже это было на все виденные прежде картины батальных живописцев, на стройные ряды воинов в элегантных мундирах, осененные белыми клубами пушечных выстрелов...
Впечатления самаркандской осады теснились на стенах. «Пусть войдут!» Слова полковника Назарова стали названием картины. «Вошли!» Трупы, кровь, солдатские типы... Еще долго будут удивляться, как густо населил свои картины художник, не повторив ни одного лица, ни одной позы... «Забытый» – в горной долине среди высушенных солнцем колючек лежит, раскинув руки, русский солдат. На прикладе его ружья и на груди сидят вороны, слетаются к трупу другие хищники. А на раме картины Верещагин написал эпиграф, слова народной песни:
Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене;
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать мать сыра земля...
И тут же «Смертельно раненный», что бежал тогда по площадке стены вкруговую. И «Парламентеры», предла-тающие сдаться окруженному русскому отряду. «Убирайся к черту!» – кричит им офицер.
А вот целая серия под названием «Варвары». Картины «Высматривают», «Нападают врасплох», «Окружили, преследуют...», «Представляют трофеи» – бухарский эмир переворачивает носком сапога отрубленную голову, «Торжествуют», «У гробницы святого – благодарят всевышнего». И на раме картины строки из Корана:
Хвала тебе, Богу войн!
Нет Бога, кроме Бога!
И «Апофеоз войны» – громадная груда черепов. «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим» – таков эпиграф к этой завершающей серию картине. Верещагин проклинал фанатизм и изуверство среднеазиатского рабовладельческого Востока, но в его картинах было прозрение грядущего варварства «цивилизованных» наций...
Любовь Верещагина к русскому солдату зрители заметили сразу. Крамской тогда же написал отсутствовавшему Репину: «Верещагин – явление, высоко поднимающее дух русского человека». А Гаршин в стихотворении «На первой выставке картин Верещагина» восклицал:
Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомянутся чрез много лет,
В день грозных бед...
Мусоргский написал музыку к балладе Голенищева-Кутузова «Забытый». Газеты сравнивали Верещагина с Львом Толстым. Такого успеха еще не имел ни один художник.
Но вскоре начались неприятности. Выставку посетил Александр II. Выставка царю понравилась, он выразил лишь неудовольствие картиной «Забытый». Уже на другой день генерал Кауфман обежал залы выставки, разыскал художника и начал его отчитывать:
– Это неправда! Вы опозорили туркестанские войска! Скажите, вы лично видели когда-нибудь солдата брошенного, не похороненного в степи?
– Нет, не видел, – признался художник.
– Выходит, вы клеветник! Вы бесчестите славу русского оружия!
Верещагин не продавал своих картин до сих пор, ожидая, что все их купит русское правительство, а он на полученные деньги совершит еще несколько путешествий и устроит художественно-ремесленную школу. Но теперь уже никто не говорил о покупке картин казной. Высокопоставленные деятели на все голоса ругали Верещагина. Разъяренный художник в порыве гнева сжег «Забытого» и еще две картины.
– Я дал плюху этим господам, – сказал он.
Верещагин несколько дней после сожжения картин не мог прийти в себя и в марте же, не дожидаясь окончания выставки и переговоров о покупке картин Третьяковым, уехал вместе с Елизаветой Кондратьевной в Индию.
Он исколесил Индию, рисуя и собирая костюмы, украшения, амулеты – материал для будущей работы. Вскоре он уже путешествовал во главе целого каравана кули, которые несли подарки, закупленные еще в Петербурге, и приобретенные в Индии коллекции. Вместе с женой художник задумал совершить восхождение на Джонгри, одну из гималайских вершин. Носильщики отстали в пути. Глубокий снег, лед, стужа. Верещагин и Елизавета Кондратьевна падали, подымались и вновь брели, пока не достигли вершины. Небо там было поразительное – краска сильнее всякого чистого кобальта, почти ультрамарин с небольшой дозой кармина. И розовато-белый снег на темном фоне. Замерзая, художник не переставал работать. Через два дня подошли носильщики. Не раз он бывал и потом на краю гибели. Его донимали дурные вести из России, где его картинами распорядились не так, как он хотел. В Индии его принимали за «русского шпиона». Но он упорно писал этюды, которые, по сути дела, были прекрасными законченными картинами. Художник пересылал их на хранение Стасову в Петербург.
Два года провел Верещагин в Индии. Оттуда он поехал в Париж, на окраине которого, в Мэзон-Лаффитте, строилась его мастерская. Он попросил Стасова прислать ему в Париж индийские этюды. Критик написал художнику: «Вчера утром, во время укладки... я снова пересмотрел все этюды, один за другим, на прощанье и, кажется, поцеловал бы их каждый: столько тут положено таланта, правды, мастерства».
Похвалы похвалами, а дела шли худо. Подрядчики, строившие мастерскую, обманывали художника, заставляли за все переплачивать вдвое. Деньги из России (туркестанская коллекция была продана Третьякову за девяносто две тысячи рублей) не шли. Верещагин был на грани краха. Он стал еще более раздражительным и неуравновешенным, почти не спал, даже чтение писем вызывало у него продолжительные головные боли. Лишь Стасов сносил, как он выражался, натуру Верещагина с ее дикостью и необузданностью, свирепостью и младенческой чистотой взглядов, прямотой и порывами, смелыми выдумками и жаждой знаний.
Верещагин принадлежал к тому типу талантливых людей,- которые с самого начала неколебимо верят в свое предназначение, проявляя нетерпимость ко всякому прекословию и даже сомнению. Они искренне считают, что каждый, оказывающий им услуги, должен проникаться сознанием служения большому делу. Оттого-то он заваливал Стасова мелкими поручениями, но стоило тому усомниться в намерении Верещагина писать громадные полотна, для чего и строилась большая мастерская, и сказать, что большое содержание не связано с размерами полотна, как художник прямо и резко объявил это посягательством на свободу творчества и поставил в один ряд критика и публику. «Пусть Ваша излюбленная, за свои деньги хающая публика судит мои работы, когда они готовы; но чтоб я пустил всякое неумытое рыло рыться в моих проектах и затеях? Дозволил бы на французский манер фабриканту, отдыхающему от стука и пыли своей фабрики, и бакалейщику – от вони запертой в праздник лавочки, давать мне советы, что, в каком размере делать? Никогда! Пусть эта толпа, желающая воспроизведения своих идей и вкусов, представителем которой Вы являетесь (к моему удивлению и ужасу), пусть она обращается к тем фешенебельным мебельщикам, о которых я говорил... и имя которым легион, прямее сказать – 99% существующих художников».
К началу 1877 года мастерская в Мэзон-Лаффитте была готова. Зимнее ее помещение имело в длину 25 метров, а летнее, открытое, легко вращалось по рельсам вокруг своей оси с тем, чтобы всегда иметь нужное освещение. Свет и воздух в картинах – вот что было главным для Верещагина.
В работе над гигантскими полотнами и застала его весть о русско-турецкой войне.
3. Скобелевы
Уже год Верещагин следил за событиями на Балканском полуострове. Сербия вела освободительную борьбу, стремясь сбросить пятисотлетнее турецкое иго. Вся Россия бурлила – создавала славянские комитеты, собирала пожертвования в помощь сербам. Верещагин посылал деньги и сам собирался поехать на Балканы. Осенью 1876 года в России началась мобилизация. Верещагин тотчас стал просить о причислении его к штабу русских войск. Просьба его была уважена.
В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну, и художник немедленно выехал в действующую армию. В главном штабе, находившемся в Кишиневе, его причислили к составу адъютантов главнокомандующего – великого князя Николая Николаевича, но при этом он оставался вольным, штатским человеком, что было весьма удобно для него.
Вскоре Стасов получил от Верещагина телеграмму: «Я иду с передовым отрядом, дивизионом казаков генерала Скобелева, й надеюсь, что раньше меня никто не встретится с башибузуками».
Стасов осуждал художника за то, что тот рискует жизнью, однако телеграмму его опубликовал в «Новом времени», присовокупив:
«Этот факт, мне кажется, будет интересен многим из нас. Верещагин – первый пример русского художника, покидающего покойную и безопасную мастерскую для того, чтобы пойти под сабли и пули и там, на месте, в самых передовых отрядах, вглядываться в черты великой современной эпопеи – освобождения народов из-под векового азиатского ига.
Зато у одних подобных художников, у тех, для кого художество нераздельно с жизнью, у них только и бывают те создания, что захватывают и наполняют душу.
В этом талант Верещагина родствен таланту первого современного нашего писателя, графа Льва Толстого. Кто знает, быть может, из-под кисти Верещагина выйдут теперь такие же потрясающие и глубоко художественные картины, какие у того из-под пера вылились однажды рассказы о сражающемся Севастополе. В отношении жизненной правды склад обоих художников – одинаковый».
Еще в Париже художник решил, что пойдет с кавказской казачьей дивизией, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев. И тотчас послал телеграмму брату Александру, молодому офицеру, советуя тому определиться в ту же дивизию. На Балканах к ним присоединился и третий брат, художник Сергей Верещагин.
В Кишиневе в Главной квартире Василия Васильевича представили целому сонму генералов. Среди них был и высокий худощавый блондин, свитский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.
– Я знал в Туркестане одного Скобелева, – сказал Верещагин.
– Это я и есть!
– Вы! Может ли быть? Так вы изменились! Мы ведь старые знакомые.
За семь лет, что они не виделись, Скобелев возмужал, у него появилась генеральская осанка и важность в речи. Впрочем, важность с него тотчас слетела. Он быстро говорил, картавя, произнося «г» вместо «р» и «л», нервно потирая руки и рассматривая свои блестящие длинные ногти на худых пальцах, трогая пуговицы на сюртуке Василия Васильевича.
«Сколько ему сейчас? – подумал Верещагин. – Да, ведь на год моложе меня... Значит, тридцать три».
Он вспомнил, как семь лет назад в единственном ресторане Ташкента познакомился со Скобелевым, совсем еще молодым гусарским штаб-ротмистром.
Офицер был симпатичен художнику, который подружился со Скобелевым, хотя тот только что стал обладателем сквернейшей репутации из-за чистейшего недоразумения. Его оболгали, а генерал Кауфман, не разобравшись, в присутствии других офицеров жестоко распек Скобелева:
– Вы наврали, вы налгали, вы осрамили себя!
Два офицера вызвали Скобелева на дуэль. Верещагин жил в гостинице и видел все приготовления.
– Да перестаньте вы конспирировать, пощадите малого, – говорил он злословившим офицерам.
Хотя Скобелев с достоинством дрался на дуэли, положение его было невыносимым – хоть уезжай из Туркестана.
– Да плюньте вы, все перемелется, – утешал художник.
Теперь перед Верещагиным стоял молодой генерал, награжденный двумя Георгиёббкв^и крестами. Это Ой, переодевшись в туркменское платье и чудом избежав смерти, сделал глазомерную съемку пути, по которому потом прошли русские войска. Генерал Кауфман рассказал Верещагину, что, поздравляя Скобелева с крестом, он прибавил:
– Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили.
Но и Кауфману пришлось признать заслуги Скобелева, водившего солдат в походы через пустыни. Тот отдавал коня под больных, нес ружья отстававших, пил свою порцию воды последним – истомившиеся солдаты все примечали... Он первым пролез в брешь, пробитую пушками, при взятии Хивы. Поехав отдыхать после этого похода на Ривьеру, Скобелев оказался в Испании, где шла война карлистов против правительства.
– Мне надо было видеть и знать, что такое народная война и как ею руководить при случае, – объяснял Скобелев.
Во время сражений он сидел на камне под пулями и делал заметки. Однажды он даже остановил бежавших с поля трусов и повел их в бой.
Верещагин, считавший поездку Скобелева в Испанию «дурачеством», признавал, однако, не одну лишь его дерзость и молодечество, но и воинский талант.
Потом снова были лихие операции в Средней Азии, после одной из которых недоверчивый Кауфман снял с себя Георгиевский крест и надел его на грудь Скобелеву, а в Петербург доложил: «Дело сделано чисто!» Кончил войну в Туркестане Скобелев генерал-майором и начальником Ферганской области, которую бросил тотчас, как наметилась война с турками, и примчался в Кишинев.
Но здесь над его Георгиевскими крестами посмеивались, говорили, что их еще нужно заслужить. Кабинетные генералы вроде начальника штаба Непокойчицкого считали, что ему нельзя доверить и роты солдат. Скобелев признавался Верещагину, что согласен на любую черную работу.
– Лучшие из генералов удивляются, чего я лезу. Дай другим получить то, что следует! А про то, что душа болит, что русское дело губится, никто и не думает. Скверно. Неспособный, беспорядочный мы народ. До всего доходим ценою ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты. Для нас история не дает примеров и указаний. Мы ничему не хотим научиться, все забываем...
– Ничего, все образуется, подождите немного, Михаил Дмитриевич, – утешал генерала художник.
– Буду ждать, Василий Васильевич. Я ждать умею и свое возьму, – сказал Скобелев.
В день объявления войны Скобелев с отрядом казаков стремительным броском занял Барбошский мост через реку Серет, чтобы не дать туркам взорвать его. Он старался быть полезным, но в результате его назначили начальником штаба дивизии, которой командовал его отец, Дмитрий Иванович Скобелев. И это после того, как он водил в бои едва ли не армию!..
Так художник и генерал оказались в одной дивизии, состоявшей из полка донских казаков, полка кубанских и еще полка осетин и ингушей. Вскоре они перезнакомились со всеми командирами и многими рядовыми. Еще в Галаце, где Верещагин увидел Скобелева-отца на смотру, Дмитрий Иванович поразил его своей фигурой: красивый, с большими голубыми глазами, окладистой рыжей бородой, старик сидел на маленьком казацком коне как влитой.
Верещагин ехал со Скобелевым через Бухарест до Фраешти. Жили дружно, весело. По очереди сочиняли стихи «к обеду». Верещагин тоже написал вирши:
Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.
Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками В Турцию идет,
В Турцию идет...
Полки шли с большими предосторожностями.
За столом обычно старый Скобелев подтрунивал над подвигами сына. В шутливых перебранках Верещагин становился на сторону молодого Скобелева, отчего старик надувался. К художнику все в дивизии относились очень уважительно, казачьи командиры почитали за честь называть его своим другом. Молодой Скобелев всем надоедал своими рассказами и великим множеством планов ведения будущей кампании. «Шальной!» – говорили офицеры.
Верещагин посоветовал ему быть сдержанным. Молодость, фигура, Георгиевские кресты – все это хорошо, а вот надоедать людям пока не стоит.
– Спасибо! – горячо сказал Михаил Дмитриевич. – Это совет истинного друга.
В Бухаресте художник с генералом купили себе хороших лошадей, ездили по городу, но Верещагин, как он выражался, «немного совестился его товарищества». Встречным барыням, особенно хорошеньким, молодой Скобелев показывал язык. В генеральских кутежах художник принимать участие остерегался. Скобелев то и дело посылал к отцу за деньгами, но скупой старик больше четырех золотых не давал.
– Ведь я лакеям на водку больше даю! – с сердцем говорил Михаил Дмитриевич и делал долги.
Старика как-то вызвали по начальству, и молодой Скобелев стал временно командовать отрядом. Куда и слетела вся его несерьезность! Он тотчас позаботился о лучшей нище для людей, навел всюду порядок. «Вот бы нам какого командира надо», – заговорили казаки.
Во Фраешти серебристой, сверкающей на солнце полосой впереди показался Дунай. Здесь художник вынужден был оставить отряд. В пути свалилась под откос вьючная лошадь, и полотна, краски, мольберт оказались основательно помятыми. Пришлось ехать в Плоешти и отпрашиваться у главнокомандующего в Париж. Великий князь Николай Николаевич отпустил художника, посоветовав лишь быть осторожным в разговорах с французами.
Верещагин вернулся через двадцать дней, застал дивизию в Журжеве и на другой же день оказался на барках под обстрелом турецкой артиллерии.
4. Перед делом
– Где это вы были? – возбужденно говорили Верещагину офицеры. – Как же вы не видели такого интересного дарового представления?
– Я его видел лучше, чем вы, потому что все время был на судах, – отвечал художник.
– Не может быть! – сказал старый Скобелев. – Впрочем, пойдемте туда и посмотрим аварии.
Осматривая обломки, все бранили Верещагина, называли его поведение «бесполезным браверством», но никому и в голову не приходило, что ради таких вот наблюдений он я приехал на место военных действий. Жаль только, думал он, что нет с ним ящика с красками... Впредь он уже не забывал своих рабочих принадлежностей, брал их с собою всюду, писал казацкие пикеты на Дунае, сцены солдатской жизни. Но вскоре он попал в такую боевую передрягу, что было ему не до кисти и красок...
Русские войска готовились н форсированию Дуная. Ширина реки достигала 700 метров, а на том берегу стояли десятки тысяч турецких солдат. Но уже готовы были понтоны и плоты, уже инструктировал десантный отряд генерал-майор Драгомиров. Мешала речная флотилия турок – мониторы, канонерские лодки и вооруженные пароходы. Против них ставили мины под прикрытием быстроходных катеров. Одним из них – миноноской «Шутка» – командовал лейтенант Николай Ларионович Скрыдлов.
Верещагин встретился с лейтенантом на Главной квартире еще до поездки в Париж. Коренастый, поросший дремучей бородой Скрыдлов от удивления выронил из глаза монокль и бросился в объятия художнику. Боже, сколько они не виделись! Скрыдлов учился вместе с Верещагиным в Морском корпусе, но на два года младше по классу. Они вместе плавали на фрегате «Светлана», и Верещагин как фельдфебель гардемаринской роты не раз, бывало, распекал Скрыдлова за разговоры в строю и всякие проказы, от которых тот не мог удержаться по живости Характера.
Скрыдлов звал Верещагина в Малы-Дижос, где располагался Дунайский отряд гвардейского флотского экипажа.
– Василий Васильевич, я буду на своей «Шутке» атаковать турецкий монитор. Пойдем под турку вместе!
Художник обрадовался случаю увидеть взрыв и по возвращении в Журжево тотчас поехал в гости к морякам. Те жили в отдалении от всех со своим большим складом динамита и пироксилина. Верещагин остался у моряков, спал вместе со Скрыдловым и его помощником на крыльце дома, защищаясь пологами от лютовавших майских комаров. В соседнем доме стоял начальник всего минного отряда капитан первого ранга Новиков. Верещагин уже познакомился с ним на обеде у главнокомандующего, который спросил Новикова, за что тот получил своего «георгин».
– Пороховой погреб взорвал в Севастопольскую кампанию, – ответил грузный капитан таким густым и оглу~ шающим басом, что всех за столом покачнуло. Теперь этот бас гремел, сыпались приказания, где и как ставить мины, которые Новиков называл «бомбами».
Каждую ночь Верещагин выезжал вместе со Скрыдло-вым ставить вехи на Дунае, чтобы обозначить будущие пути миноносок. Они подплывали на лодке к самому турецкому берегу. Ездили они также с секретным поручением ко всем частям, стоявшим у Дуная. В Парапане они встретились с генералом Драгомировым, энергично готовившим переправу. Генерал говорил о будущей переправе умно, логично, не раскрывая, однако, ее места.
– Я потребую от офицеров, чтобы последний солдат знал, куда и зачем мы идем, – сказал генерал. – На том берегу у нас не будет ни флангов, ни тыла. Пусть действуют самостоятельно. Фронт там, откуда неприятель...
«Шутка», выкрашенная под цвет воды, делала прики-дочные выходы, пробовала машину. Да и то в дурную погоду, чтобы турки не обнаружили, что у русских есть паровые миноноски. В тумане проглядывались утюжившие Дунай турецкие мониторы и пароходы. Искушение напасть на один из них было велико. Но обещание, данное Скрыдловым художнику, отодвигалось.
– Дело не в том, – оправдывался моряк, – чтобы уничтожить у турок один лишний монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность навести мост для переправы армии. Тут уж неблагоразумно, пожалуй, преступно рисковать одной из лучших миноносок, которых у нас мало. Как ты думаешь?
– И то дело, – разочарованно отвечал художник.
Так продолжалось до тех пор, пока Скрыдлов не сообщил по секрету, что видел у Новикова бумагу из Главной квартиры, в которой великий князь Николай Николаевич требовал срочной установки мин. Самому Скрыдлову приказали атаковать вражеские корабли, если будут мешать. Верещагин бросился к Новикову.
– Модест Петрович, разрешите пойти на «Шутке».
– Нельзя, – пробасил капитан. – Смотрите с берега.
– Ну, Модест Петрович...
Новиков сдался. Приятели занялись приготовлениями к походу «под турку». Скрыдлов велел сварить несколько куриц и достал припрятанную бутылку хереса, а художник складывал бумагу и краски в небольшой ящик, чистил ножиком палитру. За этим занятием и застал его младший
брат, Александр Верещагин, прибывший наконец в действующую армию.
Александр закончил военное училище, прослужил восемь месяцев в полку и вышел в отставку. Он жил с родителями в Петербурге, когда пришла телеграмма от старшего брата: «Если хочешь участвовать в войне, определяйся в кавказскую дивизию генерала Скобелева (отца), он согласен тебя принять». Громкое имя брата открыло перед ним двери военного ведомства, и вот уже молодой сотник, обряженный в черкеску с серебряными газырями, в громадную папаху и довольный своим видом, спешит к Дунаю. Он удивляется, с каким почтением говорят генералы и офицеры о его брате. Всякий из них, отправляя Александра, добавляет:
– Кланяйтесь Василию Васильевичу.
Александр не видел брата года три. Василий Васильевич, на его взгляд, заметно «постарел», залысины стали заметнее, борода подлиннее, глаза глубже ушли в свои орбиты.
– А, здравствуй! – закричал художник, обнимая брата. – Ну-ка покажись! Ай, какая смешная папаха! Засмеют казаки...
Молодой сотник, гордый своей экипировкой, сник. Но его тут же обрядили как положено.
– Пожалуйста, смотри за собой хорошенько, – наставлял брата Василий Васильевич, – казаки народ тонкий, сразу заметят, если что неладно. Не панибратствуй, не сходись сразу на «ты», держись самостоятельно, а главное, не обижай своих казаков.
Александр начинал понимать, чем заслужил всеобщее уважение его брат. В тот же день на обеде у Якова Петровича Цветкова, хитрого и вместе с тем простодушного казачьего офицера, много воевавшего на Кавказе и выслужившегося из рядовых, Василий Васильевич похваливал борщ и курицу, за что хозяин отблагодарил их, собрав казаков пятнадцать из своей сотни, которые «заспивали» старые казацкие песни. Яков Петрович дирижировал хором, а потом схватил со стены свою походную скрипку и стал пиликать не в лад, то и дело вытирая рукавом черкески вспотевшее лицо и гордо поглядывая на слушателей.
– Ай да Яков Петрович, молодец! – кричал старший Верещагин, хлопая в ладоши. Он дорожил товариществом симпатичных ему людей. И не обижал их высокомерием.
– Мэнэ ж никто не учив, сам дошов, – сказал довольный Цветков, вешая скрипку на гвоздик.
Только к вечеру художник сказал брату, что уходит в дело на «Шутке». Уже темнело. Катера, готовые к постановке минных заграждений, стояли в небольшой бухте. Матросы обкладывали их железные крыши мешками с песком.
Неожиданно прискакал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, стал с жаром проситься на одну из миноносок. Новиков наотрез отказался взять генерала с собой.
Художник Верещагин вспоминал впоследствии:
«Священник Минского полка, молодой, весьма развитой человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую предо мною: направо – последние лучи закатившегося солнца, и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу – матросы полукругом, а в середине – офицеры, все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.
Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памяти, сцены просто поразительной».
На прощание Василий Васильевич Верещагин крепко обнялся с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым.
– Вы идете, – сказал молодой генерал. – Этакий счастливец! Как я вам завидую!
«Не терпится тебе показать себя», – подумал с одобрением художник.