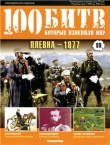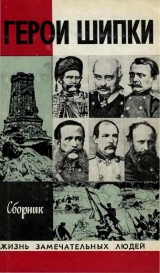
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
– Смотрите же, не проспите, мы завтра рано против вас будем, – сказал на прощание лейтенант Скрыдлов младшему Верещагину.
На другое утро юный сотник вглядывался в противоположный берег Дуная, казавшийся из-за ослепительно сверкающей на солнце воды сплошной темной полосой. Донесся пушечный выстрел и показался то ли турецкий пароход, то ли монитор. Маленькие миноноски сливались с водой и были не видны. Три часа продолжалась стрельба, пока турецкий пароход не скрылся. Александр так и не разобрался, что же происходило. Лишь к вечеру к нему в комнату торопливо вошел Левис-оф-Менар, обрусевший швед, командир Владикавказского полка, в котором начал службу младший Верещагин, и отрывисто сказал:
– Ступайте наверх, там брата вашего привезли...
5. «Шутка»
Пары поспели, и «Шутка» двигалась все быстрее и быстрее. Кругом было темно. Художник Верещагин едва различал по сторонам неподвижные черные массы. Это были миноноски отряда.
– Мы с тобой фарватер изучили, – сказал Скрыд-лов, – а они все на мели.
С миноносок их окликали, и «Шутка» стаскивала застрявшие суда. Уже начало светать, уже пора было выйти в русло Дуная и ставить мины, а «Шутка» все не уходила вперед, стояла за густыми деревьями островка, чтобы дать время подтянуться остальным. Только флотилия показалась из-за островка, как на недалеком уже турецком берегу зашевелились, вокруг судов забулькали пули.
Вперед вышла флагманская миноноска. На корме ее стоял Новиков, облокотясь на железную крышу. Тучная фигура его в черной шинели представляла прекрасную мишень, но он и не думал прятаться от пуль, барабанивших по железу. Флотилия ставила мины...
Со стороны Рущука пришел вооруженный турецкий пароход и стал обстреливать флотилию. Скрыдлов, весело морща короткий нос, поглядывал на него.
– Николай Ларионович, что же ты его не атакуешь? – спросил художник.
– Выстрелы его не вредят, пусть поближе подойдет.
Пароход вскоре ушел, а к «Шутке» на всех парах подлетела миноноска Новикова.
– Николай Ларионович, почему вы не атаковали монитор? – загремел командирский бас.
– Это не монитор, Модест Петрович, а пароход, – ответил Скрыдлов. – Я думал, вы приказали атаковать в том случае, когда он подойдет близко...
– Я приказал вам атаковать его во всяком случае. Извольте атаковать!
Новиков отвалил к флотилии, а Верещагин похлопал по плечу Скрыдлова.
– Ну, брат Николай Ларионович, смотри теперь в оба. Если будет какая неудача в закладке мин, сделают из тебя козла отпущения...
– Ладно, – оказал Скрыдлов. – Я буду спереди, у штурвала, наблюдать за носовой миной, а ты, Василий Васильевич, сиди на корме. Как крикну «Рви!», так и бросай кормовую мину.
Он приказал всей команде помыться, загнав в воду и художника, велел надеть пробковые пояса. Потом командир с художником съели курицу, глотнули хереса, и Скрыдлов улегся вздремнуть.
Нервы у Верещагина были не столь крепкие, он стоял на корме, облокотись на железный навес, закрывавший машину, смотрел на Рущук, на далекие горы за ним, на тонкий длинный шест на носу «Шутки» с привязанной к нему миной, которую требовалось взорвать электрическим током, когда шест упрется в борт вражеского судна. Тут, пожалуй, и от самой «Шутки» ничего не останется...
– Идет, – тихо, почти шепотом сказал один из матросов.
Между турецким берегом и высокими деревьями острова показался дымок. Скрыдлов вскочил.
– Отчаливай, живо!.. Вперед, полный ход!
Пароход стремительно приближался. По сравнению с
«Шуткой» это была громадина. Но и на пароходе, и на берегу поняли, что маленькая скорлупка с дымящей трубой несет смерть. С берега и парохода по «Шутке» лихорадочно стреляли. Миноноска вздрагивала всякий раз, когда ее охаживали куском металла.
«Ну, брат, попался, – сказал себе Верещагин, – живым не выйдешь».
Он снял сапоги и крикнул Скрыдлову, чтобы тот сделал то же самое. Командир приказал разуться всем матросам. Верещагин оглянулся, ожидая увидеть другую миноноску, которой приказали поддержать атаку. Ее не было.
Уже пробило снарядом железную крышу. Над ватерлинией, под тем самым местом, где стоял Верещагин, тоже была пробоина. Сидевший у штурвала Скрыдлов передернулся – в него ударила пуля, потом другая.
Высокий борт парохода навис над «Шуткой». Любопытство взяло верх, и Верещагин поднял голову. Турки оцепенели, ожидая взрыва. Рулевой «Шутки» было струсил и переложил руль направо. Раненый Скрыдлов схватил его за плечо.
– Лево руля, сукин сын, трам-тарарам, убью!
«Шутка» уткнулась шестом с миной в борт парохода,
но взрыва не последовало.
– Рви! – подал команду Скрыдлов. Взрыва не было енова.
«Шутку» уже относило от парохода. В ее пробоины вливалась вода. Ожидая, что судно вот-вот уйдет под воду, Верещагин поставил ногу на борт, и вдруг раздался сильный треск... В бедро, словно обухом, что-то ударило. Художник перевернулся и упал. Поднявшись на ноги, он почувствовал какую-то неловкость в правой ноге и стал ощупывать бедро. Штаны были разорваны в двух местах, и палец свободно вошел в мясо...
От турецкой крепости к тонувшей миноноске на всех парах шел монитор, вызванный, очевидно, пароходом.
– Николай Ларионович, – закричал художник, перекрывая треск выстрелов, – видишь монитор?
– Вижу. Атакуй его своей миной; приготовь ее и бросай, когда подойдет.
Монитор уже дважды выстрелил по «Шутке». Верещагин обрезал веревку мины и велел было матросу сбросить ее, как миноноска вдруг свернула в открывшийся слева мелководный рукав реки, куда войти монитор не мог.
Скрыдлов велел подвести под киль парусину, чтобы задержать течь, и все стали считать раны. Верещагин смотрел на лившуюся из бедра кровь и думал: «Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде казалось, что это сложнее. Хорошо, что кость не задело, тогда бы верная смерть».
– Ваше благородие, – доложил Скрыдлову минер, – все проводники пулями перебиты.
Так вот отчего не взорвалась мина. Скрыдлов был в отчаянии.
– Сколько трудов, приготовлений – все прахом!..
– Перестань, – рассердился Верещагин, – что за отчаяние такое. Это неудача, а не неуменье...
В сборном пункте на берегу, за островом, их уже ждали.
– Взорвали?
– Нет, – ответил Скрыдлов. Все неодобрительно молчали, пока Новиков не поблагодарил моряков и художника за неравный бой.
Скрыдлова понесли на носилках, сделанных из весел, а Верещагин сгоряча пошел сам, но уже через версту ослабел и повис на плечах матросов. По дороге их встретили молодой генерал Скобелев и полковник Струков. Михаил Дмитриевич расцеловал Верещагина и только повторял:
– Какие молодцы, какие молодцы!
Огибая залив, моряки понесли раненых в деревню Па-рапан и не видели, как на противоположном берегу развернулась конная турецкая батарея, чтобы обстрелять их. Наблюдавший за турками в бинокль Скобелев сказал Струкову:
–г Александр Петрович, беги, плыви, извести Новикова о том, что по ним сейчас начнут бить, пусть немедленно уходят с миноносками!
Полковник Струков бросился напрямик н морякам по воде. Проваливаясь, плывя, захлебываясь, он успел добежать и предупредить Новикова. Моряки снялись и ушли. Верещагина и Скрыдлова предложили перенести в один из домов в глубине деревни. Скрыдлов согласился, а Верещагин уперся и рассмешил всех.
– Не надо, – сказал он. – В крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет.
в. На грани смерти
Верещагин со Скрыдловым были первыми ранеными в русско-турецкую войну семьдесят седьмого года. Все проявляли к ним особенное внимание и, как один, советовали перевезти их в госпиталь при Главной квартире, но Верещагин отказывался ехать. «Быстро подлечусь и опять буду на ногах, – думал он. – Буду ехать потихоньку за авангардом армии. Для того я бросил в Париже начатые полотна, чтобы проваляться в госпитале и не увидеть войны?»
Он с удовольствием воспринял решение георгиевской думы, присудившей кресты Скрыдлову и Струкову. В жур-жевском госпитале Скрыдлову вырезали пулю из икры, и тот даже не охнул. У Верещагина только промывали его сквозную рану н при каждой перевязке вытаскивали из нее пинцетом кусочки сукна и белья. Местный лекарь, «не то румын, не то австрийский еврей», сделал художнику подкожное впрыскивание морфина, и он не чувствовал боли. Ухаживали за ранеными плохо, однажды они несколько часов не могли никого докричаться, хотя у Скрыдлова голос был как труба. И встать оба не могли.
– Давай бить стекла в окнах, – предложил отчаянный лейтенант.
Раны воспалились и гноились. Пришлось все-таки согласиться на переезд в бухарестский госпиталь «Бран-ковано».
Вскоре в госпиталь приехал сам император Александр II с большой свитой, в которой были румынский принц Карл и знаменитый врач Боткин. Царь положил Георгиевский крест Скрыдлову на грудь.
– Я принес тебе крест, который ты так славно заслужил, – сказал Александр И, говоривший «ты» только родственникам, друзьям и георгиевским кавалерам.
– А у тебя уже есть, тебе не нужно! – добавил царь, обращаясь к Верещагину.
– Есть, ваше величество, благодарю вас, – сказал художник.
– Скрыдлов-то смотрит бодрее тебя, – сказал Александр, стараясь быть приветливым.
Скрыдлов и в самом деле стал быстро поправляться, а у Верещагина начались невыносимые боли, от которых не помогал даже морфин. Разыгралась тропическая -лихорадка, полученная в странствиях по Востоку. Художника перевели в отдельную палату. При нем неотлучно была сестра милосердия Александра Аполлоновна Чернявская, отгонявшая веткой мух от его лица, менявшая раз десять за ночь намокавшее от пота белье. В забытьи перед ним открывались какие-то громадные пространства подземных пещер, освещенных ярко-красным огнем; в кипящей от жары бесконечности мимо него проносились миллионы человеческих существ на метлах и палках и дико хохотали в лицо...
Очнувшись как-то, он продиктовал сестре завещание. Картины просил продать, а деньги употребить на создание народного художественного училища. И еще надо бы обеспечить Елизавету Кондратьевну... Но как? Законной наследницей сделать он ее не может, потому что они не обвенчаны и милые родственники обдерут ее до юбок. Если он останется жив, непременно обвенчается, хотя между ними уже нет прежней близости.
Окно было открыто, лицо . обвевал ветерок. У него вдруг появилось ощущение, что он снова в детской, и это няня Анна Ларионовна сидит поодаль, а там, за тремя дверями, сидят в гостиной мать и отец...
Как не хочется умирать! Зачем только он вздумал посмотреть, как будут взрывать монитор? И взрыва не увидел, и получил такую нашлепку, что теперь не увидит ни будущих работ, ни старых. И о том, что еще не закончено, не отделано, будут судить вкривь и вкось. И уже судят, хотя бы тот же Стасов... Хорошо бы сейчас очутиться в своей чудесной мастерской.’ Сидел бы работал. Что же его оттуда гнало?
А гнало то, что захотел он увидеть большую войну и представить ее потом на полотне не такой, какой она по традиции представляется, а такой, какая она есть в действительности. И попался! Что делать, приходится умирать, но ведь мог и проскочить благополучно, и написать все, что увидел бы! А может, и проскочит? Какое это будет счастье!
Все друзья осуждают его, считают блажью, дурью желание выполнить цель, которой он задался, – дать обществу картины настоящей войны, не глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. Нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать холод, голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины его будут «не то».
Опытные врачи советовали разрезать и прочистить рану, но лечащий врач Кремниц (из чувства противоречия, наверно) не делал этого и еще укорял Верещагина, что тот не хочет выздоравливать, не хочет помочь ему, врачу...
И Верещагин, сильный человек, вдруг разрыдался.
– Доктор, доктор, что вы говорите! Я энергичен, деятелен, стал бы я из упрямства задерживать свое выздоровление! Просто слышу, что силы покидают меня... Спасите меня, доктор, решитесь на что-нибудь!
Выделения из раны уже имели подозрительный цвет. Явно начиналась гангрена. Врач наконец решился сделать операцию и вырезать разложившуюся плоть. Когда усыпленный хлороформом художник очнулся, к губам его поднесли бокал шампанского. От вина ли, от улыбок ли окружающих или от того, что в организме его произошел перелом, Верещагин почувствовал легкость в теле. Вскоре появился аппетит, и дело пошло на поправку.
Едва ли не каждый день художника навещали в госпитале знакомые, приезжавшие по делам в Бухарест и с театра военных действий, и из Петербурга. Он уставал от этих визитов, зато был в курсе всех событий.
Он уже знал, что Михаил Дмитриевич Скобелев предложил отцу переправить дивизию через Дунай вплавь и сам, чтобы доказать такую возможность, переплыл реку на коне. 15 июня Драгомиров начал переправу на плавучих средствах под прикрытием расставленных Новиковым мин.
Захватив плацдарм, наши войска соорудили мосты. На правый берег перешла значительная армия. Болгары радостно приветствовали' братьев-славян. Шесть болгарских дружин влились в передовой отряд генерала Гурко, который наступал на Тырново, стремясь захватить Шип-кинский перевал и перебросить часть войск за Балканский хребет, чтобы поднять восстание болгар. Молодой Скобелев, откомандированный в Габровский отряд, во главе его авангарда поднялся на Шипкинский перевал, куда пришел и генерал Гурко. Так встретились два генерала, которым суждено было прославиться в этой войне.
После взятия города Старая Загора турки перешли в отчаянное контрнаступление. Несмотря на героическую оборону русских и болгар, Старую Загору пришлось отдать.
Западный отряд русских войск после овладения Никополем попытался взять Плевну, Михаил Дмитриевич Скобелев уже командовал отрядом. В обоих неудачных штурмах Плевны он прорывался до самых ее окраин, но его отряд был невелик, проявленную им инициативу не поддержали.
Дурные вести доходили до Верещагина, когда он был еще в плохом состоянии. В те тяжелые дни приехал к нему из Вологды другой его младший брат, Сергей Васильевич Верещагин. Василий Васильевич был очень слаб.
– Подойди поближе, наклонись ко мне, – оказал он брату. – Что тебя привело сюда?
– Не могу ли я быть чем-нибудь полезен тебе?
– Ничем, любезный друг. Если ты приехал только для этого, поезжай назад. Но если ты не прочь посмотреть на войну, съезди на Главную квартиру и оттуда к действующим войскам. Послушай, как свистят пули. Когда вдоволь наслушаешься, езжай обратно.
Художник с усилием нацарапал рекомендации, велел своему ординарцу-казаку отдать юноше свое походное снаряжение и лошадей.
Сергей был на Шипке, когда ее заняли в первый раз. Находясь при Скобелеве, где был и Александр Верещагин, Сергей бесстрашно выполнял все поручения генерала.
– Какой-то он странный, ваш брат, – передавали в госпитале Василию Васильевичу люди, не спешившие подвергать себя опасности. – Ходит в атаку с плетью в руках!
В боях он был пять раз ранен, но в госпиталь не уходил. Под ним убили восемь лошадей.
Во время второго штурма Плевны, как рассказали Верещагину, генерал Скобелев с батальоном пехоты и горстью казаков дошел до самого города, нагнал страху на турок и тем самым спас от преследования и уничтожения разбитые и отходящие войска князя Шаховского. Скобелев подозвал во время боя Сергея Верещагина и сказал:
– Уберите всех раненых. Я не отступлю, пока не получу от вас извещения, что все подобраны.
В том же бою под Скобелевым убили лошадь. Художник Сергей Верещагин подскакал к нему и соскочил с седла.
– Не угодно ли вашему превосходительству взять мою?
– Не нужна мне ваша дрянная гнедая стерва! Не хочу, нет ли белой?
Белой не оказалось, и гнедая вынесла его из огня не хуже белой. У Скобелева был свой предрассудок – белая одежда и белая лошадь, говорил он, сохраняют ему жизнь. На самом деле ему хотелось, чтобы каждый солдат узнавал его и вдохновлялся примером генерала, не кланявшегося пулям. Оттого он и получил позже от турок прозвище «Ак-паша» – «белый генерал».
При взятии Ловчи высоко взлетела звезда Скобелева. Чтобы не губить зря солдат, генерал провел усиленную артиллерийскую подготовку.
– Развернуть знамена! Музыка вперед! – командовал генерал, появлявшийся на белом коне в самых опасных местах. Его начальник генерал Имеретинский отправил главнокомандующему телеграмму, в которой впервые была употреблена фраза, часто повторявшаяся впоследствии: «Героем дня – Скобелев».
Верещагина навещали в госпитале журналисты и государственные деятели. Много горького услышал он п о командовании армией, начальнике штаба Непокойчиц-ком, про которого говорили, что он «купно с еврейским товариществом морит армию голодом». Непокойчицкий ходил в друзьях у одного из руководителей компании Гре-гор-Горвиц-Коган и заключил с ними договор на поставку продуктов, но те считали это лишь хорошей сделкой, не брезговали никакими махинациями, снабжали армию гнильем и нажили миллионы.
Нередко приезжал канцлер князь Горчаков, человек, осведомленный едва ли не лучше всех. Неоднократно справлялись о здоровье Верещагина румынский король (тогда еще князь) и его супруга.
Госпиталь навещал великий Пирогов, престарелый уже, но не раз выручавший профессоров и ординаторов своими советами. Профессор Богдановский настаивал на том, чтобы Верещагин отказался от уколов морфина, так как это мешало его выздоровлению. Несмотря на жесточайшие приступы лихорадки, художник чудовищным усилием воли прекратил приемы наркотика. Рана обильно кровоточила. Появились пролежни. Верещагин, несмотря на отговоры, заставил себя встать и к концу июля уже делал первые шаги по палате. Начав ходить, он приглядывался к работе сестер милосердия и восторгался ими. «Даже там, где доктор не наклонялся над раной и не осматривал без крепкой сигары во рту – до такой степени бывал силен запах – сестрица, как нагнется над гнойным поражением, так и не разогнется, пока всего не промоет, не прочистит, не перевяжет», – записал Верещагин.
Еще не поправившись, с еще кровоточащей раной, Верещагин решил выписаться и выехать в действующую армию. Не помогли никакие уговоры...
7. Перед ПлевноЗ
Верещагин торопился к Плевне. Милая сестра Чернявская («мама», как он ее называл) решила поехать в передовой госпиталь, и такая попутчица в его состоянии была очень кстати. До Журжева ехали поездом, а оттуда берегом Дуная на фаэтоне, влекомом тройкой лошадей. После двух с половиной месяцев пребывания в госпитальной духоте речные дали, чистый воздух вызвали необыкновенный подъем духа, ощущение полноты жизни.
Понтонный мост через Дунай был цел и невредим, хотя возле Рущука по-прежнему стояли турецкие мониторы и пароходы – миноноски Новикова напугали их раз и навсегда, и они боялись высунуть нос за пределы крута, защищаемого крепостной артиллерией. В Систове художник расстался с Чернявской. Он сделал несколько эскизов и выехал под Плевну, так как, по слухам, там готовилось что-то интересное.
Местность под Плевной поразила его своей неживо-писностью, безотрадностью даже. Какие-то холмы на горизонте, среди них грязный восточный городишко. Видны были широкие короткие черточки далеких редутов. Наши войска залегли на равнине. Слышалась пальба, над землей стлался дым. Никакой красочности, никакой крепости с башнями, воротами и рвами, которую штурмовали бы славные воины.
На одном из холмов расположились царь и главнокомандующий со своими свитами. Главнокомандующий заметил Верещагина и бросился обнимать его.
– Как! Вы! Молодчина, молодчина вы эдакий! Как ваше здоровье? Что рана? Видели ли вы государя? Пойдем к нему!
Он потащил художника на холм, с которого Александр II, сидя на складном стуле, наблюдал в бинокль бомбардировку Плевны.
– Здравствуй, Верещагин, – сказал он с любезной улыбкой. – Как твое здоровье?
– Мое здоровье недурно, ваше величество.
– Ты поправился?
– Поправился, ваше величество.
– Совсем поправился?
– Совсем поправился.
Спрашивать царю больше было нечего. У художника эти равнодушные знаки внимания вызывали лишь неловкость и досаду. Царь силился придумать еще вопрос, но тут художник совершил бестактность (с точки зрения придворного этикета). Стоя с непокрытой головой под моросившим дождиком, он почувствовал назревавший насморк и, подавив желание чихнуть, надел фуражку. Не спросив дозволения! Царь тотчас отвернулся и поднес к глазам бинокль.
Наступила минутная неловкость. Царская свита не знала, как себя вести по отношению к художнику. Выручил князь Суворов, схвативший Верещагина за руку и потащивший в толпу:
– Земляк, земляк! Ведь я Суворов! Ваш, новгородский...
Тогда и другие – румынский князь, генералы начали жать ему руку и справляться о здоровье.
Верещагин услышал, как Суворов стал говорить царю о Сергее Верещагине:
– Он тоже художник, ваше величество. Состоит волонтером-ординарцем при молодом Скобелеве. У него пять ран, под ним убито восемь лошадей! Наградите его, ваше величество!
– Пусть представят к солдатскому Георгиевскому кресту, – сказал царь.
Обстрел Плевны продолжался. Плевна, Плевна! Слава русского солдата и позор командования русской армии! И это после успехов, после переправы через Дунай, взятия Никополя и набега Гурко за Балканы... Ведь брал же Плевну русский отряд. Легко взяли, легко отдали город, а турки стали укреплять его, возводить редут за редутом, и вот теперь уже позади два неудачных штурма, громадные потери. Через несколько дней, 30 августа, будет третий штурм, приуроченный ко дню тезоименитства Александра II. И останется в народе песня об этом дне:
Именинный пирог из начинки людской Брат подносит державному брату...
Это по поводу Плевны Верещагин сделал запись: «Как мало, как поверхностно мы изучаем историю, и как зато мало, как поверхностно она учит нас!»
Страшная была паника после того, как турки отбили второй штурм. До самой переправы через Дунай бежали некоторые. Потоком бегущих было увлечено и начальство. И лишь Скобелев, по примеру Суворова, встречая толпы озверевших от страха беглецов, кричал им:
– Так, братцы, так, хорошо! Заманивайте их! Ну, теперь довольно! Стой! С богом вперед!
Теперь Плевна обложена с трех сторон русскими и румынскими войсками. На блокаду не хватает сил. Верещагин спросил одного из штабных генералов:
– Неужели опять будут штурмовать?
И получил ответ:
– Что смотреть на этот глиняный горшок – надобно разбивать его!
«Старая история, – подумал художник, – шапками закидаем». «
Он думал о братьях, состоявших по его рекомендации ординарцами при Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Александр эгоистичен и трусоват, служил в драгунах и не ужился, стал управлять доставшимся ему большим имением и доуправлялся до продажи его. Зато Сергей не срамит имя Верещагиных... Художник решил съездить на левый фланг, чтобы повидать братьев и Скобелева. По дороге заглянул на одну из батарей. Экипаж привлек внимание турок, решивших, что приехало какое-то начальство. Начался обстрел...
Недовольный этим, командир батареи стал стращать художника:
– Вот тут, где вы сидите, вчера двоих убило, а троих ранило...
Но Верещагин спокойно зарисовывал расстилавшуюся перед ним местность, редут, окутанный дымом...
– Ну и обстрелянный же вы, – с уважением сказал командир батареи.
Не добравшись до левого фланга засветло, художник поворотил назад. Накануне штурма к нему приехал «на минутку» Александр Верещагин. Художник, живший в одной хате с полковником Струковым, с ним и с братом отправился обедать к главнокомандующему.
– Верещагины, – сказал за обедом великий князь, – государь приказал послать от своего имени вашему штатскому брату Георгиевский крест.
После обеда, вернувшись к себе, художник сказал Струкову:
– Да ведь грязь-то какая – по колени! Неужели по такой грязи можно идти на штурм?
– Так и пойдут, – ответил тот.
– Да с чем же, с какими силами?
– Пятьдесят пять тысяч наших и тридцать тысяч румын, так решил его высочество. Приказ отдан, отмены не будет.
– Знаешь что? – сказал брату Александр Верещагин. – Мне что-то не хочется быть завтра в деле, у меня есть предчувствие, что меня убьют.
– Вздор, не убьют, не беспокойся, – насмешливо сказал художник. – Много, если ранят, так это ничего, вылечим. И не забудь же, передай брату о награждении. Да смотри будь молодцом. Прощай!
Верещагин больше беспокоился о судьбе Сергея, зная безоглядность его.
8. Под Плевной
Если бы не рана, разве проторчал бы он весь этот день на холме в мучительном неведении, наблюдая издали проклятое сражение?
Во время завтрака Верещагин сидел рядом с великим князей Николаем Николаевичем, который суетливо теребил свои жидкие бакенбарды, а потом, зажав голову ладонями, стал нервно повторять:
– Как наши пойдут, как пойдут сегодня!..
Полководец он был никакой. Штурм назначили на три
часа дня, а диспозицию еще не разослали. Моросил дождь. Глинистая почва так облепляла сапоги, что ходить было трудно, не то что бежать в атаку. Генералы помалкивали. Что скажешь, если государю обещано взятие Плев-ны в день его именин!
На холме собрались царь со свитой, главнокомандующий. Верещагин познакомился с князем Баттенбергом, красивым молодым человеком, будущим государем Болгарии. К художнику подошел граф Муравьев, министр иностранных дел, тоже будущий...
– Позвольте мне как русскому осведомиться о вашем дорогом для всех нас здоровье?
О здоровье же спрашивал и доктор Боткин. Он увел Верещагина в кусты, чтобы осмотреть рану.
– Однако разворотило-таки вам! – сказал он. – Как вы думаете, возьмем Плевну?
– Сомнительно...
– Позор! – понизив голос, продолжал Боткин. – Ничему не научились... Терпеть поражения с такими солдатами! Остается надеяться на русского человека, на его мощь, на его звезду в будущем. Может быть, он сумеет выбраться из беды, несмотря на этих стратегов и интендантов. Стоит поближе приглядеться к русскому солдату, к его уму, находчивости и одновременно покорности, и начинаешь со злобой относиться к тем, кто не умеет руководить им...
Темные облака и дым над полем битвы – вот и все, что было видно с холма. Царь и его свита стояли на коленях. Священник служил молебен по случаю именин царя, прося высшие силы «сохранить воинство его». Вдруг раздался сильный ружейный треск и с позиций донеслось громкое «ура!». Что же это? Штурм назначен на три часа дня... С войсками нет никакой связи. Что же там происходит?
На холме поставили стол со стульями для царя, его брата и генерал-адъютантов и подали завтрак с шампанским. Александр II поднял бокал:
– За здоровье тех, которые там дерутся, – ура!
– Ура-а!
Начался штурм. Выстрелы слились в беспрерывный рев. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, Верещагин вместе с князем Карлом румынским и старым Скобелевым, прихрамывая, спустился вниз и встал в кустах, где изредка шлепались гранаты с Гривицкого редута.
Гранаты косили шеренги солдат, медленно продвигавшихся по скользкой и вязкой почве. Солдат, приблизившихся к редутам, расстреливали оттуда картечью. Войска стали отходить.
– Отбиты! – сказал румынский князь, не спускавший глаз с правого фланга, где сражались его полки. Он был смертельно бледен и пошатывался. – Коня, скорей коня!
Князь ускакал, а Верещагин спросил оставшегося румынского полковника:
– Что это он так перебудоражился?
– Очень просто, – сказал с неожиданной откровенностью румын. – Прекрасно знает, что не усидит на троне, если его разобьют.
– Миша, как там Миша? – беспокоился о сыне старый Скобелев.
Художник вернулся на холм, где царь по-прежнему сидел на стуле и тщетно пытался разглядеть, что же делается на поле битвы. За ним толпой стояли осанистые генералы. Не скакали ординарцы, не отдавались приказы... Кучка людей в богатых мундирах и при саблях на холме и густые клубы дыма в долине. «Армией никто не руководит!» – пришло вдруг в голову художнику. Эта картина врезалась в его память, и потом он написал ее, дав пищу для сотен толкований. «Под Плевной».
В шесть часов вечера из сплошного дыма показался всадник в широкополой шляпе. Это был американский агент капитан Грин, единственный вестник с поля битвы. Он сказал, что штурм отбит повсюду. На лицах царя, главнокомандующего, свиты был ужас. Никто и не подумал узнать, что же на самом деле происходило у плевенской твердыни. Никто ничего не предпринял...
Лишь поздно ночью штаб узнал о действительном положении дел, да и то со слов случайно приехавшего офицера. Американец соврал. На Гривицком редуте развевались русские и румынские знамена. На левом фланге отряд молодого Скобелева захватил и удерживал несколько редутов, названных потом «Сквбелевскими». Они висели над самой Плевной, путь в город был открыт...
Все повеселели. До утра офицеры сидели у костра, шутили. Художник радовался, хохотал так, как не хохотал во всю свою жизнь. И, как оказалось по старой примете, не к добру.
Утром с левого фланга, от Скобелева, прибыл с донесением офицер. Увидев Верещагина, он подошел к нему.
– Я должен сообщить вам, Василий Васильевич, что один брат ваш убит, а другой ранен.
Художник понял сразу: Сергей убит, Александр ранен.
9. После атаки
Потом говорили, что всю неделю после злополучного дня художник Верещагин казался окружающим полупомешанным. Он настойчиво искал тело брата. Взгляд его был отрешен. Он напряженно думал. Думал о героизме и страданиях одних и глупости, тщеславии и подлости других.
Теперь можно восстановить события этого дня.
Сотник Александр Верещагин, расставшись со старшим братом, вернулся на левый фланг. Скобелев, наверно, уже был на позиции. Александр ехал по раскисшей дороге. По небу медленно ползли низкие свинцовые тучи. Сотник ежился. «Неужели, – думал он, – я самый трусливый, самый малодушный? Отчего я не на позиции, словно беглец какой! Что подумает обо мне Скобелев?»
Завидев высокую фигуру Скобелева, ходившего взад и вперед по дороге и потиравшего по обыкновению руки, Александр тихонько сполз с лошади, и, точно школьник, который опоздал в класс, постарался как можно незаметнее смешаться с толпой офицеров.
Приближалось время атаки. Скобелев велел подать коня, офицеры бросились к своим лошадям. В это время подъехал Сергей Верещагин в короткой черной куртке на маленькой турецкой лошадке.
– Сережа, – крикнул ему Александр, – Василий Васильевич просил тебе передать, чтобы ты возвратил ему вещи, повозку, краски, а то ему работать нельзя.
– Не время, братец мой, теперь об этом разговаривать! – возразил Сергей Верещагин и, перекинувшись еще несколькими словами с братом, хлестнул лошадь плетью под брюхо и карьером понесся на позицию.
Больше они не увиделись.
Художник Верещагин потом допытывался у брата
Александра, почему тот хотя бы не сказал Сергею о награде, о «георгин». Зависть, обыкновенная зависть трусоватого человека. Зависть к родному брату.