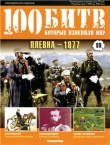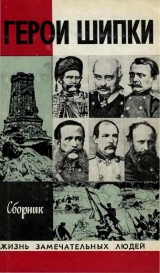
Текст книги "Герои Шипки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
После торжественного богослужения, совершенного болгарскими священниками, Гурко вновь отправился к войскам.
В полевой госпиталь несли несколько солдат, раненных в мелких стычках с засевшими в турецких кварталах башибузуками. Один из них привлек внимание генерала. Опрокинутая голова с закрытыми глазами, смертельная бледность лица и скорченное в судороге тело – все говорило о сильных страданиях. Вокруг шли солдаты, провожая своего унтера.
– Антон Матвеич, больно тебе, родимый?
– Да положите же его ловчее...
Гурко слез с коня и подошел к носилкам, узнав старого гренадера: «Я так и не отблагодарил его...»
– Куда ранен? – спросил командующий у носильщиков.
Один из них поднял борт шинели: бок мундира был разодран, рубаха и тряпка, послужившая первою перевязкою, набухли кровью; с носилок тоже капала кровь. Пуля попала в нижние левые ребра.
– Солдат! – глухо и властно позвал Гурко.
Бобин застонал и открыл глаза, остановив взгляд на
генерале.
– Ты узнаешь меня? Помнишь маневры... под Петербургом...
Унтер-офицер силился что-то сказать, но только бессвязные хрипы вырывались у него из горла. Наконец он совладал на мгновение с собой:
– Козлов, ваше превосхо... Козлов...
– Это он своего дружка поминает, – хмуро пояснил командующему один из гренадер. – Замерз дружок-то его на перевале.
– Ты видишь меня, солдат? – снова спросил Гурко.
Бобин молчал.
– Нас он не видит, – продолжал носильщик. – Небось, Козлов его уже там встречает... Вот он с ним и разговаривает...
Да, переход через Балканы был завершен, а смерть продолжала косить людей. В случайной стычке с башибузуками был убит командир 3-й гвардейской дивизии добрый старик Каталей и тяжело ранен в позвоночник генерал Философов. Погиб и командир лейб-гвардии Волынского полка генерал Миркович, на редуте у которого под Плевной Гурко со Скобелевым соревновались в отваге.
«И сколько еще погибнет...» – пронеслось в голове командующего.
17
Совершив небывалый в истории подвиг – переход зимой через Балканы, – русские фактически выиграли всю кампанию и приблизили болгарам день обретения ими национальной независимости. Передовой Западный отряд и его командующий внесли в дело победы над османами огромный вклад. Но как своенравна а капризна для русского полководца была фортуна, зависевшая от настроений двора! Над этим горько иронизировал еще учитель Гурко – великий Суворов, говаривавший, что у богини удачи висящие спереди волосы и голый затылок...
Гурко не знал того, что императором Александром II уже принято решение о передаче командования его отрядом наследнику-цесаревичу, а его самого хотят сделать лишь начальником кавалерии этого отряда. Не знал он и того, что решение это будет отменено лишь благодаря случайности: новый командующий Александр Александрович непременно желал видеть своим начальником штаба генерала Обручева, в то время как великий князь – главнокомандующий Николай Николаевич не мог простить Обручеву того, что гот отказался участвовать в подавлении польского восстания 1863 года. Когда кандидатура Обручева была решительно отклонена, наследник, обидевшись, сам отказался от назначения.
Но если бы даже Гурко знал все это, он все равно с той же последовательностью и настойчивостью выполнил до конца свой воинский долг, так как постоянно ощущал главную свою ответственность – перед своими солдатами, перед армией, наконец, перед самой Россией.
В судьбе самого Гурко русско-турецкая война 1877– 1878 годов была единственным ослепительным взлетом. Награжденный за свои подвиги «Георгием» II степени и званием генерала от кавалерии, он вел затем спокойную и размеренную жизнь, занимая крупные административные военные посты (с 1880 года петербургский генерал-губернатор, с 1882-го – одесский), выйдя в отставку в чине генерал-фельдмаршала. Он скончался 15 января 1901 года...
...Войска Гурко готовились к выступлению. Из Софии им предстояло, находясь на правом фланге русской армии, совершить победное шествие через Татар-Пасард-жин, Филиппополь, Родопские горы вплоть до берегов Эгейского моря, тесня и преследуя деморализованных турок Сулеймана-паши.
25 декабря 1877 года Гурко продиктовал приказ отряду, поздравляя его с одержанной двойной победой – над врагом и природой:
«Занятием Софии окончился этот блестящий период настоящей кампании – переход через Балканы, в котором не знаешь, чему удивляться: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем пли же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубокими снегамп. Пройдут года, и потомки наши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: «Здесь прошлп русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-бо-гатырей».
Дмитрий Жуков
«НА ШИПКЕ ВСЕ СПОКОЙНО!»
1. Предчувствие
.Верещагин вернулся из Парижа через двадцать дней, но не задержался в шумной и людной Главной квартире, взбудораженной прибытием в армию царя, а сразу же переехал из Плоешти в Журжево, где стоял старый Скобелев со своей дивизией. Уже наутро от начальника дивизии прибежал казак.
– Ваше благородие, турки из пушек стреляют. Их превосходительство генерал Скобелев просят – пожалуйте на берег.
Дмитрий Иванович Скобелев, красивый старик с большими голубыми глазами и рыжей окладистой бородой, сидел со своим штабом под плетнем и смотрел на реку. Солнце уже съело утреннюю дымку, и раскинувшийся на том берегу Дуная городок Рушук с его фортами, минаретами и большим военным лагерем был виден как на ладони. Форты плевались клубками дыма, потом доносился треск пушечных выстрелов и слышался вой снарядов, разрывавшихся то в воде, то далеко на берегу, там, где начинались городские дома.
– Василий Васильевич! – закричал Скобелев. – Полюбуйтесь! Турки пронюхали, верно, что мы готовим переправу.
Перед городом, между берегом и островком, стояли на приколе старинные купеческие суда, какие-то допотопные барки.
– Туда метят, – добавил генерал. – Думают, мы на этих ковчегах переправляться будем.
Художник Верещагин, приложив ладонь козырьком к высокому и гладкому лбу и прикрыв ею от солнца узковатые, глубоко сидящие глаза, смотрел, как сыплют из домов жители с прихваченным впопыхах скарбом. Статный, высокий, он не производил впечатления человека мирной профессии, случайно затесавшегося в толпу офицеров. Орлиный нос, усы, густая борода, плотно облегающий фигуру сюртук с Георгиевским крестом в петлице, шашка на тонком ремне, револьвер – вид был весьма воинственный.
...Снаряды рвались уже возле барок, но именно там, на палубе одной из них, оказался художник, наблюдавший как завороженный за кутерьмой в домах и за падением снарядов в воду. Турки пристрелялись, и гранаты уже ударяли в самый песок берега. На что похожи взрывы? То ли на букеты, то ли на кочаны цветной капусты... Взрываясь в воде, снаряды вздымали высокие фонтаны. Один снаряд угодил в нос барки, на палубе которой стрял Верещагин. Другой пробил борт и взорвался в трюме, встряхнув судно так, что художник еле устоял на ногах.
Было жутковато. Над турецким фортом появился очередной клубок дыма, и Верещагин подумал:
«Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек*.
Видение собственной смерти пронизало всю плоть его дрожью ужаса, вещего ужаса, ибо через четверть с лишним века суждено будет художнику умереть именно той смертью, какую нарисовало ему воображение, но он поборол страх... Он всегда умел подавлять страх. Чтобы уметь бороться со страхом, надо родиться мужественным человеком и упорно воспитывать себя.
2. Воспитание мужества
Прошли почти тридцать пять лет с того дня, когда череповецкий помещик Василий Васильевич Верещагин записал в своей «памятной книжке»: «1842 года. 14 октября, в семь часов вечера родился сын Василий». На стене висел портрет деда новорожденного, тоже Василия. Длинные напудренные волосы, зеленый с красными отворотами павловский мундир. Род Верещагиных терялся в веках, но знатностью и богатством не отличался. Все это был средний служилый люд, да и сам Василий Васильевич дослужился в сенате лишь до чина коллежского асессора, вышел в отставку, поправил дела женитьбой на богатой невесте Анне Николаевне Жеребцовой и три трехлетия подряд избирался предводителем дворянства в Череповецком уезде Новгородской губернии.
Имея характер спокойныщ рассудительный, флегматичный даже, но упорный, он уживался со своей красивой узкоглазой женой, внучкой не то татарки, не то турчанки, нервной, раздражительной, вспыльчивой. Он не мешал ей зачитываться французскими романами, а когда пошли дети, предпочитал сам их воспитывать, боясь, что Анна Николаевна, безудержная на ласку и на гнев, испортит их. Детей была дюжина, а остались в живых семеро. Василий родился вторым, Сергей – третьим. Самого младшего звали Александром.
Ребенком Вася Верещагин был болезненным, но резвым. От отца ему досталось упорство, от матери впечатлительность, самолюбие и вспыльчивость. Но лучшее из качеств человеческих – совестливость – привила ему няня Анна Ларионовна. Он любил ее больше всех на свете, больше отца, матери и братьев, а она покрывала его проказы, выгораживала перед родителями, выхаживала любимца.
Часто потом в дальних краях являлся перед его мысленным взором родительский дом с мезонином в полуверсте от реки Шексны, службы вокруг, поля, сосновый бор в отдалении, прогулки с няней за грибами, катанье с гор зимой... Не катаясь ли с гор, сломал он себе руку и, когда деревенская костоправка занималась ею, не вскрикнул ни разу, боясь потревожить болевшую мать... Шесть лет ему было. Он с восторгом всматривался в образа во время церковных служб, перед любой литографией или картиной млел и терялся. То ли в шесть, то ли в семь лет срисовал он с платка своей няни картинку – тройку лошадей преследуют волки. И волки, и стреляющие в них седоки, и деревья, покрытые снегом, получились у него так хорошо, что няня, отец, мать и многие приезжие дивились и хвалили маленького художника, но никому и в голову не пришло, что это может оказаться его призванием, что не худо бы дать ему художественное образование. Ему, сыну столбовых дворян, записанных в 6-ю родословную книгу, сделаться художником? Что за срам!
Семи лет Васю Верещагина отдали в Царскосельский малолетний кадетский корпус. Плакал он, расставаясь с няней, с родителями, переходя на попечение дядек и классных дам. Вставать по барабану, молиться по сигналу, есть по команде, ни шагу не делать без строя, получать розги в наказание за проступки – это не отцовский дом, где тоже водились розги и для крепостных, и для детей, но не такие обидные. У гордого мальчика хватило способностей, чтобы стать лучшим по успехам, избегать наказаний, быть первым по чину в своем классе. Он овладел французским и английским языками, но математика давалась туго. Она и подвела его через три года, когда подошла пора переходить в Морской корпус, и Вася Верещагин оказался лишь в подготовительном классе.
Ему казалось, что товарищи смеются над ним, и он работал, не признавая усталости, вставал в три-четыре утра, занимался до двенадцати ночи, чтобы стать первым во всем. Упорство его вызывало удивление и одобрение старших.
В десятилетнем возрасте он как-то гостил в Петергофе у генерала Лихардова, своего дальнего родственника. Тот решил пошутить над Васей и сказал, что, хотя он молодец, одного молодецкого поступка ему не сделать.
– Сделаю!
– Нет, не сделаешь!
– Сделаю! – настаивал мальчик.
– Ну тогда стань на колени, заложи руки за спину и бросься лицом вниз...
Необдуманная шутка стоила генералу тяжелого перелома руки. Он надеялся на благоразумие кадета, а тог и в самом деле стал на колени, заложил руки за спину, и... генерал успел перехватить рукой стремительно падающего мальчика у самого пола.
Еще в малолетном корпусе Верещагин увлекался книгами по русской и военной истории, боготворил героев Полтавского и Бородинского сражений. Морской корпус, основанный в 1701 году Петром I и воспитавший в своих стенах флотоводцев Ушакова, Крузенштерна, Сенявина, Корнилова, Невельского, Нахимова, свято хранил военные трофеи и реликвии русского флота и заносил имена питомцев, отдавших свою жизнь за родину, на мраморные доски.
Имя же Василия Верещагина часто записывалось на красную доску, потому что он из месяца в месяц получал по всем предметам высший балл – 12. «Долг» и «честь» не были для него просто словами. Как и большинство русских офицеров-патриотов, выходивших из стен корпусов, он считал эти понятия необходимым условием существования. Начальство отметило его характер и наклонности присвоением воинского звания унтер-офицера. Он плавал на пароходе «Камчатка», фрегатах «Светлана» и «Генерал-адмирал» за границу, побывал в Копенгагене, Бресте, Бордо и Лондоне, где в музее восковых фигур удивлялся малому росту императрицы Екатерины II, изображавшейся на портретах всегда стройной и высокой. Это удивление потом переросло у него в негодование на историков, живописцев и писателей, извращавших истину из лести...
После плавания на «Генерал-адмирале» его признали «весьма способным к морской службе» и назначили фельдфебелем гардемаринской выпускной роты, сделав самым старшим и уважаемым кадетом Морского корпуса. А он, получив в полное свое распоряжение большую и светлую комнату и некоторый досуг, развесил на стенах гипсы и с увлечением занялся рисованием.
Он и прежде брал уроки у художников, но теперь появилась возможность ходить в Рисовальную школу петербургского Общества поощрения художников. Ее смотритель Ф. Тернер, оценивая первый же его рисунок, сказал:
– Помяните мое слово – вы будете великим артистом.
Ради школы Василий Верещагин отказался от кругосветного плавания. По его примеру братья – кадеты Сергей и Михаил – тоже стали ходить в Рисовальную школу.
Ему было семнадцать лет, когда в корпусе состоялись выпускные экзамены, которые принимала представительная комиссия во главе со знаменитым адмиралом Федором Петровичем Литке. Самый молодой на своем курсе, Верещагин набрал высшую сумму баллов – 210. У второго ученика набралось всего 196.
Но, к ужасу наставников Верещагина, тотчас после производства он подал в отставку. Морское ведомство не хотело расставаться с лучшим из выпускников корпуса. Отец пригрозил лишить его всякой денежной помощи, пророчил голодное, нищенское существование. Мать плакала...
– Брось, Вася, – уговаривала Анна Николаевна, – не оставляй прекрасно начатой службы, чтобы стать рисовальщиком... Ведь рисование не введет тебя в гостиные, а службой ты откроешь себе доступ повсюду.
Но Верещагин был непреклонен. Он настоял на своем, и 11 апреля 1860 года его произвели «в прапорщики ластовых экипажей с увольнением от службы за болезнью, согласно его просьбы».
И он тотчас поступил в Академию художеств.
В нем не было страха перед жизнью. Почувствовав свое призвание, он не хотел терять ни года, ни месяца, ни дня. Если человек смалодушествует раз, то будет и другой. Он испугается потерять благополучие, а проживет жизнь впустую, потому что редко кому удается потом преодолеть инерцию движения в сторону и наверстать упущенное. Блаженны ходящие трудными, но прямыми путями. Они успевают сделать многое...
Но постоянная борьба с устоявшимися мнениями, стремление к самоутверждению отнюдь не способствуют формированию характера благостного. Нетерпимость к фальши, нежелание подлаживаться к кому бы то ни было, горячность, приводившая порой к взрывам, неистовствам даже, делали Верещагина человеком далеко не легким в общении, и у не знавших того, что знал о себе он сам, раздражительность его нередко вызывала враждебные чувства. Однако в его поступках, во всей линии жизни была своя внутренняя логика – подчеркиваемая независимость, кажущаяся противоречивость побуждений и сама вспыльчивость обнаруживали в конце концов напряженную работу ума и поиски справедливости, глубочайшее уважение к людям и вечным ценностям, упорство в постижении секретов мастерства и в умении доводить до конца всякое задуманное дело, что вкупе с талантом и считается гениальностью.
Тонкий и бледный юноша жил на небольшую стипендию и поражал всех в академии исступленной любовью к искусству и умением раздвигать представление о пределах человеческой выносливости. Но сама академия, выучивая своих питомцев, делая из них настоящих мастеров, сеяла семена бунта. Она не осмеливалась преступить черту классицизма. Увлеченная красотой пропорций и навязывавшая ученикам консервативные каноны, она не слышала зова жизни и новых идей, западавших в пытливые умы. И художник Лев Жемчужников, с которым Верещагин познакомился через своего профессора Александра Бейдемана, призывал: «Начните же с живой любви к народу, да не словами, а всем, что в вас живет; плачьте и смейтесь, смейтесь над его судьбой, как Федотов смеялся над своей; но, чтобы так живо любить народ, надо его изучать, узнать; тогда только произведения ваши будут верны и прекрасны».
Бейдеман был другом Федотова и сторонником народности и национальной определенности в искусстве. Ядовитые замечания профессора о классических пристрастиях его коллег и призыв следовать натуре привели к тому, что Верещагин стал много рисовать на улицах и площадях.
Во Франции, куда Верещагин вместе с Бейдеманом выезжал в начале 1861 года расписывать фронтон русской церкви в Париже, к молодому художнику, рисовавшему в свободное время с натуры, приглядывался известный художник Эжен Девериа.
– Копируйте, – наставлял он, – копируйте великих мастеров. Работайте с натуры только тогда лишь, когда сами станете мастером!
– Нет, не буду копировать! – возражал Верещагин.
– Вы вспомните меня, но будет поздно, – говорил француз.
Верещагин было послушал его и поработал в академических традициях. К концу первого года учения он представил эскиз «Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом» и получил за него серебряную медаль, чем подорвал недоверие к его силам даже у матери. Но, сделав по тому же эскизу рисунок сепией на большом картоне, он тотчас после экзамена изрезал и сжег картон, сказав изумленным товарищам и профессорам, что академический псевдоклассицизм в его глазах «опошлел» и что он не намерен больше «возвращаться в этой чепухе».
Он посещал публичные лекции историка Костомарова, зачитывался Пушкиным, Гоголем, Толстым и Тургеневым. Время подчиняло себе живопись, становившуюся похожей на литературу. И он уехал на Кавказ учиться жизни, бросив, по сути дела, академию. Но был ли это бунт или просто поиски своего пути? Он был благодарен академии за ученье, но восставал против ее претензий на роль исповедальницы сердец и помыслов молодых художников.
– Поставила на ноги, талантливому помогла, дома ли или для поездки за границу, и баста, более не мешайся, – говорил он.
Он ушел из академии за несколько месяцев до знаменитого «бунта» дипломантов, которые во главе с Крамским отказались писать выпускные работы на заданные сюжеты, демонстративно порвали с оплотом классицизма и образовали Артель художников. Верещагин демонстраций не устраивал. Он просто сделал то, что считал нужным, так как «довольно много читал и слышал, голова развилась и глупость условных форм и рамок стала ясна к
В 1863 году Верещагин уехал работать на Кавказ.
Трое друзей-художников – Лев Жемчужников, Александр Бейдеман и Лев Лагорио – опекали молодого Верещагина. Они не были избранниками славы, и совсем бы забылись их имена, если бы не близость их к замечательному явлению русского юмора, если бы не нарисовали они в молодости втроем портрет Козьмы Пруткова, размноженный ныне в десятках миллионов оттисков. Странна судьба художников – творчество их забылось, а живет их шутка, и живет еще память о прикосновениях их к жизни тех, кто пережил свое время.
Верещагина увлекли рассказы Бейдемана, не раз бывавшего на Кавказе, и Лагорио, прикомандированного к свите наместника Кавказа.
Кавказу и дороге к нему самой судьбой было предназначено оплодотворять всех гениев российской литературы XIX века. Верещагин увидел то, о чем читал, но калейдоскоп впечатлений заслонял словесность, хотя талант художника был сродни ей.
Верещагин разъезжал по всему Кавказу. Но писать маслом еще только учился, и свалившаяся на него тысяча рублей дядюшкиного наследства привела его в Париж, в тамошнюю академию, в мастерскую французского исторического живописца Жана-Леона Жерома.
Париж, Париж... Эта Мекка художников еще в первый приезд поразила его разнообразием талантов, которые работали здесь, встречались, спорили и развлекались... Но соблазны прекрасного города прошли мимо Верещагина, работавшего по шестнадцать часов в сутки. И он научился работать маслом. Богема, учившаяся у Жерома, пыталась прохаживаться на его счет и даже унизить, но он быстро поставил юных французов на место. Когда они окружили новичка в мастерской и стали требовать, чтобы он сбегал и принес на два су черного мыла, Верещагин отказался наотрез.
– Господа! Это животное, этот прохвост русский не хочет идти за мылом...
Они угрожающе наседали на него, а он молча отступил в угол, чтобы никто не мог зайти со спины или сбоку, и опустил руку в карман, где у него лежал револьвер. Сделал он это сиокойно, но именно спокойствие его, внимательный взгляд вдруг напугали задорных юнцов, смелых в своре и готовых на расправу, оттого что их много...
И снова ему не сидится на месте. Он вырвался из Парижа, точно из темницы, поехал в Закавказье и принялся рисовать на свободе «с каким-то остервенением»... Французские живописцы Вида и Жером неплохо знали Восток и могли оценить рисунки, сделанные Верещагиным в Шуше в середине мая 1865 года, во время праздника Мохаррема. Наверно, он пожалел, что не мог передать в красках картину, которую увидел, въезжая в Шушу поздно вечером. Зарево сотен нефтяных факелов, рев толпы, окружавшей бесновавшихся людей, треск барабанов, стон зурн и звон медных тарелок.
– Шах-сей! Вах-сей!
Толпа кричала. Некоторые в исступлении наносили себе удары плетьмп, били себя кинжалами плашмя, иногда разрывая кожу и заливаясь потоками крови. Самоистязание входило в обряд оплакивания имама Хуссейна, убитого своими коварными врагами. На десятый день праздника кончался пост, во время которого мусульмане ничего не ели с рассвета до сумерек, зато объедались ночью. Верещагин запечатлел религиозную процессию, состоявшуюся в этот день, фанатиков, рассекающих лбы обнаженными клинками, струйки крови, стекающие на белые балахоны, людей, увешанных оружием...
Тысячи и тысячи рисунков, скопилось у художника после путешествия по Кавказу. Но кто их увидел? Он решил издавать ежемесячный художественно-литературный журнал и даже получил разрешение, но денег на это предприятие не хватило. Отец сменил гнев на милость, но соглашался оплачивать лишь учение в Париже.
Французские художники восторгались:
– Никто не рисует так, как вы!
Лето Верещагин проводил у родителей на Шексне. По берегу реки то и дело проходили ватаги бурлаков. Десятки их, упершись в лямки и свесив руки плетьми, двигались медленно, мерно и одновременно переставляли ноги, переваливались с боку на бок все вместе, в такт, то и дело выкрикивая хором:
– По-де-ернем! По-де-ернем!
Верещагин рассказывал, как приводил в родительский дом бурлаков. Они по очереди впрягались в лямку, привязанную к вбитому в стену гвоздю, и он писал с них маслом этюды для большой картины.
Дав натурщику гривенник на выпивку, он спрашивал:
– Что нового в кабаке?
– Да что, Василь Василии, нового? Говорят, ты фармазон, в бога не веруешь, родителев мало почитаешь. Говорят: разве ты, дурак, не видишь, что ён под тебя подводит. Кабы он тебя раз списал, а то он тебя который раз пишет! Уж это, брат, недаром!
– Ну а ты что же им на это говоришь?
– Да что говорить-то? Говорю: уж мне, господа, недолго на свете-то жить, подделывайся под меня али нет, с меня взять нечего!..
Верещагин набросал уже эскиз большой картины, да нечем стало жить – опять рассорился с родителями, время уходило на добывание денег. Это было уже снова в Париже, в последний год пребывания в тамошней академии. Оттуда он и уехал в Туркестан, где его захлестнули новые впечатления. А «Бурлаков» написал Репин. Получились они у него более красивыми, чем задумывал Верещагин, который хвалил репинскую картину, но считал, что она все-таки не передает сущности бурлачества.
– Где впечатление той двухсотенной толпы, безнадежно качающейся из стороны в сторону без порывов, без усилий, в полном сознании, что тут ничего не поделаешь? – спрашивал Верещагин.
Еще летом 1867 года Бейдеман сказал Верещагину в Петербурге, что командующий войсками Туркестанского военного округа генерал Кауфман хочет пригласить в Среднюю Азию молодого русского художника. Верещагин пошел на прием к генералу. Тот поглядел на рисунки, подержал в руке серебряную медаль и согласился взять с собой «прапорщика» Верещагина, но художник настоял, чтобы его не заставляли носить формы и не присваивали ему новых чинов.
Кавказ, а теперь Туркестан... Что за странная тяга к Востоку? Друзья недоумевали. Да и сам он пытался разобраться в причинах, толкавших его на утомительные и опасные поездки. Страстная любовь к Востоку? Нет ее. Лучше жить в России, но в поездках уединяешься, входишь, что ли, сам в себя. И учиться вольготнее, чем на парижских мансардах и в комнатах Среднего проспекта Васильевского острова. И еще его тянуло на войну, хотелось увидеть настоящую войну. Впрочем, война представлялась чем-то вроде парада с музыкой и развевающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими всадниками. Убитые, конечно, есть, но совсем немного, «для обстановки»...
Путь на войну был длинный. На лошадях и верблюдах. Через Оренбург, форт Перовский, Джулек, Чимкент... Восточная действительность плотно обступила художника. Экзотика. Узкие кривые улицы без единого окна, со стоками нечистот посередине. Базары с их непролазной грязью и одетым в пестрые лохмотья людом. И неожиданно величественные мечети, построенные этими же людьми. В Ташкенте Верещагин осматривал караван-сараи, еще недавно бывшие невольничьими рынками, говорил с теми, кого покупали и продавали здесь.
Столько странного было кругом... Люди живут в глинобитных лачугах, заливаемых дождем, спят на нолу в грудах грязных тряпок, мрут от голода. В притонах опиу-иоеды и опиумокурилыцики, кутая иссохшие тела в рваные халаты, сидят неподвижно, все во власти навеянных дурманом грез. Мужчины сидят без дела, а женщины работают без устали. Их кормят отбросами. Продают девятилетних девочек и мальчиков, щупают детей пухлые похотливые пальцы... Вон за девушкой гонятся несколько всадников. Догнали, скрутили, заткнули рот, надели на шею аркан и поволокли.
– Да что же это делается! – закричал художник. – Зачем мучите женщину?
– Это жена нашего друга. Она убежала из дому, а он заплатил за нее триста коканов, – говорят Верещагину.
Он выхватил револьвер, велел развязать женщину. Но оя ничего не добился этим, а жизнь его висела на волоске...
Бухарский эмир начал газават – «священную войну». Верещагин поспешил к Самарканду, под которым разыгралось сражение и еще валялись неубранные трупы.
С холма Чапан-Ата открылся вид на утонувший в зелени Самарканд. Громадные мечети времен Тимура Хромого возносились к небу. Жители города не впустили войска эмира и сдались на милость русских. Освобождено десять тысяч эмирских рабов...
Как только генерал Кауфман с войсками ушел из города искать встречи с эмиром, муллы натравили фанатиков на русских. К городу стекались со всех сторон вооруженные всадники. Более пятидесяти тысяч их осадило крепость, в которой заперлись семьсот русских солдат.
Верещагин пил чай, ковда послышалась перестрелка и страшный протяжный вой:
– Уррр! Уррр!
Художник понял, что начался штурм крепости, схватил свой револьвер и побежал к Бухарским воротам. Малочисленные защитники крепости, перебегая в дыму, отвечали со стен редкими выстрелами. Верещагин подобрал ружье возле убитого и с этой минуты все дни обороны не выпускал его из рук. Пуля ударила в бок его соседу. Тот уронил ружье, схватился за грудь и побежал по площадке стены вкруговую, крича:
– Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!
– Что ты кричишь, сердечный, ты ляг, – сказал ему другой солдат. Раненый описал еще один круг, упал и умер. Верещагин подобрал его патроны.
– Всем нам тут помирать, – говорили солдаты. – О господи, наказал за грехи! Спасибо Кауфману, крепости не устроил, ушел, нас бросил...
– Стыдно унывать! – оказал им художник. – Мы отстоимся... Неужели дадимся живые?
Трудно защищать стены в три версты в окружности. Обвалившиеся местами, они были ненадежны. Верещагин всегда появлялся в тех местах, где кипели схватки, метко стрелял и как-то не удержался от крепкого словца. Солдаты тотчас остановили его:
– Нехорошо теперь браниться, не такое время.
Они называли Верещагина «ваше степенство», а за глаза «Выручагиным». Когда же услышали, что оставленный в крепости полковник Назаров назвал его Василием Васильевичем, то все тоже стали звать его «Василь Василичем».
Назарову доложили, что осаждающие готовятся ворваться в крепость через один из проломов, и они с Верещагиным бросились туда. За стеной слышались крики. Солдаты притаились у стены.
– Пойдем на стену, встретим их там, – прошептал художник Назарову.
– Тсс! – ответил тот. – Пусть войдут.
Лишь только осаждающие показались на гребне, солдаты грянули «ура!», открыли пальбу и отбили приступ.
Однажды неприятель затих, и надо было узнать, что он готовит. Офицеры посылали на стену солдат, но те отнекивались, не хотели идти на верную смерть.
– Постойте, я учился гимнастике, – сказал Верещагин и полез на стену.
– Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого! – закричал полковник Назаров.
Верещагин был уже под самым гребнем.
«Как же я, однако, перегнусь туда, ведь убьют», – думал он. И выпрямился во весь рост.
За стеной он увидел множество народа, а в стороне кучку начальников в больших чалмах. Едва художник успел спрятаться, как десятки пуль впились в то место, где он только что стоял, только пыль пошла.
Солдаты закидали осаждавших гранатами, и штурм был сорван.
Верещагина поражало великодушие солдат. Когда один из них хотел вторым выстрелом прикончить раненого неприятеля, то другие не дали ему этого сделать.
– Не тронь, не замай, Серега.
– Да ведь уйдет.
– А пускай уйдет, он уж не воин!
И это несмотря на жестокость, с которой осаждающие добивали всякого раненого русского.
Многие из впечатлений штурма самаркандской твердыни стали потом темами жестоких и правдивых картин Верещагина. Однако правду сочли тенденциозностью...