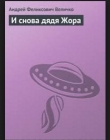Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Наташа в белом платье прибежала в комнату, чмокнула его в щеку и раскатала у койки коврик.
– Коля, видишь, я же сказала!.. – Она села на кровать и жадно вдохнула воздух. – Люблю запах новых, вещей. Матрац, а как пахнет! Сосной, стружкой, смолой, свежей материей. Скоро наши приготовят одеяло, подушки. У нас будет хорошо, Коля!..
Она легко спрыгнула с кровати, пересела к нему на колени.
– Я успела вымыться. Самое большое наслаждение – вода, горячая вода! Обожаю! Хочешь тоже? У нас есть такое местечко в сарае, летом мы там купаемся.
В полутемном сарае, куда она его привела, стояли ведра с водой, на мокрых досках – корыто, и на гвоздике висел чистый холщовый рушник.
– Ты можешь запереться. Хотя сюда никто не войдет. – Наташа поцеловала его плечо и, прикрыв дверь, ушла.
В углу сарая захрюкал зарывшийся в солому подсвинок, вылез, посмотрел на незнакомца и опасливо, не спеша подошел, понюхал потеки мыльной воды, брезгливо мотнул пятачком. Две связанные за ноги курицы бормотали на птичьем своем языке. У погребицы стоял ящик с картошкой, тут же – грабли и лопаты.
Искупавшись, Николай вышел из сарая. Теплая звездная ночь была совсем такая же, как в деревне. Большая Медведица, казалось, зачерпывала своим глубоким ковшом бледные россыпи звезд; вдалеке лаяла собака. Ветерок отогнал от поселка заводской дым, и в воздухе, очищенном от примесей, плавали запахи политой земли и ночной фиалки.
Упрямо отходил Николай от земли и вот неисповедимой волей вернулся к ней снова.
На ступеньках появилась Наташа, позвала его; и они, обнявшись, прошли в свою комнату, где уже была застлана кровать, взбиты подушки и из стеклянной вазочки поднимались стебельки ночных фиалок; и тут, в их маленькой комнатке, веяло ароматом земли.
– Смотри, все твои желания исполняются. – Наташа приподняла полог, навешенный на внутреннюю сторону двери. – Славянского шкафа нет, зато есть пролетарский шкаф. Здесь все уместилось, и еще, как видишь, осталось место для новых покупок. Ты переоденься в свой новый костюм, я выгладила тебе рубашку. Галстук? – Она покрутила пальцем у лба. – Нет, без галстука. Он будет стеснять и тебя и меня...
Нелегко поддерживать доброе настроение в такой необычной обстановке. Свадьба в глазах людей всегда окружена ореолом: музыка, огни, подвенечное платье, тосты... Отказаться от свадебного обряда – это значит отказаться от мечты, взлелеянной в тайниках воображения. И все же Наташа нашла в себе силы не только успокоить себя, но и убедить Николая, что они не могут поступить иначе. Важно, что они счастливы. Наташа постаралась ничем не нарушить счастья первого дня, какие бы испытания или разочарования ни ждали их впереди.
– Горько! – крикнул он.
– Ой, как горько!.. – Ее губы тянулись к нему. – Еще, еще... Я люблю тебя! Нет, давай сегодня останемся только вдвоем. Я прошу тебя... Никого не надо звать. Так лучше... – И вдруг выдумала: – Давай поиграем в настоящую великосветскую свадьбу?
– Давай, Наташа! Только сумеем ли? Пожалуй, напутаем так, что сами над собой станем смеяться.
– Нет, нет, мы сумеем! – И она начала: – Званый прием шел к концу. Оставалось проститься с последними гостями, смертельно уставшими от еды, веселья и танцев. Приглашенные разъезжались. Подъезд их замка был ярко освещен... Кстати, сколько в замке подъездов? Бесшумно подкатывали... ландо. Конечно, ландо!
– И кареты...
– Безусловно, и кареты, – продолжала Наташа. – Замшевые лошади, распушив хвосты, уносились в звездную ночь. Лакеи, бесшумные и ловкие...
– Как призраки.
– ...гасили люстры и закрывали двери. И, наконец, замок опустел, и они, облегченные, немного усталые от церемонии, наконец-то остались наедине...
Наташа положила голову на колени Николая и полузакрыла глаза.
– Этот глупый маркиз был так назойлив...
– Зато он преподнес тебе бриллианты.
– Зачем ты вышвырнул их в мусорный ящик, мой милый виконт?
– Нет, нет, Наташ! Все-таки необходимо проверить, существуют ли в замках мусорные ящики, а если существуют, то полагается ли выбрасывать в них бриллианты?
– Ерунда, давай не проверять! – Наташа притянула его к себе.
Они болтали без умолку. Вино в «орудийной гильзе» не так опьянило их, как первая близость.
Только вдвоем!.. Кто-то шептался за дощатой стеной. Пусть! Какое это теперь имеет значение, когда они вдвоем!.. За другой стеной, у тетки, вопил граммофон. Пластинка осталась еще со времен царского режима. Дребезжащий голос пел о том, что на льду замерзал какой-то ямщик. Несчастный ямщик!
– Тс-с!.. – Наташа приложила палец к губам Николая. – Теперь у нас не может быть тайн. Слушай: коврик – подарок тети. Я обещала ее пригласить...
– Я не против, только... запасы наших погребов истощились.
– Ладно. Обойдемся без тети. Не оставляй эту картофелину. Она твоя.
– Пожалуй, я ее съем...
– На чем же мы остановились? Уста их слились?.. Нет... – Наташа всплеснула руками. – Подумать только, мы забыли оформить наш брак!
– Оформить?
– Не хмурься. Ведь мы же играем, – сказала она. – У меня где-то была бумага... Нет! Все там, у тети.
– Могу предложить карандаш.
Соображали недолго. Проще всего расписаться на стенке, на пучке обойных незабудок. Попробуй разорви такой надежный документ!
Разнеженные и растроганные, они расписались на стене, на том месте, куда опускалась гирька дешевых часов.
– Подписан брачный контракт! – возгласила Наташа. – Нотариус закрепил начало их супружеской жизни. Ему подали карету, лошади цугом. На козлах, на запятках... кто там? Борейторы, форейторы?..
– Ефрейторы...
Им хотелось «заговорить» самих себя, задавить накипавшую горечь. Все-таки все могло быть по-иному: и, люди, и танцы, и настоящее «горько!»... Их лишили куска шумного счастья, на которое они имели право.
...Можно спать, сколько захочется: воскресенье – отличнейший день, придуманный самим господом богом. Никто и ничто не мешало их первому супружескому утру. Солнце? Оно почти не заглядывало в их окошко, а если и улучало минутку – на пути его вставали ствол и широкие ветви рябины.
...Наташа проснулась первой и сразу же инстинктивно поправила соскользнувшую с плеча бретельку сорочки. Муж (странное, чуждое слово) спал с краю, на правом боку, ладонь подложил под щеку, жаркое одеяло прикрывало ноги повыше колен. Обнаженное плечо бугрилось мускулами, выпуклыми, эластичными под смугловатой кожей. Они чрезмерно развиты, как у всех людей физического труда. Волосы у него – каштановые, так определила Наташа, хотя никогда не видела каштанов. Спереди и выше висков густые волосы Николая свернулись в крупные пушистые кольца.
Повернувшись к простенку, Наташа прочитала их «брачный контракт»: дата и подписи с согнутыми завитками, как росчерки членов правления банка на кредитных бумажках. Ниже еще написано что-то. Приподнявшись на локте, прочитала: «Люблю. Николай». Когда же он успел это написать? Благодарное чувство, тихая радость наполнили все ее существо.
Но невозможно нежиться дольше. Тетя теперь не разожжет самовар, не накроет на стол. Бездумные воскресенья в прошлом. Чайник, по-видимому, уже вскипятила сестра: стучит крышка, и через двери просачивается чад керосинки. Слышен мужской голос: «Стюдень что-то не застыл. Мало положили костей».
За хлебом можно сбегать, булочная недалеко; огурцы и колбаса остались от вчерашнего «пира». Если еще раздобыть у тети яиц – и вовсе хорошо. Наташа составила план действий. Первое утро должно быть приятным и легким.
Вначале под «Люблю. Николай» надо приписать «И я очень, очень! Наташа». А потом браться за все остальное. Только бы, вставая, не потревожить его. Нужно упереться вот сюда руками и... спрыгнуть на коврик.
Пятки коснулись голого пола. Коврик исчез. Куда? Накинуть что-нибудь на себя дело секунд. Сначала – к сестре.
– Коврик? – Сестра подняла на нее добрые встревоженные глаза. – Тетка зашла к вам в комнату, свернула коврик и унесла. Это ее коврик?
– Ее... – Наташа не скрывала своего отчаяния. – Она же обещала... Хотя бы неделю подождала... Мне так стыдно перед Колей... Коврик – наша мечта. Я обещала...
Она с огорчением повторяла одно и то же. Ей было обидно и горько, хотелось реветь...
Позавтракав, они отправились в садик и сели на дальней скамье возле глухого забора. Николай поцеловал Наташу в ее встревоженные, обиженные глаза, сначала в один, потом в другой. Надо раз и навсегда забыть о коврике.
– Как нехорошо, как гадко!..
– Надо и ее понять, – сказал Николай. – Ты обещала пригласить ее и не пригласила. Она, вероятно, собиралась, ей тоже обидно. Она же воспитывала тебя. Так или иначе, а все же тетка заменила тебе мать... Я не могу ее осуждать. Проклятая бедность, рабство перед вещами! Не с нее началось, Наташа. Я видел, как за цыпленка, подшибленного из рогатки, отец до полусмерти избил ребенка, моего дружка. Свинья заберется в чужой огород – и пошла потасовка между соседями!.. Оглоблями дрались. Черепа проламывали. Обойдемся мы без коврика.
– Ты представить себе не можешь, как мне обидно! – сказала она. – Все равно мне не забыть. Не забыть хотя бы потому, что это мое первое горе после... замужества.
– Разве это горе, Наташа? – успокаивал ее Николай, стараясь проникнуть в душу близкого ему теперь человека.
– В раннем детстве у меня было много горя, – задумчиво сказала Наташа. – И я удивляюсь, почему иногда нас, молодых, обвиняют в черствости, в нежелании понять... эпоху. Мы, мол, старики, кровь проливали, а вы в это время еще в колыбели покачивались. Так, к примеру, упрекает Фомин. Хочешь, я расскажу, какая у меня была колыска? – Он молча взял ее руку и приготовился слушать. Она, поняв его, придвинулась ближе. – После смерти отца сама мама отвезла меня и сестру на Украину, к старшей сестре Серафиме. Ее муж работал на железной дороге, приезжал домой только по субботам, и мы почти не видели его: копался в огороде, чистил коровник, хлев. Мама была очень больна. Утром поднималась с трудом, стонала. Помощь от нее была небольшая, и ей пришлось уехать в Москву, к остальным детям. Мы работали с сестрой в поле. У меня не было башмаков, поэтому я на всю жизнь запомнила колючее жнивье и горячую пыль на дорогах. Ели мы плохо – вернее сказать, голодали. Когда нанимались к чужим, полоть и поливать огороды, тогда ели лучше. Зато какие тяжелые ведра! Нас рано будили. Еще роса, а мы на ногах. Продрожишь, бывало, все утро, а потом солнце пригреет, поработаешь, станет тепло. Мама вернулась – не узнала нас: исхудали мы, обносились, одичали, стали вроде зверушек. Чтобы как-то заработать, мама взялась обрабатывать шерсть, задыхаясь от пыли в жару... Как вспомню ее... Не могу!.. – Наташа проглотила слезы, успокоилась и продолжала с улыбкой: – Однажды решила она нас побаловать. Подгадала, когда сестра ушла на свадьбу, нарезала сала, сварила клецки. Наелась я тогда, казалось мне, на всю жизнь. Приголубились мы к маме, повеселели. Думали: вот и горю конец. Вернулась сестра, раскричалась: «Вы думаете, я жадная? Мне припасы растянуть надо, чтобы на них хватило, а вы...» Мама решила отправить нас обратно в Москву: дядя, мол, не оставит, а сама решила остаться на Украине, заработать хлеба. Сестра отсыпала нам пшена и муки. Еле втиснули нас в товарный поезд, в теплушку. Помню, как мама обняла меня, провожая, поцеловала: «Наташа, последний раз поживи без меня. Приеду. Навсегда будем вместе». В пути у нас украли и муку и пшено. А мама... Не вернулась она... Не вернулась... умерла на Украине... – Наташа беззвучно плакала. Слезы облегчили ее. – И всегда она меня куда-то отправляла, а сама работала, больная, зарабатывала. Так больше с мамой мы и не повидались, – повторила она с болью. – Я не буду больше рассказывать. Хорошо? – Она попыталась улыбнуться сквозь слезы, вытирала глаза платком, пальцами.
Немного успокоившись, заговорила о дяде, о семье, в которой ей пришлось потом жить. Дядя не позволил отдать ее в детдом: «Сами вырастим».
– Я иногда приносила дяде обед в мастерские, – рассказывала Наташа. – Огонь, раскаленный металл, молоты так стучали, что крика не услышишь. Когда подойду к нему, возьмет узелок, ласково так погладит. Лишних слов не умел говорить. Ел дядя мало, зато любил чай пить. В стакан клал урюк. В стакане урюк разбухал, а мы ждали, когда дядя выпьет чай и поделит ягодки между нами, тремя девчонками. Когда он уходил, мы дрались из-за его стула: на нем лежала подушечка, и было мягко и тепло сидеть. В школу мы ходили за два километра. Дядя каждое утро обязательно осматривал наши ботинки; заметит дырку – сам отнесет в ремонт; после работы сам же заходил к сапожнику и приносил починенные башмаки; позовет, ласково побурчит в бороду. Ко мне он относился особенно чутко. Ни разу я не почувствовала, что я сирота и кому-то в тягость. И других приучил ласкать меня. Какая тонкая душа в таком грубом на вид человеке! Тетя тоже... Я не могу ее ни в чем упрекнуть. Позже, после смерти дяди, ей пришлось все заботы принять на себя, а ведь мы тогда еще не окончили школу. Ей, конечно, обидно сейчас: выучила, вывела в люди... Ушла я от нее... – И Наташа повторила слова Николая: – Надо и ее понять.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Не только в цехе назревали события, беспокоившие Дмитрия Фомина. Что-то разлаживалось в душе мастера; многие его представления начинали шататься. Он испытывал не только беспокойство, но и тревогу. Бурлаков, вернувшись из сборочного цеха, доложил обо всем, не робея, не стесняясь в выражениях, резких и требовательных. Молодой начальник смены Костомаров дерзко посмотрел в глаза мастеру и поддержал Бурлакова.
Отчет Фомина на бюро почему-то откладывался; миновал третий четверг, а его не вызывали. Фомин понял, что его перепроверяют; опасность, казалось ему, грозит из каждого угла; он стал зол, придирчив и несправедлив к окружающим. Всюду ему чудились подвохи и подкопы. К Фомину приходили и пожилые и юнцы с обязательствами, которые они брали на себя; ударные бригады создавались снизу, по доброй воле рабочих, а не согласно «директивному энтузиазму». Нужно было возглавить их и самому обязать себя ко многому, а Фомин не мог. А тут возникла еще одна крупная неприятность. Пронырливый снабженец-агент, всучивший ему заказ на червяки, которые в порядке аккордной оплаты успешно нарезывал Квасов, сумел убедить его принять подарок – кожаный реглан из тонкого блестящего хрома. Казалось бы, кто может узнать об этой тайной сделке, совершенной с глазу на глаз? Однако о реглане перешептывались. И Фомин, понимая грозившую ему опасность, попытался найти агента и вернуть ему эту проклятую черную шкуру. Но агент словно сквозь землю провалился. От заказчика приезжал за червяками не агент, а комсомолец абсолютно неподкупного вида, и Фомин не осмелился даже намекнуть ему о реглане.
И еще одна неприятность. В многотиражке появилась карикатура: лебедь держит лист с надписью «Цех окончательной сборки» и рвется в поднебесье; рак набросил на его крылья веревки, зажатые в клещах. Художник сделал рака похожим на Дмитрия Фомина; а на клещах для полного уточнения написал: «Механический цех».
Обычно Фомин мельком пробегал многотиражку, отыскивал заметки о своем преуспевающем цехе. Ему казалось, что газета всегда будет писать о нем как о передовике, и это давало ему основание подшучивать над газетчиками и небрежно подписывать свои выступления для многотиражки, которые за него писали доморощенные журналисты.
Карикатура застала его врасплох. Наблюдавшая за ним Муфтина заметила, как вначале посерело, а потом побагровело лицо начальника цеха. С чувством какого-то сладострастного удовлетворения Муфтина поняла: этого железного человека можно сразить таким пустяковым оружием, как листок газетной бумаги.
Фомин аккуратно сложил газету, неторопливо вышел из конторки. Поднявшись в заводоуправление и кивком головы отвечая на приветствия встречавшихся сотрудников, он перевел дух и рывком распахнул дверь парткома.
Ни слова не говоря, Фомин подрагивающими пальцами развернул перед секретарем газету.
Ожигалов взглянул на карикатуру, обведенную синим карандашом, и, подняв глаза на Фомина, спросил:
– Ну?
– Что ну? – Фомин еле сдерживался. – Бандитизм!
– Почему бандитизм?
– Нападение на честных людей из-за угла, как иначе назовешь?
Ожигалов нахмурил брови. Обычно добродушное лицо его стало неприятным.
– Прежде всего, Фомин, никто на тебя из-за угла не нападает, – жестко выговорил Ожигалов. – О твоей честности или чести поговорим отдельно. Теперь дальше... Это мягкая, беззубая критика, если хочешь знать. Не так тебя нужно шкурить... Садись и приведи свои мысли в порядок. – Ожигалов выдвинул наполовину ящик стола, оперся локтями о его борта и стал читать бумаги, лежавшие в ящике. Фомин решил, что эти бумаги имеют непосредственное отношение к нему.
«Неужто реглан? Что перед этим какая-то незамысловатая и, если на то пошло, безвредная карикатура! Если секретарь заговорит о реглане – пиши пропало! Такого стыда не вынести». Фомин вдруг представил свое будущее в виде линии, бегущей зигзагами, как на ленте кардиограммы; он видел такую линию, когда проверял свое сердце в поликлинике.
Прошло две-три минуты, и он ощутил облегчение. Ожигалов ровным голосом спрашивал о причинах падения сменной производительности труда. Это само падение было козырем в руках Фомина; на его основании он и строил систему атаки. Окончательно овладев собою, Фомин заложил ногу за ногу и заговорил с прежним самомнением:
– Упала, верно. А почему? Потому что легкомысленно вводите новые нормы. Я предупреждал на бюро: не спешите, не порите горячку!
Три папироски искурил Ожигалов, пока Фомин распространялся о чутком и бережном отношении к массам, о своем недоверии, как он выразился, к «наигранному и безвыходному энтузиазму». Не только палец надо держать на пульсе рабочего, но и вслушиваться в биение его сердца. Ожигалову многое становилось ясным в поведении Фомина. Прикрываясь высокими словами, Фомин подлаживался к самым отсталым и крикливым рабочим, стоял на зыбкой политической почве. Не случайно он выписал именно такие цифры в качестве якобы неопровержимых доказательств. Если поступить так, как советует Фомин, затормозится развитие индустрии. Прокричит Гамаюн погребальным голосом.
А если послушать со стороны, ловко все получается у Фомина! Будто он один-разъединственный и самый верный защитник рабочего класса.
– Ты что же на меня чекистом глядишь? – спросил Фомин, в конце концов запутавшись в своих цифрах.
– Не тот борщ подогреваешь, Дмитрий, – строго сказал Ожигалов. – Не те блюда собрался стряпать для насыщения рабочего класса. Стошнит от твоего меню...
– Не перехлестывай, – нахмурился Фомин. – На меня ярлык тебе не удастся приклеить. Теперь я понимаю, что ты ведешь на подрыв...
– На подрыв? Кого?
Фомин встал, и лицо его, оказавшееся в тени, как бы расплылось и потускнело, только плотнее сжались губы.
– На подрыв моего авторитета, – раздельно произнес он. – А я завоевал его не болтовней, не приседаниями перед начальством... Им что? Лишь бы отрапортовать. Лишь бы Орджоникидзе упомянул к случаю.
Ожигалов тоже поднялся, одернул черную рубаху из матросского сукна и резким взмахом руки остановил разошедшегося Фомина.
– Не трожь Орджоникидзе, Фомин. Если хочешь знать, то подорвать авторитет такого коммуниста, как ты, – это значит смыть пятно с партии. Если ты не прекратишь своей политики, тебя выгонят твои же товарищи.
– Что ты, что ты!.. – забормотал Фомин, чувствуя вдруг охватившую его слабость. Щеки его покрылись синеватыми пятнами, веки задергались.
Ожигалову стало жаль этого когда-то самоуверенного человека.
– Садись. Выпей воды.
Фомин жадно пил воду, стараясь избегать взгляда секретаря ячейки. И снова мерещился ему черный кусок кожи, агент с масляными глазами, подлые движения его загребущих рук.
– Надо выявить воротил, – продолжал Ожигалов, – а ты их знаешь. И выгнать для исправления на стружку.
– На стружку? – Фомин подумал, что ослышался.
– Для тебя это ново? Объясню: так сделали на заводах в Благуше, на Симоновке. Я был там. Помогло. На стружку отправляют закоперщиков, причем сами рабочие это решают на собраниях. Именно так осуществляется роль гегемона, а не махинациями... Волынщики дробят, грузят, пакуют стружку. Грубо? Возможно. Зато мгновенно слетает весь апломб. Теперь ты знаешь, что такое стружка?
Фомин раскис, слушал вяло и думал не о закоперщиках, пакующих стружку, а о самом себе.
– Тебе будет кисловато, – угадывая его мысли, продолжал Ожигалов. – Ты сам выращивал кадры для стружки. Ничего не попишешь! Да, кстати, хочу с тобой посоветоваться. У Ломакина и Парранского возникла мысль посадить на твердый оклад рабочих-инструкторов. На них будут проверяться нормы...
Сначала Фомин соображал смутно, но постепенно понял, куда Ожигалов клонит дело. Он слушал с подозрительной настороженностью. Еще не так давно Фомин голосовал за Ожигалова на выборах, выступал на бюро за его секретарство, поддерживал рекомендацию райкома. Ожигалов ходил тогда тихий-мирный, шутил, расписывался в билетах, принимал взносы, пристукивал печаткой, не лез на рожон, щадил ветеранов предприятия. А вот поди же, теперь его будто подменили! С ним надо держать ухо востро.. Лучше поддакивать, прикинуться смиренным.
– Так... – выслушав Ожигалова, протянул Фомин. – Насколько я понимаю, вы надумали развязать рабочую инициативу?
– Ерничаешь?..
– Почему? – Фомин не удержался, вспылил. – Если хочешь знать мою точку зрения, скажу. Напоминает мне ваша схема карательную экспедицию.
– Хватит! – Ожигалов резко его прервал. – Не болтай зря! Я сегодня злой и неумолимый. Но скажу откровенно, Митрий, только сегодня я начинаю понимать, почему даже беспартийный дворянин Хитрово жалуется на тебя с позиций строителя социализма.
Упоминание о Хитрово вызвало в Фомине приглушенную ярость. Кому-кому, а этому гнилому обломку он подчиняться не будет. Мерить его, ветерана, аршином Хитрово – значит отступиться от прошлого, сдать боевые знамена, опоганить пулеметные гнезда. За что же боролись? За что кровь проливали?
– Не знаю, что в революцию делали вы, братишки в клешах и с фунтами керенок за пазухой, а мы гадов рубали до самого ленчика. Пока!..
Ожигалов загородил ему дорогу.
– Нет! Победителем отсюда не уйдешь. Меня ты не достал клинком до ленчика. Зачем деньги у подчиненных занимаешь?
– Подумаешь, барская косточка! Мастеровой всегда выкручивается перед получкой. Разве запрещено деньги одалживать?
– Разрешено одалживать и отдавать, а ты зажиливаешь! По кабакам мзду с рабочих собираешь. Пьешь, а государство расплачивается. – Ожигалов положил ему на плечо руку. – И по тебе может заплакать стружка... Помню, был у нас в части один тип, звали мы его Мародер-зануда. Этот тип за полфунта керенок плюнул на карточку своей покойной матери... Так вот, ты на него походишь, Фомин... Только наша мать еще не умерла! Не закопаешь ее. Наша мать – революция! – Ожигалов расслабленно отошел в угол, сел на железный ящик. – Кто тебе в душу поганой пакли напихал? Вытащу ее, а то задохнешься. Погибнешь! Меня вон упрекают, что тебе потрафляю, помогаю очки втирать: оба, мол, на гражданской меченые. А я сейчас готов кулаком тебе в переносье сунуть. Вот до чего ты меня озлобил!
Фомин спустился в цех, так до конца и не уяснив себе, что известно о нем секретарю ячейки. Знает ли он о реглане? А деньги придется отдать, особенно ненадежным и трепливым, а то еще по чьему-нибудь наущению поднимут вопрос. И расплатиться нужно как можно быстрее. Рекомендует не пить с рабочими, не ходить с ними в баню, загнать закоперщиков на стружку... Голова разламывалась от всех этих мыслей, и неприятно было ощущать свое полное бессилие. Надо вести себя разумно, не схватываться до поры до времени с Ожигаловым. «Плетью обуха не перешибешь». Надо выждать, присмиреть. Ожигалов наметил его отчет на четверг будущей недели. Просил дополнить и расширить. «Не забыть претензий» и более внятно вскрыть причины падения сменной производительности. Фомин знал: любая директива, спущенная сверху, должна быть выполнена внизу. Так же неуклонно будет выполнена и директива по упорядочению норм, из-за чего и загорелся сыр-бор. «Мародер-зануда...», «Плюнул на портрет матери...» Слова Ожигалова вызванивали в его мозгу, словно колокольцы.
Муфтина и мастер смены подсунули ему на подпись наряды на аккордные работы по кооперации.
– Подождем, надо разобраться, – буркнул Фомин и с отвращением бросил наряды в ящик стола.
Эта распроклятая «черная шкура», все напоминало о ней! А еще недавно он похвалился ею перед соседями по квартире и перед женой, никогда ему не перечившей из-за своего раболепного уважения к нему. «Знала бы ты, Авдотья, изнанку своего благоверного! – думал Фомин. – Со стыда сгорела бы, добрая женщина...»
Позвонил секретарь директора Стряпухин и своим тоненьким голоском попросил выполнить приказание директора: обеспечить назавтра явку группы рабочих по зачитанному им списку.
– Вы, что же, сами их выбирали? – спросил Фомин, записывая фамилии.
– Согласовано с партийной организацией, – ответил Стряпухин и повесил трубку.
В списке значилось несколько старых, опытных рабочих. Но что странно: были и молодые, такие, как Степанец и Бурлаков. Фамилия Квасова тоже значилась.
– Через вас ничего не проходило, товарищ Муфтина? – спросил Фомин, обдумывая фамилии вызываемых к директору рабочих. В глубине души он опять заподозрил: не по его ли делу подобраны свидетели?
Опасения его отчасти рассеялись, когда он осторожно поговорил с некоторыми из вызванных. Для каждого Фомин постарался найти приятное слово, будто невзначай спрашивал о разряде, о «претензиях».
Позвонил Ожигалову, сказал:
– Все-таки не понимаю, для чего вызывают рабочих.
Ожигалов прокричал так, что задрожала мембрана телефона.
– Я же тебе говорил: создается институт рабочих-инструкторов! Ты тоже приходи, естественно. Без особых приглашений.
К Фомину полностью вернулось душевное равновесие. Подозрения, глодавшие его, отступили на задний план. Можно было вздохнуть полной грудью.
Он отыскал Бурлакова.
– Учти, Николай: я тебя рекомендовал как самого зрелого, – беззастенчиво врал Фомин, стараясь склонить на свою сторону этого неуступчивого парня, близко знакомого Ожигалову; с ним нельзя было не считаться. – Извини, что за сутолокой забыл поздравить тебя с законным браком... – Фомин задержал в своей руке руку Бурлакова. – Поздравляю от всей души. Наташа – достойная девушка, наша, рабочая косточка.
На следующий день к назначенному времени в приемной директора собралось не менее тридцати человек. Предполагаемая реформа коснулась не только механического цеха, были здесь и рабочие из других цехов. Говорить старались тихо, не курили, подчиняясь установленному Стряпухиным порядку.
Директору Алексею Ивановичу Ломакину было немногим больше тридцати. Ему не пришлось по причине своего малолетства участвовать ни в первой мировой, ни в гражданской войнах; не мог он похвалиться боевым орденом или ранами, зато успел получить «трудовик». Следуя духу того времени, Ломакин носил полувоенный костюм, подчеркивающий стиль военного коммунизма.
Многими машиностроительными предприятиями управляли знаменитые люди – участники революции, гражданской войны. Индустрию вели надежные, волевые капитаны. Инженер-директор был еще редкостью: недостаток технических знаний возмещался революционной закалкой и дисциплинированностью.
Ломакин был деловым человеком, знал производство, прошел весь путь от рабочего до командира производства и потому больше многих понимал психологию вырастившего его класса. С рабочими он вел себя просто, но не панибратствовал, как зачастую поступали руководители, вышедшие не из рабочей среды. Волынщиков, горлопанов и тех, кто истерически вопил от имени пролетариата, он терпеть не мог и разгадывал этих п р о л е т а р и е в без микроскопа.
Для того чтобы все детали этого романа были ясны, не мешает напомнить о демократическом характере взаимоотношений, сложившихся в те годы между руководящими звеньями индустрии. Орджоникидзе, а он вел почти всю индустрию и был членом Политбюро, ценил Ломакина за оперативность в освоении серийных выпусков приборов, до зарезу необходимых стране. К Ломакину он относился, как и ко всем, кого любил, с отеческой строгостью; если бранил, то сильнее, чем тех, к кому относился хуже, а если хвалил, то скупо, чтобы «хороший кадр» не слишком задирал нос. Был случай, о котором Ломакин рассказывал с гордостью. Однажды после совещания на площади Ногина, в конференц-зале, нарком пригласил его и еще трех руководителей точной индустрии к себе на обед, в Кремль. Принимала гостей жена Орджоникидзе, Зинаида Гавриловна, женщина приветливая и общительная, из бывших учительниц, с которой Орджоникидзе познакомился в ссылке. Квартира Орджоникидзе находилась в старинном здании бывшего Потешного дворца, примыкавшего к кремлевской стене вблизи Троицкой башни.
Навсегда запомнил Ломакин обед (белый суп с кавказскими травками и цыплята, изжаренные на раскаленных камнях). Столовая была небольшая, с маленькими оконцами, прорезанными в толстых стенах, из окон были видны Верхоспасский собор, собор Двенадцати апостолов, Царь-пушка. О ней говорил Орджоникидзе, приводя пример первоклассного литейщика Ондрея Чохова, сумевшего три с половиной века назад отлить такую штуку в «преименитом и царствующем граде Москве», где «вы, потомки, никак не освоите ковкий чугун и литье в кокиль».
«Либо быстрее их пробежим, либо погибнем! – Рубящий жест правой руки сопровождал слова наркома. – Народ нам не простит, если загубим революцию. Драться мы умеем, разрушать старый мир умеем, а вот строить, экономически мыслить – не всегда... Рабочих не забывайте! Нельзя смотреть на них свысока, кичиться перед ними мандатами. Рабочие все смогут. Без них мы – фантазеры. Меряйте себя любовью рабочих, а не благодарностями треста или наркомата!..»
Почти все приглашенные к директору завода были налицо, за исключением двух-трех человек. Еще не появился Квасов. Стряпухин повертел карандашом возле его фамилии, спросил о нем Фомина.
– Предупреждали Квасова дважды, – сказал Фомин, – должен быть. Кстати, Семен Семенович, какая это шишка приехала к нашему директору?
– Шишка? Не знаю, – холодно ответил Стряпухин, посматривая на часы: минутная стрелка вот-вот должна была подойти к назначенному времени. – В кабинете сидит директор одного из энских уральских заводов, товарищ Серокрыл Степан Петрович.
– Серокрыл? – обрадованно переспросил Фомин. – Комбриг?
– Директор. Я же сказал: директор.
– Это мой комбриг! – воскликнул Фомин. – Три Красных Знамени у него?