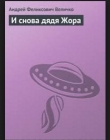Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– Кажется, три, – Стряпухин поднялся, поправил поясной ремень и одернул с боков саржевую гимнастерку с отложным воротником.
Человек на четыре «С» – секретарь Семен Семенович Стряпухин давно сумел завоевать уважение и доверие всего коллектива.
Люди нашли в нем человека, способного, не перебивая и не понукая, выслушать просьбу и, что особенно поучительно, смелого администратора, готового самолично решать многие вопросы заводской «текучки». В тридцатые годы не сформировался и не окреп тип помощника или секретаря, церберно восседающего у «амвонных врат» и у аппаратов связи; еще не вылупился фельетонный прототип с брезгливо искривленной губой и натренированным позвоночником, умеющим гнуться перед вышестоящими и выпрямляться перед представителями рядового человечества. От последних-то в основном и стал охранять такой секретарь своих важных шефов.
Внешне Семен Семенович ничем не выделялся. Описать его почти невозможно, как, примерно, невозможно описать один за другим грибы опенки. Таких лиц много. Но внутренне Стряпухин, как уже было сказано, являлся ярко выраженной индивидуальностью и потому запоминался с благодарностью и надолго.
На лысеющем лбу Стряпухина сбежались морщинки, когда он в последний раз взглянул на часы. Затем морщинки так же быстро соскользнули к вискам. Быстрыми шажками он направился к кабинету и, ловко пронеся свое куцее тело через полураскрытые двери, вскоре вернулся и попросил заходить. Сам же он притиснулся спиной к двери с тугой пружиной, чтобы люди могли пройти свободно.
В кабинете кроме самого директора и членов «треугольника» находилось еще несколько человек: Парранский в пепельно-голубом костюме, Лачугин все в той же тюбетейке, Хитрово, начальники отделов. Они занимали правую сторону, впереди стендов, демонстрирующих продукцию завода, начиная от простого лабораторного и медицинского оборудования, полностью освоенного, и кончая сложными приборами. Часть заказов постепенно выводилась на другие предприятия объединения, но кое-что сознательно задерживалось на заводе в целях суммарного выполнения плана. Что и говорить, легче мастерить освоенные центрифуги и автоклавы, чем новые, «спотыкающиеся» приборы. И почему бы не сохранить цех термометров, прекрасно налаженный при помощи тюрингского немца Майера и помогающий безотказному кредитованию в банке? Ломакин противился Парранскому, торопившему раз и навсегда распроститься с медицинскими термометрами и с термометрами, измеряющими температуры и качество воздуха, жидкостей, металлов. Ломакин помнил прекрасную пору освоения, когда хрупкий полуфабрикат огненных гутт завода «Дружная горка» превращался в разнообразные изделия, тщательно градуированные, с тончайшими капиллярами, вобравшими в себя спирт, ртуть...
В ювелирных ящичках хранились похожие на драгоценные камни шарики, наполненные особой жидкостью и запаянные без остаточных швов, – стеклянные шарики, добытые в мастерской Шрайбера при помощи бунзеновской горелки, газового горна и несложных приспособлений для вращения и шлифовки. Не случайно конторка Шрайбера сразу же по окончании смены опечатывалась по мастике медным гербом. Без шариков, будем называть их так, немыслимо определить точность многих приборов, в том числе и намеченного в опытную серию автопилота.
Парад техники завершался сложными артиллерийскими приборами, уже поступавшими в войска, бортовыми прицелами для самолетов, прицелами для морского торпедирования и недавно присланными из ОКБ эталонами приборов, стабилизирующих курс быстроходных катеров «москитного флота».
Впервые Николай увидел в сконцентрированном виде то, что производили люди, проходившие утрами по сосновым доскам табельной проходной и устало возвращающиеся по тем же доскам после отбойного воя сирены.
– Заранее прошу прощения за беспокойство, – сказал директор, когда все расселись. – Мы хотели бы с вами посоветоваться.
Серокрыл, крепчайший мужчина с тремя боевыми орденами на крутой груди, повернулся в сторону Фомина и кивнул ему без улыбки, с каким-то сдержанным упреком. Засиявший было Фомин сразу погас и опустил глаза в раскрытый блокнот, лежавший у него на коленях. Эта мимическая перекличка была замечена многими. Особенно доволен был Ожигалов, всем видом своим говорящий: «Ну что, Фомин, нашел единомышленника?»
– Мы вас призываем до конца победить все проявления дикости и отсталости. – Ломакин положил на отполированный край стола ладони, как бы собираясь встать. – Я не о той дикости говорю, когда рыбу с ножа едят и чавкают при этом. Я говорю об отсталых настроениях среди... н а ш е г о брата... Мы должны повести борьбу с теми из н а с, кто пытается сорвать, а не заработать, взять побольше, а сделать поменьше. С кого сорвать? Да с нас же самих, с честного рабочего, с работяги крестьянина, чтобы тянуть из него последнюю жилу.
Парранский с удивлением приподнял бровь, потом другую. Тянуть последнюю жилу? Так мог говорить коммунист, выходец из пролетарско-крестьянской среды, а попробовал бы он, Парранский, сказать об этой «последней жиле»! Все сидели тихо в ожидании того главного, из-за чего их пригласили в кабинет с дубовыми панелями и стенами, покрытыми твердым берлинским линкрустом. Только Саул, сидевший возле молодого токаря Степанца, энергично и согласно мотнул головой. Николай заметил это. Саул и сам не раз бранился, говоря о слишком больших тяготах, взваленных на плечи крестьян во имя быстро растущей индустрии.
Ломакин заговорил о довольно прозаических вещах, связанных с удешевлением приборов, с экономией и повышением отдачи. Будто невзначай упомянув о рвачах, он спокойно поиздевался над теми, кто считает нелепостью подсчитывать деньги, перекладываемые из одного кармана в другой. А эти карманы, как считают они, принадлежат одной кассе – Советскому государству. И снова перешел к о т д а ч е.
Слушая достаточно надоевшие истины, Серокрыл наблюдал за сидевшим у окна молодым рабочим в галифе с леями и в затрепанной, с неоднократно подшитыми манжетами, гимнастерке. Серокрыл не знал Николая Бурлакова. Обратил он на него внимание прежде всего потому, что Николай с внутренним восторгом всматривался в него, Серокрыла, и этот взгляд приводил в смущение даже такого стреляного волка. Серокрыл знал себе цену, еще бы – имя его упоминается в юбилейные дни армии, а художники нет-нет да и намалюют его портреты. Партизан не мог догадаться, конечно, что Бурлаков знал его не по юбилеям, а узнал в нем человека, который подъехал с Фоминым на лихаче к шашлычному подвальчику на Тверской улице; это было в тот памятный день, когда демобилизованный кавалерист впервые бродил по улицам Москвы. Серокрыл залюбовался открытым лицом Бурлакова. Глаза светлые, ясные, кожа чистая, а буйным прядям и расческа, пожалуй, не нужна, пусть себе вьются в беспорядке, падают на лоб.
Серокрыл перевел взгляд на Ломакина. Он тоже по-хорошему завидовал его простецкому, располагающему к себе лицу, его добрым губам и доброму носу, если, конечно, можно так выразиться о носе. И глаза у него теплые; какие бы резкости он ни говорил, злобы не отыскать в этих «зеркалах души» при самой дотошливой подозрительности. Серокрыл не любил свою внешность: мрачные черты его лица не смягчала даже улыбка. Да и то сказать, жизнь не легкая. Шахтерщина в Донецком угольном бассейне, солдатчина в германскую войну, гражданская война, потом восстановительный период, Промышленная академия. Голова раскалывалась от перенапряжения. Потом снова заводы, Урал, планы... Некогда вздохнуть.
Корыстных, лживых людей Серокрыл терпеть не мог. Перед этим совещанием Ломакин рассказал ему о поведении Фомина. Бывший комбриг почувствовал недосказанный упрек в этих словах. Правда, как может Серокрыл влиять теперь на своего бывшего комэска Фомина? Живут за тридевять земель друг от друга, видятся в редкие приезды и то лишь на базе кахетинского и шашлыков. И все же старый вояка решил призвать к порядку своего соратника.
– Мы решили организовать и н с т и т у т инструкторов из рабочих. – Ломакин подходил к основному пункту, и заскучавшие было слушатели оживились. – Назначаются инструкторы из рабочих, наиболее опытных и зрелых. Вероятно, они должны быть независимы от цехового начальства. – Он посмотрел на съежившегося Фомина, подчеркнуто выдержал паузу и продолжал: – Переведем их на оклад. И когда нужно проверить нормы выработки, будем обращаться к ним. Они – эталоны! Инструктор становится к станку и с тем же инструментом доказывает на практике. Вы спросите: для чего мы решили сделать так? Для того чтобы погасить всякие споры, чтобы рабочая самопроверка выбила почву из-под ног закоперщиков, крикунов, стонущих от якобы высоких норм и от несправедливостей нормировщиков. Ну и так далее... Вы сами понимаете это не хуже меня, братцы.
Вызванные рабочие догадались наконец для какой цели затеян этот разговор, но пока никто не решался высказаться. Закончив, директор сел за стол, выпил залпом стакан остывшего чаю и потер ладонями щеки.
Серокрыл, повернувшись к Ломакину в своем глубоком кожаном кресле, спросил:
– Если вы решили посадить инструкторов на оклад, то какая же тут самопроверка, Алексей Иванович?
– А как же иначе? Нам же придется отрывать инструктора от станка, выбивать его из ритма...
– Так-то оно так... – Серокрыл нахмурился. – Все равно самопроверка не получается. Вы же его делаете агентом администрации и ничем иным, Ломакин. Если уж идти против дурных настроений... – И он повернулся к Фомину и окинул его неприязненным взглядом.
– Нужно прислушаться, – тихо сказал Парранский.
Ломакин спросил молчавшего Ожигалова:
– Как ты думаешь?
– Мы же предварительно обменивались мнениями, – ответил Ожигалов. – Насчет оплаты нужно посоветоваться с заинтересованной стороной, с товарищами. Для того их и позвали. – И обратился к Серокрылу: – Инструктор – это, ну, как бы младший командир в армии. Красноармеец думает, что такое-то упражнение выполнить невозможно; тогда младший командир показывает сам, доказывает не словами, а делом. Не так ли, товарищ Бурлаков?
Не ожидавший обращения к себе, Бурлаков по армейской привычке встал, невольно вытянул руки по швам; спокойное лицо его сразу напряглось, утеряв свежие краски, которыми с завистью только что любовался Серокрыл.
– Правильно, тогда младший командир показывает... – Бурлаков замялся. – Только необходимо учитывать и возможности красноармейца...
– Так, согласен, – вмешался Ломакин. – Потому мы и намечаем в инструкторы разных людей. Не только таких, как, к примеру, Старовойт, – он и блоху подкует. Мы назначаем и тебя, Бурлаков, и вот этого бывшего фабзайца Степанца. Нужно добиться перелома, и сделать это безупречно, руками самих же рабочих, а не агентов администрации.
Серокрыл, покачав головой, сказал:
– А ты не заметил, Алексей Иванович, как рабочий-то твой безупречный дрогнул? А чего он испугался? Того, что ты его от станка оторвешь, переведешь в ранг надсмотрщиков. Как у нас делается? Замысел хороший, а исполнение дурацкое. Испортите вы его на этой должности, дисквалифицируете. Контрагент на первых порах из него, возможно, и вылупится, а дальше? Пройдет время, и он не только других ничему не научит, но и сам азы позабудет.
Николаю понравилась откровенность уральского директора. Мысль Ломакина не встретила в нем сопротивления, поскольку он понял, что задача решалась не только технически. Вот тут-то и нужна тонкость. Вывесить приказ легко, а вот как его истолкуют рабочие? Администрация поддержит, а товарищи не отвернутся ли? Поэтому лучше не переводить инструкторов на оклады. Действительно, примут их как надсмотрщиков. Не лучше ли не назначать, а избирать инструкторов, ну, хотя бы на производственных совещаниях?
Николай, высказав свои соображения, сел как в тумане. Выступавшие стали поддерживать его. В глазах Николая прояснилось. На него по-прежнему с одобрением смотрел Серокрыл, взглядом похвалил Саул, и Парранский, по-видимому, узнал своего случайного вагонного спутника. Главное – сплоченность, создание твердой и надежной коллективной силы, действующей разумно и осторожно. Нельзя обижать рабочих, нельзя нажимать. Самопроверка мыслилась как доброе дело. И не было в учреждении нового института измены товариществу, о чем говорил Ломакин в своем заключении; нужно добиться, чтобы все рабочие чувствовали себя хозяевами полноправными, а не бумажными, и тогда можно горы своротить.
По окончании совещания Николай вышел из кабинета легким шагом, будто после удачно выполненного строевого урока. В приемной его подозвал к своему столу Стряпухин, придвинул заполненные бланки.
– Просмотрите и распишитесь, товарищ Бурлаков. Только нужных вам размеров леса не нашлось на складе, даем отличный сосновый швырок, двухметровку. Кровельное железо, извините, черное, но если его проолифить, а потом красочкой, советую суриком, – на десять лет пойдет...
Поймав недоуменное выражение на его лице и будто обрадовавшись, Стряпухин своим мягким тенорком разъяснил:
– Комсомольцы выразили желание коллективно помочь вам пристроить комнату с тамбуром. Есть их ходатайство. Дирекция отпускает материалы из своего фонда.
Не так давно Саул, встретив Николая, пообещал какой-то «сюрприз». Когда комсомольские вожаки обещают «сюрприз», хорошего не жди; а тут все обернулось светлой стороной. Острое перо разорвало рыхлую голубоватую бумагу, подписи получались неважные.
– Требуется архитектурный проект и другие формальности, – продолжал Стряпухин. – Все сделаем сами. Подошлем плотников. С тетушкой вашей супруги договорился товарищ Гаслов. Она не возражает против пристройки. Выговорила себе краски на крышу.
В приемной, откуда уже все разошлись, появился Квасов.
– А, ты еще здесь, контрагент!
Николай понял, что Квасову все известно.
– Здесь, – сухо ответил он.
– Туда нас вызывают? – Квасов мотнул головой на директорские двери. – Угадал, Семен Семенович?
– Угадали, товарищ Квасов, – ответил Стряпухин. – Правда, с большим запозданием. Но можете зайти.
Квасов по-хозяйски толкнул дверь плечом и прошел, высоко подняв голову, уверенный в себе, веселый, широкий не только в плечах, но и в удачливой жизни.
Вскоре донеслись резкие голоса, вначале Квасова, потом директора; кажется, вмешался Парранский, и тоже на взвинченных нотах. На лице Стряпухина появилось озабоченное выражение, пальцами он оттопырил ушную раковину. Тело его напряглось. Разгневанный Квасов вылетел из кабинета. Масляная пружина с шипением притворила массивную дверь. Голоса за ней погасли.
– И ты согласился, Колька? – с негодованием спросил Квасов.
– Да! – Ответ был похож на вызов.
– Администрация легавых ищет! – Квасов не остыл после стычки в кабинете. – По дешевке их покупает. Слепые вы души! – Квасов с силой отмахнулся. Из кармашка куртки выскочил штангель, стукнулся об пол. Стряпухин нагнулся, поднял штангель.
– Иди-ка одумайся, Квасов, – строго сказал он и с укоризной добавил: – Плохо ты понимаешь рабочий класс. Разве его можно купить?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Ломакин явился в цех лишь для того, чтобы заявить:
– Волынщиков отдаем на ваш, рабочий, суд... Сами оценивайте, принимайте меры, наказывайте. Администрация вмешиваться не будет. Если излишне сурово обойдетесь, ну, тогда придется в какой-то мере помиловать.
Ни слова больше не проронил директор на цеховом собрании и ушел. Рабочие по-свойски рассчитались с волынщиками.
Поверженный Квасов остановился возле ворот. Кованых птиц омыл недавний летний дождь; их мудрые глаза строго смотрели на Жору. Хвосты, изогнутые вниз, матово светлели под фонарями.
В небе голубела яркая звезда. Прямо к ней поднимался из кирпичной трубы крученый ствол дыма. Кровавыми бликами играли окна литейки – кипел металл.
Душа Жоры Квасова была до краев переполнена и дурным и хорошим. Его выгнали на стружку – это очень дурно и стыдно. Выгнали сами рабочие – тем хуже! Но, может быть, они слепые и ему одному приходится бороться с хитростью администрации? И это хорошо. Он не предал интересы рабочих, не стал легавым.
Старый друг Колька выступил против него, а злобы на Кольку не было. Его искренность не вызывала сомнений. Если он ошибается невольно, можно простить. Одно некрасиво: слишком складно выражал свои мысли. Людей, ясно мыслящих, точных на слова, правильных до тошноты, Жора не принимал. Они вызывали у него подозрение. Николай рассуждает слишком трезво. Ход рассуждений у него противно прямой, все по шнурку, по отвесу. Если перевести на токарный язык – работает по чертежу в точных пределах узаконенных допусков и припусков.
А Фомин продал! Как еще продал!.. Отрекся, как Петр от бога. Крыса – не человек! Вот так и расшатывается рабочая солидарность!
Жора лениво шел по переулку, не ведая, куда несут его ноги. Самый раз окунуть губы в пивную пену. Пивная закрыта. Щит с засовом. Запахи мочи и прокисшего пива. Подумал: «До чего же отвратно! Некультурные твари. И это в самом центре пролетарской столицы».
По площади тащились грузовики с мокрой землей. С бортов текло. Рыли подземку.
Грузовики шли сплошняком, грязные и неповоротливые. Не переждать. Квасов постоял на площади, покурил, бросил окурок на сухое дно фонтана и тяжело зашагал вниз, к Красной Пресне.
На Баррикадной есть магазинчик. Знакомый продавец не откажет выручить бутылочкой, завернет огурцов.
А потом с бутылкой в кармане куда? Своя семья не сложилась, у Аделаиды – ни любви, ни уюта, один обман, пудра и мази. Аделаида примется врать или плакать. Нельзя рабочему человеку связываться с дамочкой в шляпке.
Марфинька! Шепнул ей сегодня, чтобы ушла с собрания. Зачем ей видеть его срам?
Квасов испытывал злое отчаяние. Нет, неправильно начата жизнь! Товарищи сегодня крыли его. Но это неважно. От товарищей можно уйти. А куда уйдешь от себя?..
В лавчонке долго объясняться не пришлось. Жора шел, и бутылки приятно холодили тело. Огурцы и шматок ливерной колбасы засунуты в наружный карман куртки. Жора заранее предвкушал наслаждение от стакана водки и хруст на зубах от соленого огурца. Даже челюсти свело.
К Марфуше! Только к ней, ребячливой и милой. Она и целоваться-то совсем не умеет, зато всегда найдет ласковое слово. С ней просто и тепло. Ей так мало надо! Не требует она пропусков в Инснаб, шоколада, маркизетов, гречки и манной крупы.
Чем же живет она, как? Молодостью, верой, безнадежной любовью к нему, подлецу?
Квасов не жалел для себя дурных слов, нисколько себя не щадил. Ему стало легче. Ему нужна была Марфинька. Единственный человек, которому можно открыться. Она не обессудит...
Марфинька сама отворила на стук, провела коридором так, чтобы он ни за что не зацепил. В комнатке освещенной луной, припала к нему всем телом.
...Сколько времени прошло?
На столе – пустая бутылка водки и вторая, початая. Скромная снедь – огурцы и ливер, раскромсанная ножом банка бычков. Жора лежал на диване, положи курчавую черную голову на валик, спустив ноги на пол. Над его забубенной красивой головушкой склонилась Марфинька, любовалась им. Крепкая, смуглая рука Жоры лежала на ее коленях ладонью вверх, и Марфинька нежно гладила эту ладонь, будто подкованную мозолями.
Марфинька была пьяна не от водки. Выпила она только одну рюмку, и то с отвращением – ради любимого Как отказать? Ее пьянило присутствие Жоры. Значит помнил о ней, если потянуло сюда. Как не отблагодарит-лаской! Зачем упрекать, тиранить? Она не жалела красивых слов – только бы оттаяло его сердце.
– Говори, говори, – шепотом просил он. – Она совсем не такая, Марфинька. Я для нее... Собака я для нее. Верти хвостом, тащи добычу в конуру, гни горб для ее прихоти.
Слова вылетали комканые, вялые. Марфинька торжествовала, ловила эти невнятные слова, словно ненароком оброненные в тишине полуосвещенной комнатки, до того крохотной и милой, что в груди щемило.
– Нельзя их любить, Марфа, нельзя. Гады! Азотная кислота... Капнет – и дырка до кости... Думал, подымусь возле нее, интеллигентка, а она во мне всю муть всколыхнула. Душа моя, Марфинька, взболтанная, мутная. Ни разу она меня не похвалила, не удивилась на меня. Она узкая. Драчовая пила. Если поставить ребром. А я просторный. Ты же знаешь меня, Марфа!
– Просторный ты мой, просторненький!.. Заблудиться в тебе можно, Жорочка, – отвечала Марфинька и, не осмеливаясь поцеловать в губы, осторожно прикасалась губами то к его лбу, то к волосам.
Запах табака и водки дурманил ее. Страшное для любви и дум время – полночь... Московская, улица не шумела вдали; ночной воздух, еще не остывший от дневного тепла мостовых и крыш, втекал через окно. Завтра вставать раньше света. Ничего! Не привыкать.
– Как она может тебя не понять! Мертвая она, значит, до любви. Спроси любую мою подружку, они скажут, какой ты красивый, Жора! Наташа и то... Теперь она с Николаем, а раньше...
При упоминании этих имен голова Жоры приподнялась с подушки, локоть уперся в колено, огонек вспыхнул в уголке глазного яблока.
– Наташа? Что раньше?.. Говори, прошу...
– Сам знаешь, сам...
Марфиньке не хотелось продолжать. Интерес Жоры к Наташе не случайный, она знает. Когда Жора замахнулся на нее разводным ключом, а Наташа не выдала его, немало пошумели в цехе, строили разные догадки. Потом все оказалось пустое, она вышла за Николая – и делу конец. Квасов ждал ответа, и небрежная улыбка появилась на его губах.
– Ты поругался с Николаем? – спросила Марфинька.
Квасов стиснул зубы, лицо его набрякло. Вот-вот он опять станет чужим, некрасивым.
– Наши мужские дела при нас, Марфуша, – с мрачной усмешкой процедил он. – Мы сами как-нибудь разберемся...
– Брат же он мне...
– Мало ли чего! Ты разрешишь еще?
Чтобы угодить любимому, Марфинька налила ему водки. Граненый стакан подрагивал в ее руке. Жора не сразу взял его, какими-то новыми глазами он смотрел на ее рабочую руку с неумело накрашенными ногтями, с заусеницами и несмываемыми следами тавота.
И неожиданно Жора потянулся к этой руке и, не беря стакана, прикоснулся к ней губами. Марфинька обмерла от страха. Стакан упал на пол. Она прижалась грудью к его плечу и безудержно разрыдалась.
– Чего ты, дурная?.. – ласково и как бы проснувшись от забытья, спросил Квасов и погладил голову Марфиньки. – Какие все нервные стали...
Поцеловал ее в шею. В лицо пахнуло запахом не то курного угля, не то еще какой-то въедливой гари. Завод пропитал кожу Марфиньки. Невыносимо близка она ему сейчас. Жора запрокинул ее голову, жарко поцеловал в губы.
– Трудно мне, Жора, – сказала Марфинька, когда их порыв угас. – Я же тебя никак не неволила. Уступчивая я...
– Уступчивая, – согласился Квасов, пытаясь угадать, к чему она клонит.
Порыв уступает место осторожности. С этим вертким бабьем всегда нужно быть начеку. Чуть что – и промазал.
Марфинька продолжала:
– Как закрутила тебя эта, я стиснула сердце, сломила гордость. Ладно, решила, лишь бы тебе было хорошо... Чистенькая она, вертлявая, кольца у ней... Кофточки меняет. Одну, другую. Куда мне, Жора! А потом заметила: тяжело тебе с ней. Плохо. Со мной лучше. Как-нибудь дошли бы мы до разных кофточек, до... комфорта...
Чуждое слово резнуло Жору. Кто-то подкинул это слово, как камешек под ноги. Упало оно и будто покатилось, стукнуло в мягкую фанерную стенку.
– Ну? – попросил Квасов, поежившись и пощупав кадык.
– Со мной лучше бы тебе было, Жора. Мне – не знаю, а тебе – да... – Мучительная гримаса передернула ее лицо. – Зачем я такая уступчивая?!
– Что же теперь нам делать?
– Переходи ко мне, Жора!.. Я тебя...
Вылетело слово – и не поймаешь. Марфинька запнулась, судорожно сжала пальцы. Но что ж теперь будет? Она все стерпит, не обидится, раз уж это слово вырвалось.
Квасов не сразу ответил. Привстал с дивана, глубоко вздохнул и, промычав что-то неопределенное, поднялся в полный рост, загородив своим телом светлое пятно узкого окна.
Вместе с заслоненным лунным лучом погасла и вспыхнувшая надежда в сердце Марфиньки.
– Все вы одинаковые, – после тягостной паузы вымолвил Квасов. – Чуть что – «переходи ко мне!». А перейду, что будет?
– Ну, не уходи от нее, если нельзя. Вырвалось у меня!
– Вырвалось? – повторил он с пренебрежением. – Не могу уйти от нее, Марфа. Ждем мы, кажись, потомка. Сглупа... А потомок не завком, от него членскими взносами не отделаешься...
Рука Жоры потянулась к гвоздю, он нащупал кепку, смял ее в кулаке; хрустнул козырек.
– Все вы, девчатки, добрые, ласковые, услужливые. До поры до времени... А разомлеешь возле вас, окрутишься – слякоть одна: ревность, горшки, утюги, подгорелые пышки. Улыбка и та другой становится – кислая, прически будто хромоникелевая стружка, глаза не блестят, а мигают. Получку до копья вытряхнете из всех карманов...
– Не хочу я ничего от тебя, Жора, – остановила его Марфинька и приникла к нему всем своим податливым, телом. – Только счастья тебе желаю...
Но он стал уже прежним Жорой Квасовым, любимцем и баловнем, которому все трын-трава, властным «вожаком пережитков», как назвал его однажды на собрании шибко грамотный председатель завкома.
Марфушка что? Ребенок. Ее и любишь и жалеешь. Доверчивая, чистая... Не нужен ей такой, как Жора Квасов. Ишь, сболтнула о счастье... Где оно? Куда его запрятали, в какую лузу загнали?..
Квасов протянул на прощанье руку.
– Счастья у меня не будет, Марфуша. Не для меня его золотая индюшка высиживает. Чувствую: чужой я всем человек. Все меня пытаются обломать... А я-то давным-давно обломанный, Марфинька. Я в армии с «губы» не выходил, спроси Николая, подтвердит. Вместе с ним полковую школу отъездили на венгерских полукровках. А подошел ко мне однажды комдив, простой человек, руку подал, глянул в глаза – и спекся Жора Квасов, как пирожок. Меня нельзя на корде гонять, Марфуша. – И, усмехнувшись, продолжал: – После мне комполка призовые часы вручил. Служили у нас в школе чеченцы, казаки, осетины, я их обскакал. Это потому, что комдив по-человечески пожал мне руку и не упрекнул дисциплиной... Не подумай, что я дисциплине враг. Я хитрованов не люблю, Марфинька. Скажите прямо, ребята: хотим то-то и то-то во имя потомков. Подумаю, обмозгую, приму. А то следят за мной, как за жуликом, хронометрами щелкают, карандашами исподтишка скрипят, фотографируют мои усилия. А потом – нате, норму повысили. Размахнулся на свиную отбивную, а схватил бублик... – Поняв, что Марфинька ему по-рабочему сочувствует, остановился, шутливо взял ее за нос. – Только меня не копируй. Живи тише... У тебя жизненные запросы ограниченны. Небось, родителям посылаешь?
– А как же...
– Хочешь, добавлю? – Жора пошарил в карманах штанов и пиджака.
– Не надо. Ни за что не возьму! – Марфинька повисла у него на руке.
– Ладно. Все понимаю. Я без намеков. Я могу тебе пальто купить, туфли... Просто так... Я в тебе вижу друга, Марфинька. Обижать не собираюсь. А кто посмеет тебя обидеть, селезенку вытряхну! Свели меня с той Аделаидой зря, обольстили, попался, как плотва на красного червячка. Ну и прыгаю на сковородке... Ухожу я. Пока! Не знаю, вернусь ли к тебе...
Марфинька знала: перечить ему нельзя. Отпустила без слез и упреков, благодарная за последние откровенные слова. Их еще надо продумать, разобраться. Квасов поцеловал ее в неответившие губы, нагнулся в дверях и ушел. С улицы слышно: пошел в сторону Грузинской, домой.
Оставшись одна, Марфинька не спеша умылась, вытерлась вафельным полотенцем, аккуратно повесила его над тумбочкой и, не закрывая окна, легла на диван, еще хранивший теплоту его тела. Вспомнила: завтра рано вставать, первая смена. Потянулась оголенной рукой за будильником, завела его на шесть и свернулась по детской привычке – колени почти у подбородка.
Свидание оставило горечь... А все-таки пришел! Вспомнил. Открылся душой. Не всегда можно добиться откровенных разговоров от Жоры.
Заснула Марфинька спокойно и во сне улыбалась, чему – неизвестно.