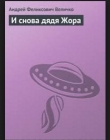Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
– Жора, если ты думаешь о заводе, то это зря. На стружке, конечно, тебе стыдно работать и оплата меньше. Потерпи, все вернется, а пока я помогу... – И после короткой паузы похвалилась: – Ты не сомневайся. Знаешь, сколько выписали мне в получку?
Квасова растрогали ее слова, произнесенные без всякой рисовки. Разве он может сомневаться в Марфиньке? Как-никак, а теперь их двое.
После недолгого перерыва на помост вышли цыгане. Марфинька сразу приметила двух пожилых и трех молодых стройных женщин с талиями, обтянутыми пестрыми платками. Мужчины побренчали на гитарах, переглянулись, кивнули хору, и в зал лавиной обрушилась дикая песня, бесстрашная, степная, раздольная.
И эта песня будто вернула Жоре способность соображать. Границы жизни раздвинулись. Мог ли Коржиков загородить ее своими хилыми плечами? Две рюмки водки окончательно прояснили сознание Жоры и помогли ему здраво осмыслить положение. Только теперь он догадался, что именно отсюда, из «Веревочки», началась за ним слежка. Многие здешние завсегдатаи, пьянчуги, как бы созрели для того, чтобы стать подлецами. И одним из таких, как они считали, был он.
После таборной песни плясали худые ребята в атласных шароварах. По их впалым, насмугленным косметикой щекам катился пот, оставляя длинные бороздки. Старый цыган с серебряной серьгой в ухе, стоявший сбоку, впереди хора, подыгрывал на гитаре, в то же время выискивал глазами в зале очередного дурня для величания. Жора отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом, и, чокнувшись с Марфинькой, выпил третью рюмку холодной водки.
– Ты закуси, Жорочка, – попросила Марфинька.
– Пусть пожжет. – Теперь Жора уже сам старался поймать взгляд Коржикова. Ему не терпелось.
Коржиков заметил Квасова сразу, еще у входа, но сделал вид, что не узнал. Как поведет себя этот взбалмошный парень? Исподтишка он стал наблюдать за ним. Квасов испугался, это хорошо! Водкой он пытается заглушить свой испуг – тоже неплохо! Действовать нужно осторожно. Выбрав удобный момент, когда Марфинька была отвлечена пляской на эстраде, Коржиков придвинулся ближе и сказал не оборачиваясь:
– Жора, учтите: меня здесь нет... Мы встретимся в среду, – он назвал улицу, место. – Есть сообщение...
Договорить он не успел, к нему повернулся сидевший рядом с ним старик с яркими молодыми губами.
– Павел Иванович, а ведь это симптоматично.
– Что симптоматично? – переспросил Коржиков, недовольный тем, что ему помешали.
– Вся эта обстановка. Римскую империю, как известно, погубил разгул.
– Черт с ней, с Римской империей! – буркнул Коржиков и выпил водки.
– Я прикидываю к российской действительности. – Старик указал пальцем в ту сторону, где цыгане величали сибиряка.
Он сидел, упершись локтями в стол, чтобы не свалиться, и широко расставив ноги в сапогах с козырьками голенищ, поднимавшихся над коленями. Цыгане величали этого могучего сибирского медведя, а он глядел на них мутными, оловянными глазами, но не вставал, так как спиной прижимал к спинке стула туго набитую сумку из оленьей шкуры.
– Вы ошибаетесь! – громко заявил второй из компании Коржикова и пристукнул кулаком по столу. – Наше государство не погибнет! Полюбуйтесь, как этот сибиряк прижимает своей стальной спиной оленью сумку. Попробуй сдвинь его! Государство взяли в свои руки мужики и фабричные. У них девственные мозги и непокалеченная психика. Видишь? Сибиряк дал в рыло? Кому? Тому, кто попытался только притронуться к его сумке. Браво! Браво! – Он привстал и захлопал в ладоши.
– Эка невидаль, сумка, – буркнул Коржиков. – Что там может быть у него, в сумке? Червонцы?
– Неважно, не имеет значения! Пусть там клозетная бумага или планы свинцовых копей. Какая разница? Он метко дал в морду, хотя пьян как свинья... Что на это скажете, римляне?
Старик дожевал кусок мяса, вытер губы платком, посмотрел на часы.
– Я стою на своем, молодой человек, и жалею могучую империю Рима, раздавленную, образно выражаясь, виноградного кистью.
– Врешь, старик! – Снова кулак об стол. – Римская империя погибла из-за таких вот слюнтяев, как ты. – По привычке, свойственной многим нашим согражданам, он перешел на «ты». – Слюнтяи предали забвению Цезаря и Помпея. Они сменили мечи на кисти и резцы, ха-ха!.. Стали рисовать картинки, портить благородный мрамор на изваяния голых баб. Женская грудь восторжествовала над доспехами. Мускулистых центурионов сменили изнеженные слюнтяи, подобные тебе, старикан, и тебе, гражданин Коржиков.... Римскую империю съели барство, изнеженность, свары и склоки, вместо дыма боевых костров она стала дышать благовониями. У патрициев одряхлели мускулы, да, да!..
Услышав фамилию Коржикова, Марфинька навострила уши. Она заметила отрывистые перешептывания Жоры с гражданином, сидевшим к их столу спиной. Несвязный рассказ Николая о его встрече с Аделаидой побудил ее думать, что у Жоры с Коржиковым ссора из-за любовных дел. Нет, теперь она ясно почувствовала, что дело в другом. Римская империя и все прочие мудрые штуки – это все для отвода глаз. «Нет, нет, погодите, – думала Марфинька, мгновенно протрезвев, – кого-кого, а меня не проведете! Ишь ты, какой изворотливый Коржиков!..» В ее сознании происходила сложная работа. Если Жора должен остерегаться Коржикова, то, значит, он опасный, значит, и она должна его бояться.
Разговор за соседним столиком обострялся. Марфиньке показалось, что мужчина в косоворотке и с сильной шеей только притворяется пьяным и бестолковым, а на самом деле он т в е р ё з и распаляет своих собутыльников с какой-то тайной целью.
Потом старик немного успокоился и слушал своего собеседника, склонив набок аккуратно подстриженную голову и играя пальцами по столу. Коржиков с аппетитом доедал жареное мясо.
Когда мужчина в косоворотке выговорился, старик снял пальцы со стола и сказал брезгливо:
– Если хотите знать основную ошибку Римской империи, могу вас просветить. Римская знать доверилась преданности своих рабов, мстительных, лукавых и вероломных. Вот так... – Он махнул головой в сторону сибиряка. – Ваш сибиряк с оленьей сумкой тоже, если хотите, вчерашний вероломный раб... А нам пора и честь знать, Павел Иванович, я сыт по горло. – Старик нервно расчесал бороду маленькой расческой. – Пора уходить из вертепа, Павел Иванович.
Коржиков что-то сказал молодому; тот отмахнулся, опустился на стул так, что затрещали ножки, и буркнул, не глядя на Жору:
– Пусть!.. Нам-то что...
Коржиков нагнулся, будто для того, чтобы завязать шнурок, и тихо шепнул Жоре:
– Итак, в среду на той неделе, в одиннадцать. – И добавил, уже приподнявшись: – Шрайбер умер...
– Шрайбер? Когда? – У Жоры сорвался голос.
– Да, Шрайбер, – повторил, казалось, довольный Коржиков. – Сегодня. Три часа тому назад... Мне позвонил Мартин.
– Мартин?
– Да. – Коржиков сделал знак глазами, призывая к осторожности. – Вы напрасно с ним на ножах... Сойдитесь с Мартином...
Все вместе они вышли из «Веревочки». Коржиков тут же нанял машину и укатил с бородатым. На тротуаре остались Квасов, Марфинька и человек в косоворотке.
– Какая благодать! – Он втянул в легкие воздух, засунул правую руку в карман. – Будто после помойки кислородом дышу.
Жора решил промолчать. Ему казалось, что Коржиков не зря оставил с ним этого мужчину. Чтобы выгадать время, Жора закурил, хотя и без того было гадко во рту. Известие о смерти Шрайбера застало его врасплох, и он воспринял его как предупреждение.
Низкие облака будто тащились по самым крышам зданий. Накрапывал дождик, зачерняя асфальт, освещенный двумя матовыми фонарными шарами возле углового входа «Веревочки». В ресторан уже не пускали. Запоздавшие гуляки ломились в дверь. Из отдушин-окошек подвала несло смрадом. Вверху, на площади, будто крепость, тяжелело полуосвещенное здание ОГПУ. Квасов снял пиджак, прикрыл зазябшие на ветру и дождике плечи Марфиньки и неловко под пиджаком взял ее под руку.
Они пошли вниз, к Театральной. Незнакомый мужчина пошел вместе с ними, продолжая разговор с Марфинькой. Будто случайно, он заинтересовался ее немудрой биографией, и Марфинька охотно отвечала ему и даже наивно с ним кокетничала. Он был красивым мужчиной.
Перешли на другую сторону улицы, скользя на мокрых торцах мостовой. Квасов вдруг ощутил свое бессилие и робость. Раньше бы без церемоний турнул этого приставалу, а сейчас не мог. Больше того, он покорно начал отвечать на его вопросы.
Незнакомец что-то слишком подробно расспрашивал о Шрайбере, его характере, привычках и будто невзначай остановился на Мартине. Казалось, он лучше Квасова знал заводских немцев.
– Что ты нас выдаиваешь? – в шутку возмутился Жора и как бы случайно хлопнул его ладонью по правому боку; ему показалось, что парень катает в кармане пистолет.
Тот ловко увернулся от Жоры и без всякой связи стал рассказывать о первопечатнике, когда перед ними возник его тускло освещенный фонарями бронзовый памятник у Китайгородской стены.
Потом он весело рассмеялся, сверкнув отличными зубами, и на прощанье вручил Марфиньке свой телефон. Отрекомендовался он безличным именем: Иван Иванович.
Когда Квасов и Марфинька шагали по Охотному ряду, Квасов упрекнул:
– Зачем ты взяла у него телефон?
– А что в этом плохого, Жорик?
– Если женщина берет телефон, это ее обязывает.
– К чему?
– К тому самому... Не притворяйся!
– Что ты говоришь! – Марфинька повисла у него на руке, подняла веселые, смеющиеся глаза. – А его не обязывает?
– Ладно, ладно, Марфута, ты пьяная. Пошли...
И на Жору снова нахлынули прежние угнетавшие его мысли. Загадочная гибель Фомина, смерть Шрайбера, этот Иван Иванович со «шпалером» в кармане, Коржиков – вот сколько бед навалилось на одного человека...
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Почему же умер Шрайбер? Инфаркт миокарда? Болезнь сосудов головного мозга? Так определило вскрытие. Но и нечто другое сгубило его. Национал-социалистический фатерланд успешно закончил охоту за Шрайбером, за его прошлым и настоящим. Ему ничего не простили: ни партийного билета, ни работы на русских, ни критики нового режима, от которой он не удержался в письме к жене после ареста брата. Арестованный в Гамбурге, в доках, его брат бесследно пропал. Жену Шрайбера и детей увезли в лагерь, и о судьбе их не мог узнать даже Наркомат иностранных дел.
Как бы то ни было, Шрайбера не стало.
Шрайбера не только ценили в России, его любили на заводе за простоту, вежливость и уважение к труду, сближавшее с ним рядовых рабочих. Он приехал из Германии одним из первых, и потому его считали соотечественники как бы старостой, обращались к нему за помощью и советом. Поэтому на похороны собрались не только заводские, но и человек до тридцати немцев, работавших на других предприятиях. В зале заседаний завкома могла уместиться только часть людей, остальные стояли во дворе. Траурный митинг открылся вскоре после гудка, завершившего первую смену.
Сначала говорил о достоинствах покойного один из заместителей начальника вышестоящего учреждения, недавно объединившего группу смежных предприятий в разных районах страны. Заместитель был свежим человеком в этой отрасли индустрии, он недавно окончил ленинградский институт, ему было около тридцати, и потому, полный сил и здоровья, он прочитал четыре страницы убористого машинописного письма довольно бойко, если не сказать, весело. Попытки придать своему цветущему лицу и ярко сверкающим глазам соответствующую моменту печаль не удались. Он был еще так далек от могилы и так хорошо устроен в Москве после полуголодных лет студенчества, что мог представить себе смерть только умозрительно, не испытывая сердечной боли. В своей речи он перечислил многие достижения социализма, выросшие за последние годы гиганты черной и цветной металлургии, химии, энергетики, сложных сельхозмашин, турбин, станкостроения и заводы, для которых, как выяснилось из его выступления, покойный Шрайбер подготавливал базу точной механики.
Закончив надгробное слово, заместитель вынул белый платок с тугим рубчиком от утюга и провел им по сухим глазам.
– Ишь какого актера подсунули в наше объединение! – шепнул Парранскому Лачугин, сложив на животе руки. – Видно, по нашей отрасли еще мало кумекает.
Парранский вежливо отстранился от своего тучного соседа, поморщился: изо рта Лачугина исходил дурной запах. И ответил, нажав на последнее слово:
– У него есть все данные, чтобы отлично к у м е к а т ь.
– Что же у него за данные? Квартиру сразу дали, это я знаю.
– У него большой запас времени. Он молод...
Лачугин тяжело вздохнул.
Теперь говорил Отто, горячо вскидывая то одну, то другую руку и протягивая их к покойнику, лежавшему в своем неизменном твидовом пиджаке и в крахмальной белой рубашке и бордовом шерстяном галстуке. На безымянном пальце блестело широкое обручальное кольцо, редкие седые волосы зачесаны назад так, что лысина не видна. Отто называл покойного другом, отцом и старым моряком. Он говорил по-немецки, речь никто не переводил, но все понимали ее смысл: иногда Отто вставлял русские фразы.
Среди державшихся вместе немецких женщин, одетых в черные платья, слышались всхлипывания. Саул на ходу переводил речь Отто Квасову и Бурлакову. Отто говорил о том, как тяжело умирать вдали от родины, но, словно утешая покойного, отметил, что для него Москва не была чужбиной.
– Чего уж тут!.. Дал дуба – значит, дал! – сказал Жора. – Фомин утоп, этого спалят на коксе...
Как и всегда на похоронах, кто-то один должен был отвечать за порядок. Этот о д и н обязан отрешиться от всего личного и заниматься похоронами, как любым д е л о м. Надо следить за тем, чтобы ничего не перепутали, чтобы выступили заранее намеченные лица, а не все, кому заблагорассудится; надо командовать оркестром, транспортом, выделить людей: кому нести венки, кому крышку гроба; подтолкнуть к гробу тех, кому назначено выносить; следить, чтобы не подвернулись случайные люди.
Распоряжаться похоронами Шрайбера «треугольник» уполномочил начальника снабжения и сбыта Стебловского. Он все организовал хорошо: первая часть церемонии прошла без заминки. Венки выносили лучшие ударники и немцы, гроб – дирекция, представитель объединения и близкие покойного. В крематории, как и условлено, должны были выступить Ожигалов, Парранский и Майер. Стебловский непрестанно докладывал Ломакину о ходе церемонии, сновал туда и сюда и, только когда процессия тронулась по улице, вытер лысину и облегченно вздохнул.
– Ужасные обязанности, Андрей Ильич, – сказал он ехавшему вместе с ним Парранскому. – Вы не можете себе представить, на какую мне пришлось натолкнуться стену. Чтобы добиться крематория... – И он стал рассказывать, как ему удалось сломать все рогатки, прорваться к тому-то и тому-то и устроить все без лишней потери времени.
Парранский, подавленный смертью Шрайбера, слушал Стебловского невнимательно. Он думал о своем сердце, которое пошаливало, и всякий раз, когда он уходил из дому, жена напоминала, чтобы он не забыл пузыречек с валидолом.
У ворот крематория Парранский вышел из своего «газика». Из другой машины вылез Ожигалов и тут же закурил, пряча папироску в кулак, быстро затягиваясь и выпуская дым через широкие ноздри. Мимо Парранского прошел Ломакин, говоривший заместителю начальника объединения о необходимости подыскать кандидата для замены Аскольда Васильевича Хитрово. Молодой вышестоящий начальник уже знал о Хитрово, считал его ничтожеством и советовал «гнать в шею как можно скорее». К чести Ломакина, он не соглашался с мнением вышестоящего начальника: «Нет, нет, в данном случае нельзя так поступать. Мы его проводим достойно. Мы не азиаты...»
Немцы приехали на автобусе и, сгрудившись в кучку, сговаривались о поминках в складчину. Вилли, которого Парранский хорошо знал как специалиста по спецстеклу, тут же принялся собирать деньги, занося цифры в записную книжечку. Немцы говорили о Мартине, осуждая его поведение, и вынесли решение не приглашать его на поминки, а если явится незваный – не допускать.
Парранский бывал в Германии, отлично знал немецкий язык, и ему поручили неприятную миссию – уволить Мартина. Сейчас Парранскому не хотелось думать о Мартине. Парранский знал и понимал Германию Шрайбера, но не знал и не понимал Германии Мартина. Не представляя еще себе будущих трагедий, Парранский не беспокоился о России, но ему было жалко Германию Шрайбера, ее чистые города, добродушных северных девушек и черноглазых саксонок, вересковые долины и березовые аллеи, немецких детей, женщин с неизменным вязаньем в руках.
Шествие двинулось к мрачному зданию из серого бетона, с широкой трубой, из которой в бесцветное небо поднимался дым. На лестнице толпились прилично одетые люди и, как на церковных папертях, стояли побирушки, протягивая свои ладони, собранные лодочкой. Впервые попав в крематорий, Парранский невольно попытался определить его пропускную способность и возможности дальнейших реконструкций. Эти мысли отвлекли его от драматизма минуты. Он вполне овладел собой и стал собираться с мыслями перед выступлением, которое ему было поручено и которого он немного побаивался.
Гроб поднесли к оборудованному широкому люку с двустворчатыми крышками, поднимавшимися и опускавшимися автоматически, и установили его на них.
Когда последние приготовления были закончены, Стебловский шепнул Ожигалову, и тот, покачивая плечами и держа кепку в руке, пошел к трибуне, напоминавшей церковный амвон. Парранский почувствовал обмирание сердца. Его пальцы испуганно пробежали по карманам, прежде чем он вспомнил, что валидол в брючном кармашке для часов. Парранский лихорадочно, боясь промедлить секунду, поднес пузырек ко рту. Только теперь слова Ожигалова дошли до него. Ожигалов с трибуны всегда говорил плохо. Он назвал покойного человеком, который «высоко нес знамя партии», и это как-то не подходило к Шрайберу – маленькому, суетливому старичку, любившему пиво и вышивания.
Когда пришла его очередь, Парранский сказал о том, что большинство людей в жизни – маленькие, скромные, незаметные; они не понимают толком своего значения и только в критические моменты раскрываются во всей своей сущности. Оценить по достоинству их можно только на расстоянии, отбросив мелочи и поняв главное. Шрайбер – сын истинной Германии, не той, которая сейчас марширует под стук барабанов.
Возможно, ему, беспартийному человеку, не место говорить здесь о политике, но перед ликом смерти ему захотелось сказать именно так, он не имеет права лгать или утаивать. Нередко его понимали превратно – возможно, он сам виноват в этом, а сейчас ему хочется говорить открыто, не стыдясь своих собственных чувств...
Николай Бурлаков вместе с Наташей стояли в толпе, почти у самых дверей. С волнением он слушал надгробное слово Парранского.
Шрайбер отдал жизнь за дело рабочего класса. Да и как могут рабочие поступать по-другому? Индустрия требует жертв и сознательности. Если заводы только чудовища, пожирающие здоровье, время, мозг человека, – зачем нужны такие жертвы? Если заводы помогают рождению пролетарской правды, заглушают бой фашистских барабанов, помогают уничтожить зло, погубившее Шрайбера, – тогда ничего не жалко: ни мозга, ни времени, ни здоровья.
Парранский говорил с рабочим классом и о рабочем классе.
Стебловский, работая локтями, пробрался к нему. Вытянув шею, внимательно слушал Парранского.
– Алексей Иванович, я его категорически предупреждал, – сказал он, оправдываясь.
– О чем? – Ломакин продолжал слушать Парранского.
– Затянул Андрей Ильич. Еще Майеру говорить намечено, а время поджимает.
Ломакин нагнулся к Стебловскому:
– Время подождет.
Стебловский только развел руками в крайнем изумлении. Человек дела, он не доверял словам и всякие речи считал пустяком, данью условности.
Парранский закончил тепло, бороденка его дергалась от волнения, пальцы дрожали, поправляя пенсне.
– Жаль, здесь не положено, а то похлопал бы Андрею Ильичу, – сказал Ломакин вышестоящему начальнику, которого брала досада на самого себя: он сознавал, что ему-то надгробное слово не удалось.
– Да, ничего сказал... – сдержанно похвалил он. – Теперь послушаем немца. – И добавил: – У нас даже похороны похожи на пленум Коминтерна...
Тихий, незлобивый Майер неожиданно распалился и со всей силой обрушился на Гитлера. Это имя в то время еще не получило зловещей известности, и Майер как бы приоткрыл завесу над смыслом событий, проходивших в Германии. Он называл убийц убийцами и требовал им кары. Его слова, произнесенные на ломаном русском языке, воспринимались как обнаженная правда. Это говорил человек оттуда, и ему нельзя было не верить.
– Надо было его предупредить, – вышестоящий начальник недовольно поморщился, – здесь же не митинг протеста. Необходимо помнить, что с Германией у нас дипломатические и торговые отношения...
К зданию крематория подъехал «паккард» с двумя рожками так называемых кокков – сигналов, устанавливаемых на правительственных машинах. Из «паккарда» выскочил человек в коверкотовом костюме и желтых полуботинках и, быстро взбежав по ступенькам, прошел в здание. Глазами он отыскал Ломакина и, по-хозяйски раздвигая толпу, подошел и передал ему пакет.
– От товарища Орджоникидзе.
Ломакин взял пакет, полагая, что это какое-то новое сверхзадание, и потому, вскрывая, не таился от своего начальника. Тот почтительно наклонился к пакету.
На трех бланках большого именного блокнота Орджоникидзе писал Шрайберу, как живому, своим крупным почерком.
– Товарищ Орджоникидзе очень сожалеет, что не может присутствовать лично... – сказал человек, прибывший с пакетом. – Он просил огласить свое письмо. – Поймав недоумевающий взгляд Ломакина, тут же объяснил: – Для нас это несколько необычно, но в Грузии пьют з а з д о р о в ь е даже покойных.
Ломакин кивнул и быстро направился к трибуне.
– «Дорогой товарищ Шрайбер! – писал нарком. – Я только что вернулся с Урала, где строят заводы социализма, и меня поразила тяжелая весть о Вашей безвременной кончине...»
Это были слова не для газеты, не для сборника речей, не для мемуаров воспоминателей. Нарком писал для немецкого пролетария, коммуниста, и для всех тех, кому нужно было услышать его интимное слово.
Стебловский махнул рукой, орган наполнил храмовый зал звуками Баха. Безупречно работавшие механизмы постепенно опустили гроб.
Пожалуй, только одна Марфинька не испытывала чувства скорби. Нельзя сказать, чтобы ее не волновали речи и траурные церемонии. Но Шрайбер был для нее человеком посторонним, старым, что также имело немалое значение, ибо люди для Марфиньки прежде всего делились на старых и молодых, и только потом брались в расчет их нравственные достоинства. Вся эта печальная обстановка обострила ее страх за Жору, за его судьбу.
– Жора, подойди к нему, – Она плечом подтолкнула Жору к брату, стоявшему возле стены с урнами, покоившими прах сожженных людей.
– Неудобно, – отнекивался Квасов.
– Почему неудобно? Не дури.
– Что я ему скажу?
– Все, что наболело...
– Не доктор же твой Колька, – попробовал отшутиться Квасов.
– Он друг, – упрямо повторила Марфинька. – Друг важнее доктора, важнее профессора. Ты с ним сейчас ни о чем и не говори... Только условься, когда зайти к нему. Зайдем вместе. Наташа сказала, что завтра они поедут в институт. Вот и договорись встретиться попозже, после института.
– Хорошо.
– Что хорошо? – упрямо настаивала Марфинька. – Будет хорошо, а сейчас плохо. Какого человека свалили!.. Сам Орджоникидзе его знал... А ты...
Марфинька добилась своего, и друзья условились о встрече. К Марфиньке подходили подруги, что-то спрашивали. Она никого не замечала, все они казались ей на одно лицо, и всем она отвечала одно и то же:
– Девочки, после. Не мешайте. Очень я занятая...
Жора принадлежал только ей и больше никому, она отвечала за него головой. И за свое счастье тоже...
На другой день после погребения Шрайбера Николай и Наташа поехали в Высшее техническое училище, куда были пересланы документы, ходатайство завода и характеристики. На доске объявлений Николай нашел свою фамилию. Он был допущен к экзаменам. В приемной комиссии, как и во всех подобного рода комиссиях, царила напряженная атмосфера. Но сегодня вместо строгой, неприветливой дамы за столом сидела миленькая полногрудая беляночка, завитая под барашка, что в те времена считалось образцом шика.
– Не волнуйтесь, товарищ, – успокоила она приятным голоском, – вы от станка. Это же превосходно! В вечерний! Тем более! Я бы на вашем месте, вместо того чтобы суетиться, пошла в кино...
В коридоре Наташа, которая все умела деликатно угадывать, разговаривала с товарищем из деканата. Моложавый юркий человек в рубашке с твердым воротником, с желтыми залысинами до самого темени, весело щебетал с понравившейся ему девушкой. Завидя Николая, он переменил тон, поправил галстук.
– Видите ли, я могу сказать одно: нам нужна жесткая арматура. Рабочая прослойка укрепляет напряженные конструкции.
В профессорской столовке, куда Николай и Наташа случайно забрели, им тоже улыбнулось счастье: не спрашивая продкарточек, им подали манную запеканку, политую клюквенным киселем, бурачно-фасолевый винегрет и две свежие булочки.
В самом хорошем настроении они доехали до Всесвятского. Будущий метрополитен открывался глубокой траншеей. Семьдесят тысяч комсомольцев Москвы дали обещание сделать лучшее в мире метро. Из отвалов вывозили мокрые грунты. Куцые грузовики рычали, как звери. А кругом: избы, пески, картофельные и капустные поля, на дикой земле – лебеда, кошачьи лапки и двухцветные иван-да-марьи.
Расставшись с Наташей, Николай смешался с оживленной толпой студентов, спешивших к общежитиям. Глядя на них, он с чувством какой-то легкой отрады говорил себе, что у него есть теперь свой угол, своя крыша, что ему не нужно никого просить, не нужно унижаться, все идет как надо.
И раньше шло как надо.
Не будь отзывчивого директора и боевого комсомола, ему, возможно, долго пришлось бы ждать своей очереди на жилье. Если бы Семен Семенович Стряпухин не узнал, что Лукерья Панкратьевна тревожится о своих правах, возможно, не так бы скоро выписали наряд на бревна и пиленый лес. Если бы Розалия Самойловна, врач их заводской поликлиники, не обследовала квартиры и не нашла опасности в соседстве с туберкулезной сестрой, дело с отдельным жильем тоже отодвинулось бы. Было много подобных «если бы». Но все они носили побочный характер. Самое главное было в другом: Николай и Наташа старались работать хорошо, и, значит, завод ценил их.
А начало всех начал? Если бы не Жора Квасов, не его письмо, не «о р к а» на конверте... Вчера Жора подошел к нему. Его слова: «Запутался я... А бежать? Ноги немые», встревожили не на шутку. В глазах – тоска и нерешительность. Все это так не похоже было на него. Просьба Марфиньки. Скрытое предупреждение Аделаиды. Сегодня Жора должен к нему прийти. Чего бы Жора ни потребовал, он может надеяться на Николая. Долг платежом красен.
Николай вспомнил, что нужно купить хлеба. Отрывая талон от карточки, приветливая продавщица сказала ему, что ходят слухи об отмене карточек. «Колхозники, пишут, лучше стали работать», – она указала на лежавшую на прилавке газету.
Потом Николай медленно шел по улице. На фоне сумеречного неба поднимались высокие, узкие корпуса студенческого городка. Светились бесчисленные окна. Городок возник словно по щучьему велению. Его заселили за трое суток. Теперь в корпусах, похожих на пчелиные соты, роились тысячи студентов.
Когда Николай добрался, наконец, домой, он встретил у ворот Ожигалова и своего отца. Отец не знал нового адреса. Его привел сюда Ожигалов. Они сидели на вынесенных Лукерьей Панкратьевной табуретках и разговаривали о колхозных делах. Отец, по укоренившемуся в селе обычаю, высказывался перед партийным человеком осторожно, ничего не хулил, больше поддакивал. Во двор он не вошел, чтобы не давать повода Ожигалову, этому, казалось, неплохому человеку, задержаться тут. Кто его знает, как посмотрит на это сын. За последние годы в Степане Бурлакове выработалась характерная черта – подозрительная осторожность.
– Ничего живем, ничего, – в который уже раз повторял он в ответ на настойчивые расспросы, – на бога и на власть не гневаемся. Урожай, правда, плох, рожь в солому пошла, полегла, косами брали, на валки упали дожди, проросла рожь, чисто падалица, щеткой в землю, не отдерешь. А так ничего... Травы много накосили, согрел ее, подсолил. Фунтов сто соли пришлось извести! Зато корм...
Степан подробно рассказал о своей корове.
Ожигалов поддразнивал хворостинкой собачонку, тщетно ожидавшую подачки.
Заметив сына, отец встал, поправил пиджак и подаренную им фуражку – алый верх, белый околыш, Николай обнял отца.
– Не звал, не ждал – сам приехал, – сказал отец, когда закончились объятия и обязательные при первой встрече расспросы.
– Хорошо, папа, спасибо. Проходите. – Николай посторонился, чтобы пропустить гостей. – Сейчас Наташа прибежит. В магазине она. Не знали мы...
– А я у тебя тоже впервые, – сказал Ожигалов. – Помогла тебе наша комса или только мешала?
– Помогли! Спасибо! – отвечал Николай. – Проходите. Табуретки я сам захвачу.
Отец подозрительно следил за Ожигаловым: в его представлении он был одним из разрушителей привычного, устойчивого быта. Партийный секретарь почему-то дважды вслух перечел список жильцов, вывешенный на черной железке под фасадным домовым фонарем, потом долго и весело рассматривал белых петушков, перья которых были перемечены красными и синими чернилами, расплывшимися от дождей. Петушки как петушки, сытые, новой породы, и чего над ними смеяться? Через решетку забора куценького огородика свисали крупные шляпки грызового подсолнуха, тоже помеченные цветными лоскутками.
Ожигалов посмеялся и над подсолнухами, покачал головой.
– В какой цвет своих петушков будешь красить, Колька?
:– Не буду, Ваня. Не думаю заводить петушков.
– А почему? – спросил отец. – И курятина будет, и свежее яйцо. Невелика с ними забота, руки не отсохнут.
Ожигалов перестал смеяться, выковырял из тронутого птицей подсолнуха несколько семечек и, пощелкивая ими, подошел к пристройке обветшавшего дома.
– Она? – спросил Ожигалов.
– Она.
– Что же, знатная штука... – Ожигалов остановился, заложил руки за спину.
Степану очень не понравилась насмешливость этого человека. Но когда сын стал хвалиться и восторгаться пристройкой и ощупывать вкусно пахнувшие смолой, недавно окоренные, законопаченные швами бревна, отец успокоился.
А как не полюбоваться на двери и рамы, окрашенные цинковыми белилами на натуральной олифе! Ступеньки скрипят, как нерасхоженные сапоги. Пол зацвечен искрасна-коричневой охрой. Сам охаживал каждую досточку, каждый шов. Утрами будильник еле-еле дозванивался до его слуха. Даже на заводе ему мерещились окошки, стены, баночки с красками, ящик с гвоздями.