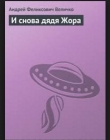Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Анна Петровна пешком дошла до Петровского парка. Вели проходку шахты для метро открытым способом. Анне Петровне пришлось перебираться через отвалы по дощатым мостикам, скудно освещенным лампами. Дома муж встретил ее с намыленными щеками, обычно он брился на ночь, чтобы утром поваляться лишнюю минутку в кровати.
– Принесли приклад на одеяло, – сказал он. – Вон сверток.
– Кто принес? Николай?
– Нет. Какой-то другой, незнакомый парень. Не назвался...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Николай готовился к переезду. До чего же скромно он выглядел как жених! Все его имущество легко уместилось в одном чемодане. Шинель и непромокаемый серый плащ, купленный по талону, можно перекинуть на руку. С регланом, дарованным Жорой, надо было расстаться, оставить ему также ботинки и зимнюю шапку.
– Зайдет Георгий, пусть заберет, – сказал он Насте, посвященной в его планы.
– Взял бы с собой, – посоветовала она. – Жора за ними не постоит. Да и обидится...
– Нет, Настенька, вы же знаете, как все у нас сложилось... Кроме того, попрошу передать ему деньги. Занимал у него в разное время.
Настенька пересчитала деньги.
– Все едино прогуляет. А тебе в самый бы раз.
– Передайте, Настенька, и скажите ему большое от меня спасибо. Он и плохой и хороший.
Расставаться с общежитием было нелегко. Привык и к дворику с шершавыми стволами лип, и к немцам, к их неслышному кропотливому быту, вежливости и предупредительности. Привык к ребятам, к семье Ожигаловых.
Фрида Майер поздравила Николая, подарила ему саксонскую чашку и шелковый платок для невесты и изъявила желание быть крестной матерью их будущего ребенка.
В цехе тоже узнали о женитьбе; отнеслись запросто: затея нехитрая. Кто-то заранее поздравлял, кто-то подтрунивал, а в общем, каждый был занят своими заботами. Фомин ходил мрачный, и с ним в такие минуты лучше не заговаривать. После случая с Квасовым Фомин изменился даже внешне: стал суше и строже, редко появлялась на его лице улыбка. Ожигалов почему-то откладывал его отчет на бюро, и это тоже нервировал Фомина.
Личные судьбы складывались как-то независимо о воли коллектива и помимо его участия, и даже «красные свадьбы», устраиваемые на таких заводах, как «АМО» и бывший «Дукс», все же только формально выражали заинтересованность коллектива. По-прежнему требовали план, и только план. Призывами пестрели стены. Все внимание было приковано к общественному труду; и в этом равнодушии общества к личной жизни людей была своя закономерность: техника по-прежнему решала все.
Но были родные в Удолине и Марфинька. Им, конечно, не безразлично. Полагалось бы спросить совета у родителей или хотя бы известить. Николай подумал и отказался от этой мысли. Если они приедут, то не одни, потянутся родственники. Селяне понимают толк в свадьбах, вот тут-то и осрамишься: не только накормить и напоить, посадить их некуда.
Сознавая, что поступает дурно, Николай все же решил ничего не писать родителям. А Марфинька? Третий день сестра на бюллетене: прихватила сверлом мякоть ладони. Рана была несерьезная, и Марфинька радовалась тому, что наконец-то может осмотреть Москву, побывать в парках и в Третьяковке. Там она долго стояла перед «Аленушкой» и «Неравным браком». Они ей понравились куда больше, чем казнь стрельцов и разные сражения и битвы.
Марфиньке хотелось повидать брата, ее тяготило чувство собственной вины перед ним. Сама она так и не сумела определить свою судьбу, плыла, как по течению, зажмурив глаза и стараясь ни о чем не думать, чтобы не было страшно. Встретилась она с братом будто случайно, подгадав час, когда он приходил в столовую пообедать перед ночной сменой. Она знала его любимый столик; за этим столиком она не раз обедала с братом и Жорой.
Николай, посадив возле себя Марфиньку, заказал два обеда по дополнительным, «ударным», талонам. По ним кормили лучше, давали мясо или рыбу.
– Я уже обедала, Коля.
– Еще раз пообедаешь. Ничего. Перебиваешься?
– Лучше стало. – И поспешила добавить: – Мама прислала картошечки. Хочешь, вам отделю?
– Спасибо, Марфинька. Только почему не мне, а вам?
Он с непроницаемым видом ожидал ее ответа. А она, просияв от того, что наконец-то он назвал ее по-прежнему Марфинькой, повторила с улыбкой:
– Вам. Я знаю все, Коля. Желаю вам счастья!..
Она потянулась и неловко поцеловала его в щеку.
– Ты ничего не писала домой? – спросил Николай.
Догадавшись, о чем он спрашивает, Марфинька ответила:
– Ничего.
Официантка сразу принесла щи, рагу и со стуком высыпала на стол алюминиевые ложки и вилки.
– Когда будете уходить, приборы бросьте в ящик.
Марфинька ела с аппетитом, и Николай заподозрил, не голодает ли она.
– Деньги-то есть? – спросил он будто невзначай.
– Немного, – Марфинька смутилась. – Домой часть посылаю... Обещала нашим, когда отпускали.
– На, возьми. – Он сунул ей в руку смятые в кармане рубли.
– Тебе самому надо. – Она отстранилась. – Свадьба.
– Не будет ее, Марфинька.
– Не будет?
– Свадьбы – в твоем представлении. «Журавля» не будем водить.
– А! И верно. Зачем? Лишь бы любовь... – Она не удержалась, уткнулась в забинтованную руку, спина ее вздрогнула.
Николаю до слез стало жаль сестру.
– Не надо, Марфинька... – сказал он, проглатывая комок, внезапно подкативший к горлу.
– Не каждому сразу счастье. – Она подняла свое милое, дорогое с детства лицо, растерянное и обиженное.
Сирена утробно завыла, призывая в цехи. Николай обнял сестру, прикоснулся губами к ее голове.
– Образуется... – Марфинька страдальчески закусила концы платка. – Не волнуйся за меня, Коля. Ты нашел... И я не потеряю... Нет...
Мысли о Марфиньке не оставляли его и по приходе в цех. Его сразу же вызвал сменный начальник цеха молодой инженер Костомаров и, внимательно приглядываясь, будто видел Николая впервые, поручил ему подняться в сборочный цех и выяснить характер предъявляемых претензий.
– Они упрекают нас, будто мы засылаем им некачественные детали и сборщикам приходится доделывать.
Сменный начальник вручил Николаю специальный жетон для допуска в засекреченный цех окончательной сборки. Николаю еще не приходилось бывать там.
Такое поручение было приятно, но вместе с тем он понимал: по-видимому, осторожный молодой инженер не хочет ссориться с Фоминым и посылает его. Фомин иногда сплавлял в цех сборки недостаточно отработанные детали: «А что вы хотите? Станки-то разболтанные. Не в аптеке на весах. А потом, гляди «синьку», видишь, какие допуски и припуски? Из рамок не выхожу». Чертежи предусматривали максимальные возможности для допусков и припусков, но в практике механической обработки рекомендовалось пользоваться минимальными, и тогда приборы не нуждались в дополнительной пригонке и могли частично идти по самодвижущейся ленте. Но конвейер работал с перебоями по вине механического цеха. Часть этих сведений сообщил Костомаров, основное было известно Николаю и раньше: не раз их упрекали сборщики. В общежитии это наболевший вопрос чуть ли не с криком обсуждался Саулом и Кучеренко, работавшими в сборочном цехе. Недавно назначенный Костомаров не случайно послал Бурлакова: это ему посоветовал Ожигалов.
– Вы только не подумайте, что мы перепроверяем, – почему-то решил предупредить Костомаров уже в последнюю минуту, когда были рассмотрены чертежи, составлен список предъявленных рекламаций и стеснительная девушка в очках, недавняя выпускница московского института, подытожила цифры. – Кстати, вы давно знаете товарища Ожигалова?
Бурлаков резко обернулся, покраснел.
– При чем тут товарищ Ожигалов?
– Нет, нет, в данном случае ни при чем... Но однажды он расспрашивал о вас. И я догадался, что вы с ним близко знакомы. – Костомаров посмотрел на кавалерийские штаны Николая, обшитые кожаными леями. – Вы не служили вместе с ним в армии?
– В армии? Нет. – И, решив огорошить инженера, сказал: – Я служил в армии с Квасовым. Вероятно, вы знаете его?
– Еще бы... Еще бы!..
Как бы то ни было, а задание необходимо выполнить безукоризненно. И, направляясь в сборочный цех, Николай возвращался мыслями к Марфиньке. Вот ему недосуг толком разобраться в жизни сестры, помочь ей, ему некогда подумать о родителях, вместо писем – куцые строчки на бланке денежного перевода. В последнее время и о переводах забыл... А вот механические существа – приборы – находятся под неусыпным наблюдением тысяч людей. Им отдается львиная доля сил, как физических, так и духовных. Из-за них тянут, закатывают выговоры, ради них произносятся речи, клятвы, обещания, ведется соревнование. И попробуй кто-нибудь забыть об этих всепожирающих чудовищах, казалось бы, бесстрастно мерцающих своими отшлифованными гранями! Ради них добывают золото, выписывают специалистов из-за границы, и те бросают насиженные места, расстаются с привычками, с родственниками и отправляются на чужбину создавать механизмы. Из-за них произошло несчастье со Шрайбером; и еще неизвестно, чем кончится неравный поединок честного старого немца с разразившейся бедой... Сколько событий свершается из-за приборов – это знает, быть может, только Гамаюн – железная вещая птица...
Ради приборов в сказочно короткие сроки отстроили новый корпус, и завод приобрел классическую форму буквы «П», о чем прежний владелец мог только мечтать. Из-за них на завод наезжают начальники разных ведомств на длинных черных машинах, и гражданские «ромбисты». Сам Тухачевский сопровождает военных приемщиков, и нарком Орджоникидзе, как стало известно из доклада директора, лично интересуется их заводом.
Лифт поднял Бурлакова на третий этаж. Часовой стоявший у окованных дверей, проверил жетон и нанизал его на металлический стержень.
– Разрешение только на линию два. – Он вручил ему другой жетон, с выбитой на нем двойкой, окрашенной голубым, и разрешил войти через небольшую дверь, врезанную в другую, более широкую, сделанную для провоза крупногабаритных грузов.
Слева, как только войдешь в цех, сверкает огнями застекленная конторка, а перед ней – площадка с вымытой до блеска метлахской плиткой. Линии сборки проектировались как конвейер, но пока собирали узлами. Детали перемещались на самодвижущейся резиновой ленте. Сборщики выстроились во всю глубину цеха. Вентиляторы с тонким шелестом нагнетали воздух по желтым трубам. То там, то здесь с привычным мелодичным шумом вступали часовые станочки.
– Ты, парень, к кому? – спросил проезжавший мимо него автокарщик и посмотрел на жетон. – Становись, довезу без билета.
Автокар покатил вдоль сборочных линий, где из груд бесформенного навала рождались точные приборы, матово поблескивающие шлифовкой отделки и фиолетовыми зрачками линз.
Все то, что добывалось в «грубых» цехах, в огне вагранок, в сухом жаре термопечей, под резцами, в грохоте, скрежете, чаде, сходилось сюда, и сотни челночно снующих рук придавали им цельные, изящные, внешне хрупкие формы.
Еще вначале, трогаясь на автокаре с места, Николай увидел за стеклами ярко освещенной изнутри конторки Парранского и Лачугина. Оба жестикулировали, стоя возле начальника сборочного цеха, бывшего мастера завода «Динамо»; не бросая производства, он закончил Высшее техническое училище имени Баумана. Формально ни Парранский, ни Лачугин не обязаны нести ночные вахты на заводе. Однако они тут и не считаются со временем. Если они работают в цехе ночью – значит, жертвуют интересами родных ради общих интересов. Ломакин сутками торчит на производстве или обегает нужные для завода учреждения – опять-таки за счет украденного у семьи времени. Может быть, в этом корень их кажущегося равнодушия к людям во имя производства?
– Парень, а парень, – окликнул его автокарщик, – вот вторая линия, слезай! А вон и твой мастер, плешивый.
– Не вижу плешивого, – сказал Николай.
– Станет он своей плешью гордиться! – Автокарщик взялся за рычаг. – Кепкой накрыл. Видишь, кепка с пуговкой?
– Вижу. Спасибо.
– Курить угостишь?
– Не курю.
– Зря я тебя подвозил!
Парень тронул тележку и медленно покатил, выискивая глазами, у кого бы разжиться табачком.
Николай не сразу подошел к мастеру. Он знал его в лицо, слышал на собраниях, всегда удивлялся точности его требований и какой-то внутренней ярости при наведении порядка. Фамилия его была Разгуляй. Он был избран в бюро партийной ячейки, и с его справедливыми, хотя и излишне резкими суждениями Ожигалов считался. Разгуляй нетерпимо относился к Фомину с его проделками, не скрывал своего отвращения к нему и уверял, что Фомин плохо кончит.
Это было неприятно. Фомин мог превратно истолковать неожиданное задание, порученное Николаю, – направиться в сборочный цех, и не к кому-нибудь, а именно к Разгуляю. Теперь придется защищать честь своего мундира и не очень-то поддаваться натиску Разгуляя.
Мастер, заметив Николая, издали поклонился ему и продолжал показывать сероглазому пареньку, как лучше контрить деталь узла, не нажимая и не царапая инструментом.
– Ты, Федор, бери ловкостью. Деды твои на медведя ходили, а тебе пришлось вишь с какой стрекозиной дело иметь. Кругом будто крылышки... На сборке ты должен стать индивидом, то есть определить свое лицо. Гляди сюда, вот как надо делать...
Следя за тем, как рабочий усваивает, Разгуляй спросил Николая:
– Почему сам Фомин погнушался? Новичков подсылает.
– Я сумею разобраться в ваших претензиях, – солидно заявил Николай. – Не имеет значения, новичок я или старичок. И не Фомин меня послал, а Костомаров, начальник смены..
– Костомаров? Молодой инженер? – спросил Разгуляй и снова показал пареньку, как надо правильней контрить. – Костомаров – надежная замена Фомину, если встанет такой вопрос.
Бурлаков решил промолчать: из слов мастера можно было понять, что бюро занимается Фоминым серьезно.
Вытерев руки о полу спецовки молодого рабочего, Разгуляй сказал Бурлакову своим сиплым от ранения горла голосом:
– Он уже знает, – имелся в виду паренек. – Ежели Разгуляй вытер ладони о спецовку – значит, все правильно и индивид может самостоятельно продолжать работу.
«Индивид» с улыбкой кивнул головой и таким же кивком простился с Бурлаковым. Мастер под руку увел Николая.
– Я ничего не буду тебе говорить, как тебя... Бурлаков? Ты можешь истолковать мои слова превратно, я фоминых не уважаю принципиально. Тебе, как рабочему, разъяснят сами рабочие...
Разгуляй и Бурлаков прошли почти всю линию, где сборка узлов проводилась возле самоподающей ленты, и остановились возле верстаков. На дубовых столах у обычных тисков слесари в синих спецовках собирали артиллерийские координаторы и бортовые прицелы. Узнав, откуда к ним пожаловал Николай, слесари обрушились на него с упреками:
– Вы переходящие знамена заполучаете, а мы за вас отдувайся!
– Минуточку. – Николай решил быть осторожным и не доверять наскокам в рабочей среде.
Раскрыл чертежи, вынул микрометр и взял в руки поданную ему для подтверждения деталь. Действительно, параллельные линейки координатора были не выдержаны в размерах, с заусеницами и без той чистоты отделки, которая требовалась по технологии.
– Каждое изделие, пойми, приходится собирать с пригонкой. От тисков не отходим, – объяснял один из слесарей, разумный сорокалетний мужчина с рыжими вьющимися волосами.
Николай встречал его в столовой, на общих собраниях; благодаря физической силе слесаря и отличному росту ему поручалось на демонстрациях нести тяжелое бархатное знамя завода.
– У вас там шашлыки на вертеле, а мы дерьмо на палочке получаем! – обозленно сказал другой слесарь, продолжая выколачивать муфточку из слишком тугого зазора.
Николай понимал, что не все обстоит так, как говорят эти люди. Были и независящие обстоятельства, и прежде всего неточность станков и плохие материалы. Контролеры в их цехе действительно давали поблажку и порой принимали изделия, как говорится, с прищуренными глазами. Когда все стекалось сюда, в цех окончательной сборки, погрешности становились видны как на ладони. Сборщики теряли темп, конвейер лихорадило, люди прорабатывали. А когда задерживалась сборка, то есть выход окончательной продукции, начинали трещать премии, сокращались кредиты, задерживалась зарплата, потому что в банке требовали документы с печатями военной приемки. Это были общие заботы и неприятности, волновавшие администрацию. Но в данном случае деньги у сборщиков отнимал механический цех, а ведь каждый рубль заранее был распределен в семье.
Прошло два часа, и картина полностью прояснилась. С помощью подошедших к Бурлакову Кучеренко и Саула удалось не только уяснить, но и стройно изложит характер претензий.
– Я догадываюсь, что тебе придется нелегко, оказал Саул. – Фомин расстарается, и вам с Костомаровым несдобровать. Поэтому давай-ка потехничней закрепим выводы, Коля.
Да, Саул уже умел технично закреплять выводы, и ему можно было только позавидовать. Он свободно обращался с логарифмической линейкой, быстро решал задачи и, судя по отношению к нему рабочих, был популярен в цехе.
– Это ты покажешь Костомарову. Он поймет... – сказал Саул, заканчивая расчеты. – Я вывел, правда сугубо приблизительно, среднюю наших потерь во времени из-за частичного брака поставляемых из механички деталей. Это отражается на ритме всего выпуска, а следовательно, и на плане завода. Понял теперь, к чему приводит неряшество?
– Видать, понял не больше половины, – сказал Кучеренко и зашагал к своему месту у ленты.
– Вторую половину я ему разъясню, – сказал Разгуляй; он вернулся из конторки, где ему пришлось выдержать атаки Парранского все по тому же поводу – невыполнение плана сборки. – Пойдем к выходу, Бурлаков. Спасибо, Саул! – Разгуляй снова взял Николая под руку и, проходя вместе с ним мимо верстаков и ленты второй линии, говорил ему хрипловато, иногда поднося пальцы к горлу: – Ты демонстрировал Первого мая по Красной площади, взывал к пролетарской солидарности против капитала. А в нашей стране, где мы сами взялись за гуж, эта самая солидарность выражается, друг мой сатиновый, в том, чтобы товарищей не подводить. Нельзя, как дурной петух: откукарекал – и ладно, а будет рассветать или нет, это его не касается. Производственный процесс – цепочка, каждый свое колечко шлифует и заклепывает. Не подсовывает корявое, с трещинкой... Если мы сами будем друг другу вредить, ни трест нас не рассудит, ни ВЦИК ничего не решит, Надо хранить в себе рабочую закваску, Бурлаков. Без нее хлеба не испечешь. Нынче мы повсюду строим заводы. Эшелонами гоним людей в Сибирь, в пустыни, в тайгу. Горы решили срыть, расплавить в металл, реки перегородить. Все своими руками решили сделать, от булавки до мотора...
– Сделаем? – не удержавшись, спросил Николай.
– А как же иначе? Должны! – И мастер щелчком ударил под козырек кепки так сильно, что она подскочила на голове. – Этак щелкнуть легко. Сделать куда трудней, а должны. – Его голос будто иссяк, дернулись мускулы на нервном, изможденном лице. – Сделаем, и булавки и моторы, если попутно создадим самого строителя. А так вроде бы и человек, а все ж, бывает, с гнильцой. Что же, вечно сухие сучья с него отпиливать, пломбы ему ставить? Вот потому не обожаю я вашего темного начальника Фомина. Гниет, а никто ни одного гнилого сучка отпилить не решается. Иди, грешу я нетерпимостью. От меня собственные дети шарахаются.
И Разгуляй, быстро сунув Николаю руку, направился к конторке, ослепительно сверкавшей своими оранжерейными стеклами.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Кассирша небрежно разбросала их деньги по ящичкам, прозвенела своим аппаратом и выбросила чек на стеклянную тарелку окошечка. Ее надтреснутый, поразительно равнодушный голос произнес заученное слово: «Следующий». Но даже угрюмые покупатели, столпившиеся у кассы, не могли омрачить радость Наташи и Николая; кровать отныне принадлежала им и как бы знаменовала начало их совместной жизни. Ему было приятно разыскивать извозчика, рядиться с ним, впервые чувствовать себя хозяином.
Ломовой сразу потребовал задаток. Это был всклокоченный угрюмый старик в резиновом фартуке и солдатских ботинках. Он торопил, ворчал, но вскоре неприкрытое счастье молодых людей заставило его размягчиться. На мокром полке́ отыскались рогожи и веревки. Возчик сам помог донести вещи.
Николай шел рядом с лошадью, стучавшей коваными копытами. До него доносились запахи конского пота и согревшейся шерсти: стоит прижмурить глаза – и сразу встает знойная степь, дурманно пахнущая чебрецом и полынью, мерный топот сотен копыт, коршуны над сизыми буграми, плоские пади и свинцовое мерцание солончаковых озер, похожих на кратерные отдушины заглохших вулканов.
Крутая улица вывела их на кольцевой бульвар. Лошадь пошла веселей. Театральные афиши напоминали дату: двенадцатое июня. Двенадцатого июня начиналась новая жизнь; пока без регистрации в загсе, так сговорились. В кармане галифе бутылочка портвейна величиной с гильзу малокалиберного снаряда.
За Белорусским вокзалом потянулись липы, воздух посвежел. Возчик вытащил хлеб, поел и закурил.
– Давай сядем, – предложил Николай Наташе. – Ты устала?
– Чуточку. – Она расстегнула пуговку на кофточке.
– Новая? Тебе очень идет.
– Да? – спросила она, довольная тем, что, наконец, он заметил ее обновку.
Они сидели на полке, болтали о пустяках, играли в ладошки. Потом подсчитывали столбы и деревья. «А скажи сразу, только, чур, не гляди, сколько в этом здании этажей?» – «Фабрика «Большевик». – «Ошибся, ошибся! Хочешь, давай в шалабан?» – «Шалабан? – спрашивал Николай. – Что это?» – «Тоже игра, – отвечала Наташа. – Один что-нибудь загадывает, а если другой не ответил – щелчок. Щелчок и есть шалабан». – «Хорошо, Наташа, – соглашался он, увлеченный ее оживлением. – Только я начинаю. Скажи, когда Ной ходил вверх головой?» Она задумалась: «А кто это Ной, Коля?»
Возчик обернулся, спросил через плечо:
– Дальше ехать? Не заиграли свой дом? Рядились-то до Петровской...
– Примерно до Петровской, – поправлял его Николай. – Я говорил – примерно.
– Примерно может быть в десять верст. – И старик по привычке понукал лошадь.
Под деревом, у самого шоссе, поджидали Квасов и Кучеренко. Они переминались с ноги на ногу, покуривали и говорили друг с другом о футболе, о штрафных ударах, о славных именах Старостиных и Сеглина. Квасов с умыслом затеял разговор о футболе, чтобы удержать возле себя куда-то спешившего Кучеренко. Возле Квасова на траве лежал наспех перевязанный узел с вещами, которые Бурлаков оставил Настеньке.
– Ты только, гляди, ничем их не обижай, – предупредил Кучеренко. – Отдай – и лады. Если не возьмет, не обижай... А то я вступлюсь, Жора. Учти...
Квасов только вздохнул.
– Реглан хороший, двусторонний драп. – Кучеренко нагнулся, пощупал материал. – Люди расходятся, а вещи остаются... Сильное пальто, Жора! Только немцы умеют творить такой драп.
– Перестань ты, Кучеренко, – остановил его Квасов. – Лучше научи, как подойти к ним. Может, ты сам передашь от моего имени?
– Нет уж, извини, Жора. Хватит того, что носили им твой подарок, приклад на одеяло. Возле академии милиционер придрался: думал, я спер где-нибудь. Притащил по адресу, а сестры Наташи дома нет. Вышел ее муж, обратно допрос: от кого и почему?
Квасов заставил его рассказать со всеми подробностями. Трюк с одеялом нравился ему самому; он гордился тонкостью, с какой обстряпал это дело. Ведь не так просто было выведать у Настеньки Ожигаловой, что старшая сестра Наташи собирается выстегать одеяло для молодых. Потом надо было достать сатин, вату, уговорить Кучеренко отнести и сохранить все в тайне. Успех этого предприятия в какой-то мере успокоил Квасова перед предстоящим свиданием.
Но, увидав медленно подъезжавших Николая и Наташу, Квасов заколебался. Стоило ли навязываться и мешать им? Не лучше ли убраться заблаговременно подобру-поздорову? Твердокаменный Кучеренко каким-то образом подметил колебания Квасова и сказал ему без всякой дипломатии:
– Брось, Жорка! И кой тебе ляд постоянно совать свою спицу в чужое колесо? Гибнешь ты, Жора, от своего характера!..
– А ты знаешь мой характер? – Квасов, нервно докуривая папироску, продолжал следить за приближавшейся подводой.
– Знаю твой характер. Добрый ты...
– Вот и ошибаешься, Кучеренко. Разбойник я в душе. Мне бы при Стеньке Разине жить! Опоздал родиться...
Полок поравнялся с ними. Блеснули в вечернем сумеречном свете никелированные шары кровати и темно-коричневая дубовая отделка стоек. Наташа что-то сказала Николаю: то ли просила его проехать мимо, то ли советовала поговорить с Квасовым. И Квасов решил действовать.
– Николай, разреши тебя на одну минуту?
– Хорошо. – Николай легко спрыгнул с полка, шепнул что-то Наташе и неторопливо подошел, подтянув сползавшие в гармошку голенища.
Ломовик проехал немного вперед и остановился.
Наташа сошла с подводы и смотрела на парней издали.
– Я слушаю, Жора. – Николай поздоровался за руку с Квасовым и с Кучеренко. Он старался держаться как можно безразличней.
– Не дорезывай ты меня, Коля, до становой жилы, – сказал Квасов полушутливо, чтобы побороть в себе робость: он чувствовал, что Наташа смотрит на него неприязненно. – Зачем ты вернул мне реглан и все прочее? Это же мой подарок. И шапка твоя. Ну, ладно, деньги пока оставим, найдем им ход, а это возьми, прошу. – Он поднял узел. – Нынче жарко, лето, а потом зима придет, Коля. В Москве до хурты недалеко...
– У меня шинель есть, ушанку куплю. До хурты еще далеко, еще много будет получек до хурты. – Он повторил это сближающее их слово: в тех местах, где они служили в армии, хуртой называлась метель, вьюга.
– Бери, Колька, – посоветовал Кучеренко, в душе осуждавший мелочные разногласия между друзьями. – Не обижай Жору. Тебе абы покобениться, а он переживает с мучениями...
Кучеренко смахнул пот с переносицы, криво улыбнулся,блеснув золотым зубом.
– Брошу на полок? – спросил Квасов.
– Бросай. – Николай почувствовал неловкость и раздражение на самого себя; но Наташа глазами одобрила его решение, и ему стало легче. – Ты не думай, Жора... Разве я забуду все твое?.. Много ты для меня сделал...
– Ладно, Колька, мы ж свои ребята, – растроганно произнес Квасов. – Так или не так, а желаю вам счастья! Падать в ноги не умею, характер не тот, а свою подлость к Наташе сразу осознал. Попроси ее, пусть не серчает на Жору Квасова. – И, глубоко вдохнув в легкие воздух, добавил: – Видать, это и есть то самое мое извинение... которого требовал Митька Фомин.
– Скажу ей... передам. – Николай подошел ближе и, чтобы не слышал Кучеренко, тихо попросил сдавленным голосом: – Марфиньку оставь в покое, Жора. Она же еще девочка... Зачем, Жора?..
Не угроза, а мольба прозвучала в последних словах, и это сильнее бранных слов подействовало на Квасова.
– Обещаю, – так же тихо сказал он. – Запомни одно, Коля: Марфинька мне дорога... Запутался я... как во сне... Тикать надо, а ноги немые...
Он пробормотал что-то еще и долго, стоя к Николаю спиной, умащивал свой узел. Потом, махнув на прощанье рукой и не оглядываясь, пошел и вскоре скрылся за темной листвой деревьев.
– Куда свертать? – спросил извозчик. – Шумлю вам, шумлю... Всего за один раз не переговорите, все впереди.
– Сюда, направо, – сказал Николай. – А что, не поехать ли нам до Ленинграда?
– За пятерик хотите весь свет околесить, – незлобиво бурчал возчик.
Пользуясь тем, что Николай зашагал возле него, он принялся рассказывать о своей свадьбе; на пир сошлись две деревни (невесту брал из соседней), пили и плясали; на третьи сутки подрались кольями, и завершилась свадьба тремя гробами и многими увечьями.
Воспоминания прекратились, когда колеса запрыгали по ссохшейся грязи на глухой улочке. Золотые шары, неприхотливые цветы оживляли своими высокими стеблями и пышными венцами темные стены ветхих домишек.
Лукерья Панкратьевна поджидала у калитки, сложив на груди уставшие руки и обмениваясь своими соображениями с соседкой, когда-то стройной белокурой девушкой, а ныне толстенной женщиной с пронзительным голосом и хитро поджатыми губами.
– Помоги им, Лукерья, – будто причитая, советовала соседка через всю улицу, чтобы соседи оценили ее доброту. – Кровь-то своя...
– Помогу, не оставлю, – так же громко отвечала Лукерья Панкратьевна, окидывая своими дальнозоркими старческими глазами все, что лежало на ломовом полке.
Когда возчик остановил битюга, она приветливо поздоровалась с молодыми и за руку с возчиком и сделала вид, что помогает развязывать веревки. А самой хотелось одного: пощупать обновы. Ей понравились кровать и два стула. На этажерку она только покосилась, не понимая ее назначения, а вешалку похвалила и сразу определила ей место: нужно прибить к внутренней стороне дверей, на время она заменит «гардероп».
– Комнату еще раз вымыли, – сообщила тетушка, – обои просохли. Потолок оклеили белой бумагой, стекло нашли, вставили. Лучше не надо! Анна одеяло привезла. Пуговки только не успела пришить к пододеяльнику.
Возчик помог внести и установить кровать. В комнатке сразу стало тесней. Вышедшая на порог вторая сестра, приятная застенчивая женщина, поздравила молодых, всплакнула на плече у Наташи.
– Ничего, это еще ничего. Не каждый так начинает, – сказала она и вытерла глаза.
– А что? – Возчик оглядывал комнату. – По Москве – рай! Считай, одна треть населения копошится в подвалах. Совет, что ли, дал?
– Нет. Собственный дом, – ответила сестра.
– Собственный надежней, только ремонт заест. У меня тоже хорома, полуподвал; сто тысяч каблуков за воскресный день насчитаешь. Будто по голове стукают мимо оконца. На восемь метров – семь душ.
– Спасибо, папаша. – Николай расплатился. – Вы нас выручили здорово. По-честному говорю: спасибо!
– Не пересох бы стаканец, жених. – Возчик смял кредитку в кулаке и с вожделением уставился на оттопыренный карман галифе. – Я чую. Налей-ка с устатку.
– Хорошо. – Николай вытащил бутылочку, взболтнул. – Гляди: ни мути, ни хлопьев. Три семерки марка, папаша. Вот чем бы открыть?
– Не старайся, не стану. Портвейн твой только для изжоги. Чудной ты, парень! А я думал... – Старик разочарованно отмахнулся. – По умственной, что ли, зарплате?
– Рабочий.
– Рабочий?.. – Старик удивленно поднял плечи. – Бывает... – И ушел.
Вскоре его лошадь протащила полок мимо раскрытого окна. Донесся разговор между тетушкой и той же толстой соседкой.
– Как Наташкин-то? – громко спрашивала та через улицу.
– Ну што сразу скажешь... – Лукерья Панкратьевна отвечала приглушенным голосом.
– Укоренится, гляди! Пай заберет.
– Поди ты, зачем так? Не знаешь его, а мелешь.
– Сразу не давай постоянную прописку. Не сдури!
– Поди ты!..
От обоев кисло пахло клейстером. Незабудки до самого потолка, дощатая стенка выгородки, обратная сторона русской печи.
Ходики отстукивали первые минуты жизни новой семьи. В сумраке светились шары на кровати, и из квартиры тетушки, куда убежала Наташа, доносились глухие голоса. Николай достал из своего чемодана полотенце, мыло и вышел в кухоньку умываться.