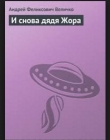Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Никуда не тянуло Квасова после завершающего воя сирены. Только к Ожигалову. Где беспартийный может получить ясный совет и встретить понимание? В партийной ячейке.
Туда изредка поманивало Квасова. Он был любопытен к людям и всегда ждал от них чего-нибудь необычного. Секретарем же был интересный человек. В библиотеке записывались на очередь за его книжкой «На фронт и на фронте». Книжку эту Квасов не читал. Ваня Ожигалов не чурался рабочей братии, любопытно рассказывал о гражданской войне и еще более красиво – про нынешнюю бескровную войну с мировым капитализмом, войну за экономическую независимость. По его словам, их завод при наличии хороших ребят мог сыграть не меньшую роль в этом сражении, чем конница Буденного под Касторной или полки Фрунзе на Сиваше. Красивые картины рисовал Ожигалов перед своими собеседниками – заслушаешься! А на собраниях говорил плохо, нудно, часто сбивался, глядел в бумажку и невыносимо страдал в подобных случаях.
Ожигалов только что отпустил начальника снабжения Стебловского. Когда Жора постучался в филенку, секретарь еще не остыл от забот – получался прорыв с материалами, необходимыми для важных серийных заказов.
Но не только черный прокат и цветные металлы волновали Ожигалова. Только сейчас, почти документально, Стебловский изложил пункт за пунктом историю окончательного падения Фомина. Стебловскому бюро поручило выяснить, есть ли доказательства взятки, и начальник снабжения добыл неопровержимые улики. Действительно, реглан был вручен Фомину дарственно, точно так же, к слову говоря, как сам Стебловский одаривал папиросами, водчонкой и небольшими подачками тех или иных д а т е л е й дефицитных материалов, даже по плановым нарядам добываемым с превеликим трудом.
Положение с Фоминым осложнялось еще и потому, что он был членом бюро, коммунистом с большим стажем, не говоря уже о боевом ордене и ветеранстве. Наказывать Фомина придется со всей строгостью – возможно, вплоть до исключения из партии. А дальше, что будет дальше, даже для самого Ожигалова было полной неизвестностью. Надо знать самоуверенного. Фомина, чтобы предвидеть неизбежность серьезных последствий. Ломакин в пылу откровенности поделился с Серокрылом о своих подозрениях. Бывший комбриг с яростью встретил эту новость. «Если вы ничего не докажете, хлопцы, и зря черните Дмитрия – берегитесь!.. – почти пригрозил Серокрыл. – А если факт подтвердится, то отдайте мне его, подлеца, я сам побеспокоюсь о его драгоценном здоровье...»
В момент этого острого разговора и вошел Квасов к секретарю партячейки. Ожигалов нашел в себе силу, чтобы не наброситься сразу на соучастника Фомина.
– Садись, цыган. – Ожигалов указал на сундук для хранения документов.
Ожигалов сидел за столом в затасканной кепке и просторной суконной рубахе морского покроя. Папироска с разжеванным мундштуком перекатывалась из одного угла рта в другой, виски не подстрижены, борода не побрита.
«Свой в досочку, Ваня, – подумал Квасов. – Такой же, как и мы, грешные, забулдыги. На руках наколки. Глаза хитрющие. Все понимает, ожги его душу!»
– Говори, Жора.
– А может, не буду?
– Врешь, будешь! Иначе бы тебя сюда на буксирном тросе не затащить...
– Ты, видать, все знаешь?
– Знаю.
– Откуда? Инструкции читаешь?
– Редко. Просматриваю. – Ожигалов прихлопнул его по коленке. – Там тоже попадаются интересные штуки.
– Интересные? Для кого?
– Для меня... Да и для таких, как ты, гавриков.
– Гавриков? – Жора кисло улыбнулся. – Если меня послали на стружку, так я уже и гаврик, по-твоему?
– В инструкции о тебе ни слова, Жора.
– Не удостоен?
– Вероятно. – Ожигалов подсунул ему мятую-премятую пачку папирос. – Куришь такие? Или только «Бальные»?
Квасов принялся разглядывать папироску, тонкую, как гвоздик; и со стороны могло показаться, что его, случайного посетителя, больше всего интересует, какими папиросами разрушает свои легкие секретарь ячейки.
– Ну, рассказывай. – Ожигалов добродушно вгляделся в Квасова. – Где поцарапали?
– Поцарапали? – Жора машинально пощупал руку повыше локтя, почувствовал легкую боль в забинтованной ране и поразился наблюдательности партийного секретаря. – Ты будто рентген, Ваня...
– Какой тут рентген? На, погляди! – Ожигалов вытащил из заднего брючного кармана зеркальце в форме ромба, протер его о рукав.
«Черт возьми! Действительно...» Жора заметил на своей щеке царапины. На них даже Марфинька не обратила внимания, а этот желтоглазый крючок сразу зацепил и занес в дефектную ведомость.
При солнечном свете, падавшем пучками через окно, выходившее на неоштукатуренную стену нового корпуса, события нынешней ночи представлялись сном. И значение их сейчас, при солнечном свете, не казалось уже таким опасным.
Пока все царапины души и тела принадлежали ему, и только ему одному. А раз так, то можно по-прежнему распоряжаться собой, как хочешь, и принимать меры по собственному усмотрению. Дай же всему огласку – зашевелятся, будто тараканы, бросятся, как на сахарный песок, и не найти тогда против них никакой самозащиты.
С женушкой и с ее «кузеном» можно не спеша справиться, а вот с такими, как Ваня Ожигалов, только свяжись... Для них нет ничего тайного, все немедленно вытащут на трибуну, в стенновки...
– Опять неурядицы с сожительницей? – Глаза секретаря утеряли доброту. Цвет их изменился.
Ожигалов отодвинул ногой стул, встал, короткий, широкий, как палаш, ссутулился и сжал кулаки – рабочие кулаки, ничего не скажешь. Не всегда учил уму-разуму других и не всю жизнь воевал, когда-то и «вкалывал» в цехе.
– Какая ты отвратительная личность, Квасов, – надсадно выдавил Ожигалов.
– Что? – Квасов медленно приподнялся. – Как ты смеешь?...
– Смею!
– Ты со своими так разговаривай! С теми, с кого взносы получаешь. А я тебя не содержу. У меня другое начальство...
Ожигалов прищурился так, что глаза скрылись в припухлых веках и морщинах, и стегнул, как арапником:
– Партия – руководящая сила, Квасов. С и л а... Партия – цвет Отечества. А с тобой я от имени твоего честно умершего отца говорю. От имени рабочей матери, рано сгоревшей в непосильных трудах. Ты дрянной человек, потому что пытался запакостить души твоих товарищей по заводу. Хотел столкнуть в ту же яму Николая. Но мы ему трап спустили в яму. Выбрался... Мы тебе нападение на Наташу простили. Она простила. А ты? Поганый ты, потому что тратишь себя понапрасну. Все тебе родители дали: физическую силу, красивое лицо, золотые руки. Не только хлеб жевать научили тебя. Ты в армию пошел профессиональным рабочим. Чудесные вещи ты мог делать своими руками, Жора! Но кто-то лишил тебя гордости.
– На гордость не знаю расценок, – пробормотал Квасов, в котором снова проснулся гонор.
– Расценки на все ищешь? Знаешь, видел я в музее деревянную дверь, на которой искусно были вырезаны всякие сюжеты. Мне сказали: мастер трудился над нею сорок лет и получил за это от барина пять гривен... Барина мы того не знаем, а мастера запомнили. Имя его занесено в историю наряду с фельдмаршалами и царями. Что нес в своем сердце тот мастер, русский простолюдин? Бога нес в своем сердце мастер! Не того, с иконы, с бородой клином, с хилыми ручками, а бога творчества, могучую силу народа. На удивление всем совершил мастер свое чудо. Не думал о пяти гривнах, Георгий Квасов, этот русский человек. И ты должен быть горд! Тебе, как и миллионам рабочих, поручили сразиться в бою с капитализмом. Мы обязаны развить бешеную энергию и сделать с в о и точные приборы, без них нет индустрии. Если бы мы не сделали с а м и приборов, которые испытывают металл на удар, на разрыв, на упругость, мы не смогли бы строить машин. Разве я должен объяснять тебе это, Квасов? Но нам нужно, чтобы наши самолеты чувствовали себя в воздухе, как в родной стихии, чтобы наши корабли хорошо управлялись, чтобы наши пушки безупречно стреляли. Где же твоя гордость? Что же, ты хочешь, чтобы мы всегда расплачивались с капиталистами за приборы нашими ценностями – вроде той самой резной двери, о которой я тебе говорил? Да, мы платим им нашими ценностями, а они хохочут над нами и надеются, что мы обанкротимся. Мы им бриллианты отдаем, которые гранили наши предки. Они предлагали купить у нас шапку Мономаха. Слышал про такой царский головной убор? Исаакиевский собор не прочь разъять на части и увезти из Ленинграда на своих кораблях. А Жора Квасов бузит, требует легких денег на шашлыки, на «Веревочку». Капиталистов ты и в глаза никогда не видел, к тебе они в квартиру не приходили (Жора вздрогнул), а ты с ними вроде заодно. Потому что ты постепенно превращаешься в... протоплазму.
Квасов с содроганием слушал этого взбалмошного человека в неизменной кепке и заношенной рубашке. Что для него «мелочи жизни»! Ему наплевать на то, что Жору Квасова унизили на цеховом собрании.
Ну, перевели на стружку – и перевели! Утвердит директор – и придется ворочать вилами. Квасов – пылинка. Дунули – и улетела. Никто не остановится, не поглядит вслед: шут с ней, с пылинкой! Все шагают дальше. Что-де этому, стойкому человеку до Квасова? А ведь вместе жили, хлеб-соль делили, иногда и рюмочку. В калошах ходит к умывальнику, иногда сам веник берет, тряпку, ведро и моет полы... Может ли его понять баловень судьбы Жора Квасов? Цыганки и те готовы распластаться перед ним, величают его – струны гудят, гитары стонут: «Ты ушла, и твои плечики сгинули в ночную тьму...» Ничем таким не может похвалиться этот небритый человечек в кепке. А вот подкашивает его под корень и вскрикнуть не дает от боли. Давит, гнетет. Не сбросить. П р а в д а кипит в нем, как в паровом котле. Какая силища!.. Бросил на лопатки и топчется на тебе, а ты лежишь, как в парной в бане. Невмоготу, а чувство такое, что стало легче, выходит из тебя какая-то дурь.
И вдруг вцепилось, как клещ, это самое слово... как его?.. протоплазма.
Нет, не клещ. Что-то липкое, скользкое, бесцветное. Вроде медузы. Протоплазма... Выроет же, чертов сын, такое словечко! Хорош, значит, ты, Жорик, красавчик.
Квасова раздирали противоречивые чувства. Он и себе был гадок, и Ожигалов раздражал его. Раздражал потому, что, казалось Жоре, именно такие люди лишают его права на самостоятельную мысль, мешают жить собственным умом, все время водят его на поводу, а сами ходят на ходулях. Квасов не желал быть шурупом или шестеренкой пусть даже безукоризненно работающей машины. Опека раздражала. Хотелось идти наперекор, пусть из озорства, из-за нежелания быть одинаковым со всеми.
Что он там говорил еще? Шапка Мономаха, которую хотят увезти за океан буржуи? Тут уж ничего не скажешь: шапку отдавать нельзя. О ней Жора знал по школе, учитель истории умел пробуждать восхищение и уважение к далекой старине. Исаакиевский собор не так волновал. Мало ли изуродовали церквей в Москве, сшибли кресты и купола, устроили в них овощехранилища, склады «Центроспирта», а в церкви, где, слыхал Жора, венчался Пушкин, открыли ремонт мотоциклов. Правда, это творили свои же руки, а теперь тянутся иностранцы со своими долларами. И вообще непорядок, если буржуи растащат наследие русского народа, как картошку с Тишинского рынка.
Ладно, может быть, Ваня Ожигалов и прав, есть и Жорина вина в том, что приходится отдавать иностранцам наши ценности. А вот о том, почему и зачем охотятся на Жору Квасова некие коржиковы, об этом сказать? Нет! А может быть, то был не Коржиков с его подлыми предложениями, а всего-навсего какой-нибудь старый хахаль Аделаиды, разыгравший комедию, чтобы отвадить его от своей любовницы? Поднимешь полк по тревоге, а врага нет. Одни насмешки и оскорбление личности.
Так и ушел Жора от Ожигалова, не сказав ему главного.
Встретился Николай, веселый и красивый. Поздоровался издали и, подхватив под руку выбежавшую Наташку, пошел с ней к трамвайной остановке.
Черт побери этого Кольку! И на заводе держится, как отделком заводской, устав знает назубок. Везет же обтекаемым людям! Заглянут в клеенчатую тетрадочку с наставлениями, пошепчут про себя – и урок готов!
Рассуждая так, Квасов сдал в проходной табельный жетон и, предъявив пропуск вахтеру, ушлому службисту с наганом на животе, направился вверх по улочке, поднимавшейся к площади, где неутомимо звонили трамваи, катились машины и фаэтоны, похожие на скрипки.
Мимо него проехал в машине Парранский – развалился на заднем сиденье с сознанием хорошо выполненного долга. Парранский, как только выходил за ворота завода, сразу же начинал отдыхать: у него была способность выключать себя из заводских интересов вплоть до завтрашнего гудка.
«Живут же люди! – со злостью подумал Квасов, провожая глазами автомобиль. – Знает он в тысячу раз больше меня. Почему же к нему не шляется гражданин Коржиков?»
Куда идти? Домой? Нет. К Марфиньке? Жалость, ласка, восхищения. К Николаю с повинной? Вот это можно. Не выгонит и не станет лезть с нравоучениями. Только сначала необходимо поднять градус собственной души.
В пивнушке дымно до щипоты в глазах и душно, как в паровозной трубе. Запахи пива, кислой капусты и сосисок мешались с запахом рабочей одежды.
Толстые, будто отлитые в опоках, кружки ходили по рукам; к ним прикасались благоговейно и умело, насыпали соли на ободок и поцелуйно приникали губами к пенно-миражному счастью, к блаженству, доступному каждому, кто швырнет монетки на мокрый поднос.
Пиво развязывало языки даже молчаливым мастерам, державшимся особняком, чтобы никто не заподозрил их в панибратстве или темных сделках. Фомин потягивал жидкость, шевелил разрубленной в атаке губой и разговаривал не столько языком, сколько глазами с нынешним «королем» литейки, усатым Гасловым. Казалось, они полностью отрешались от разноголосой компании своих соратников по производству, уже добрый час сидевших в этом подвальном храме полупьяных душевных излияний. Квасов знал, до чего несхожи эти два мастера по характеру и по отношению к жизни. Если один – огонь, то второй – вода. Никогда им не сговориться, выпей они хоть бочку жигулевского.
– Кружку пива и туда полтораста! – приказал Жора, облокотившись на стойку и не обращая никакого внимания на пышнобедрую шинкарку, которая при появлении Квасова облизнула свои яркие, не знающие помады губы.
– Может быть, не туда? – игриво спросила шинкарка.
– Туда... – повторил Жора, полузакрытыми глазами наблюдая за тем, чтобы его не обманули ни на одно деление градуированной мензурки. Знаем мы эти замашки толстой дуры! Жора ценит честность и ненавидит обман.
– Я вам прибавлю, Жора. Хотите?
– От нищих не принимаю. – Улыбка скользнула по его лицу и мгновенно превратилась в гримасу, внутри него вдруг все оборвалось: рядом, почти прикасаясь к нему, стоял Коржиков...
«Кузен» на виду у всей братии протягивал ему руку и щерил свои фарфоровые зубы. Никто не обращал внимания на этого незнакомца. Коржиков ничем не отличался от посетителей пивной. Молескиновая куртка, из кармашка торчит штангель, руки неотмытые, даже заусеницы у ногтей, дьявол его дери!
Он явно разыскивал его, Квасова, держа тот же нож за пазухой и те же подлые замыслы в голове.
Жора будто проглотил кусок льда, такой он почувствовал озноб.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Физиономия Коржикова с плоскими щеками казалась вырезанной из картона. Его глаза ехидно бегали, словно две змейки. Был он какой-то ненастоящий. Только дунь – и обратится в дым.
– Я так и рассчитывал, Георгий Иванович... – Глаза-змейки судорожно прищурились: вероятно, «кузен» пытался сдержать смех. – Если вы никому не пожаловались после первой нашей встречи, то, значит, провели день в добрых размышлениях... Разрешите вашу кружку?
Оборотень поворачивался. Видно было, как двигаются под курткой худые лопатки. Во рту, в глубине, блеснул золотой зуб, показались бледные десны.
– Это мой сообщник... – многозначительно бросил он шинкарке, пододвигая по мокрому прилавку стеклянные кружки. – Сообщник по пивному делу. У моего сообщника самый большой мочевой пузырь. Десять кружек ему нипочем...
– Что? – Квасов навалился на стойку локтями; весь он отяжелел. – Сообщник?..
– Мы ничего опасного для вас не потребуем. – Зуб блестел, потухал, слова трещали, как морзянка. – Вы сделаете нам услугу, подпишете письмо, назовем его статейкой. Вернее, вы ее завизируете. Некто перестал нам верить, требует формальностей. Вы, как я убежден, недовольны навязанным России строем. Вы – русский рабочий, и вам хотелось бы такого строя, при котором вы почувствовали бы себя хозяином жизни...
– Какого строя?
– Не будем заранее предугадывать, Жора. Вам нравится жигулевское? Еще кружку, дамочка! Детали оформят без нас... Рассчитываю, что вы окончательно решились. На стружке приварок плохой. Вот первый гонорар.
Кажется, его рука нырнула к Жоре в карман? Коржиков смаковал пиво, опускал в него губы, вдыхал ноздрями бражные ароматы – словом, вел себя, как и полагается в пивной.
Водка ударила Жоре в голову.
На прощанье Коржиков уже не совал ему свою хлипкую руку. Подняв заново наполненную кружку, он сказал, как показалось ошеломленному Квасову, мертвым голосом: «Свяжитесь со Шрайбером...» – и исчез, рассосался в табачном дыму, будто его и не было. А может быть, и в самом деле все померещилось? Квасов протер глаза и увидел шинкарку, перегнувшуюся к нему через стойку. Груди ее при наклоне полуобнажились, белый желобок между ними был потный, и в глубине его открылась красивая родинка.
– Жора, почему ваш товарищ так скоро ушел? Ему у нас не понравилось? И почему вы меня ни разу не пригласите куда-нибудь? У вас, говорят, такие интересные знакомые...
Не слушая ее, Квасов опустил руку в карман – под пальцами хрустнули плотные бумажки. Все произошло наяву...
Жора почувствовал, как вспотела спина. Колено его дрожало. Эту мерзкую дрожь никак не унять. Он хватил стакан водки и будто протрезвел. Гудение голосов в пивной, похожее на тугой гул басовой гитарной струны, распалось на отдельные пучки звуков, отчетливых до самых тонких модуляций.
Прежде всего: не обратил ли кто-нибудь внимания на Коржикова? Судя по всему, нет. Никто и не пытался присоединиться к тороватому Квасову, как это случалось раньше.
Шинкарка бросила в клетку конопляное семя. Канарейки жадно набросились на него.
Несколько студентов, зашедших промочить горло, завели спор о вреде политических дискуссий, размагничивающих массы. Потом они стали решать какую-то формулу, придуманную древним греческим математиком.
– Хотите, я вас угощу, Жора? – предлагала шинкарка, по-прежнему пытаясь заигрывать с ним. – Как ваше семейное счастье?
Квасов молча выпил еще стакан, кулаком вытер губы, расплатился и ушел.
В полной душевной растерянности шел он по улицам. За каждым окном горел огонь, везде в тесных комнатах и в квартирах жили люди.
Как он завидовал им!.. Все просто и честно. Тарелки, кастрюля с супом. Дети встречают: «Здравствуй, папочка!» Жена идет навстречу, вытирает о фартук мокрые руки, подставляет щеку. Что есть на столе или в шкафу, то и ладно. Выгадают на кино – тоже неплохо, маленькая радость. В получку жена приветит пол-литром – одно наслаждение! А если поругаются, то и то по-хорошему, без задних мыслей, без коржиковых...
Незаметно он очутился возле своего дома, постоял с минуту, нащупал папироску в кармане, сунул ее в рот и, не прикуривая, поднялся по лестнице. Только возле двери чиркнул спичкой, посветил: туда ли попал? Открыл дверь плоским ключом и тесным коридором пробрался к себе. Аделаида заканчивала прическу возле ярко освещенного зеркала. Кто-то из знакомых сказал, что ей идет пучок, и поэтому она носила пучок. По-видимому, она куда-то собиралась. В ручное зеркало с длинной ручкой она осматривала затылок, лениво и томно поворачивая красивую голову.
– Посмотри, хорошо у меня получилось?
«Ах ты, отрава! – не отвечая ей, негодовал Квасов. – Ей все нипочем! Загнала меня в бутылку и кривляется перед двумя зеркалами».
– Жора, – сказала Аделаида, – я не понимаю твоего поведения...
– Моего? – Жора насторожился.
– Кузен обижен на тебя. Ты, оказывается, первый хотел ударить его ножом.
Квасов будто завяз в глубоком кресле, в этом омерзительном кресле, куда проваливаешься почти до полу, мгновенно превращаясь в глупого и беспомощного пижона.
Чтобы не заорать, а того хуже, не бросить в Аделаиду чем-нибудь тяжелым, нужно стиснуть зубы. К безрассудному Квасову пришла хитрость.
– Ты хотел бы встретиться с ним? – Аделаида не ждала ответа: все сработано чисто, и можно не беспокоиться. – Встретиться нужно, Жорочка. И если тебя не затруднит, попроси у Шрайбера пропуск в Инснаб. Там, говорят, появились потрясающие штучки.
– У Шрайбера? – переспросил Жора, еле шевеля губами.
– Ну да... Ты чем-то взволнован?
Он ответил с трудом:
– У меня нет денег. Я еще не получил зарплату.
– Да?.. – протянула она весело. – Разве? А аванс?
Такой беззастенчиво прямой намек? Деньги оттягивали карман. Краска бросилась Жоре в лицо. К счастью, Аделаида ушла, бесшумно проскользнув мимо него.
Самые сложные положения разрешаются порой внезапно. В сердце Квасова уже не оставалось места для сожалений или страха. Надо бежать, и как можно скорей! Каждую минуту может появиться Коржиков, пусть тогда пеняет на себя. Пусть потом разбираются легаши, потеют судьи и прокуроры...
В коридоре стукнуло. Возможно, дверь. Послышались шаги. Берегись, Коржиков!.. Предвкушая скорую расплату, Квасов напихал в немецкий чемодан свои вещички, которые подвернулись под руку, щелкнул латунными замочками и натянул на лоб кепку.
Шаги затихли возле двери.
Конечно, это Коржиков. Сводница ускользнула, а он прибыл для дальнейших указаний. Ладно! Не на того напали! Вы еще не знаете Жорика Квасова!..
Макинтош на вешалке. Вряд ли стоит жертвовать таким макинтошем. Да и пригодится в случае драки. Жора со всей силой ударил ногой в дверь и выскочил в коридор. Послышался вялый крик, падение тела и грохот слетевшего с гвоздя корыта. Только бы не упустить момент! Враг изворотлив и коварен. Жора бросился на сшибленного дверью человека, навалился на него и принялся скручивать ему руки.
– Георгий Иванович, простите... умоляю богом... больше не буду...
Старческий голос, дрожащий от смертельного испуга, сразу отрезвил разъяренного Квасова Его пальцы разжались. Мускулы мгновенно ослабли. Перед ним чуть ли не при последнем издыхании, по-тараканьи подняв все четыре конечности, лежал старикашка папиросник в кальсонах и халате, распахнутом на тощей груди.
Квасов поднялся, провел ладонью по глазам, словно сгоняя одурь. Только на один миг свело судорогой его губы. Он перебросил макинтош на левую руку, взял чемодан и медленно, тяжелыми шагами вышел на лестничную площадку.
Постоял там, отдышался. Через окно, зарешеченное, как в тюрьме, с вышибленными стеклами, пахнуло уличным ветром. Черное небо открыло перед ним свои ювелирно отработанные сокровища. «Эх вы, звездочки!.. – ласково подумал Жора. – Что-то давненько вы мне не подмигивали...»
На улице нетрудно сойти за приезжего, мало ли честного пролетарско-крестьянского люда ныне валом валит в Белокаменную?
Прикинувшись простачком, Квасов легко покорил сердце таксомоторщика.
– Счетчик скинем, – сказал шофер, когда последние фонари остались позади и машина окунулась в первобытный мрак шоссе.
Проносились темные махровые деревья, овеивавшие запахом листвы. Квасов с благодарностью принял эту ласку забытой им в городской сутолоке природы.
Все острее воспринимал он события последних дней. Был Квасов себялюб, но обладал редкой способностью трезво себя оценивать. Ничто, даже отсылка на стружку, не может перекрыть кошмарного Коржикова. Его иудины деньги прожигают карман пиджака. Жора снова ощутил противный чесоточный зуд во всем теле. Утробный голос санитарной машины, обогнавшей их, заставил его вздрогнуть. Зловещие, красные, как у рыщущего хищника, фонарики не скоро потерялись в далеком темном пространстве.
Шофер, остролицый и остроносый, похожий на птицу, пустил машину быстрее на безлюдном шоссе. Мелькали черные стволы деревьев и белые стволы фонарей. Шофер принялся читать стихи, незнакомые Квасову:
Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Париже?
. . . . . . . . . .
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошади́х
в моих
четырех цилиндрах.
– Что это? – без интереса спросил Жора. – Шоферский гимн?
– Маяковский. Знаешь?
– Знать не знаю, а слыхал. Выходит, у него была своя машина?
– Была!
– Свои разве есть машины? Разрешены?
– Кое-кому – да. Ему разрешили...
– А дальше как? – спросил Квасов. – Знаешь?
– А то не знаю! – Шофер засмеялся и, быстро обойдя конный обоз, продолжал читать в том же темпе:
Напрасно завистники злятся,
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару, —
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Последние строчки вошли в мозг, словно разряды электрического тока. И вдруг шофер спросил, полуобернувшись к Жоре:
– Будет война, пролетариат?
– Откуда знаешь? Может, я деревня?
– Запах не тот. Металлист?
– Металлист.
– Машины строишь?
– Иди ты!.. – Квасов во всем видел подвох. – Какое твое собачье дело?
– Не сердись. Будет война или нет?
– Будет!
Водитель даже притормозил.
– Почему так решил?
– Если вот такими останемся... будет! – Квасов выругался, не пощадив и самого себя. – Куда ты? Заверни возле дворца. Влево, потом прямо.
Обостренная подозрительность заставила Квасова остановить машину не возле общежития, а не доезжая его, напротив деревянного продмага с тускло освещенными витринами, украшенными пыльным фанерным окороком и фальшивой колбасой.
Щедрые чаевые заставили встрепенуться лирически настроенного водителя.
– Разрешите, помогу?
– Сам донесу. Езжай!
Квасов не тронулся с места, пока шофер разворачивался, подавал назад и почему-то медлил. Кто-то уверял: каждый таксомоторщик – агент. Нелепые россказни ожили в Квасове. Конечно, дома иностранных специалистов не могут оставаться без присмотра. Шрайбер и Коржиков – все слилось в мутном сознании Жоры, раздвоилось, как в неверном фокусе фотоаппарата...
Кирпичные столбы отбрасывали на неровный тротуар тяжелые тени. Четыре липы под фасадными окнами глухо переговаривались своими верхушками. В палисаднике, несмотря на поздний час, еще возились дети. Жора узнал ожигаловских и немецких детей. Немецких было трое, таких же неугомонных и крикливых, как и русские их товарищи по играм и проказам. «Вот эти уже не должны воевать между собой», – подумал Жора, лаская бросившихся к нему детей и тщетно выискивая в своих карманах какую-нибудь завалявшуюся конфетку.
Конфетки не было, а раньше ведь он никогда не забывал святого правила – одаривать детишек лакомством. Пришлось позволить им проехаться по своей спине, скатиться, как с горки, строго соблюдая очередь. Поиграв с детишками, Жора прошел в свое бывшее холостяцкое жилище, с которым были связаны самые лучшие воспоминания. Квасову казалось, что Коржиков отшвырнул его куда-то далеко назад, как сазана, выхваченного крючком из воды и брошенного на горячий песок; только жабрами захлопал – и о наживке забыл...
Чемодан и макинтош не произвели никакого впечатления на Саула, зудевшего, как шмель, над какими-то брошюрами.
– Неудача? Снова возврат в родные пенаты? – просто спросил Саул и шутливо козырнул: – Поздравляю!
– Поздравляешь с неудачей? – Жора хмуро опустился на койку и удивился: – Новая койка? Пикейное одеяло? Ишь вы!
– Твоя неудача – признак протрезвления мысли, – сказал Саул.
– Из этой серой падалицы выудил? – Квасов ткнул в брошюры, от одного внешнего вида которых веяло скукой.
– А ты недозрелый плод? Не падаешь? Безобидный вопрос, заданный в обычной для них полемической форме, заставил Квасова вздрогнуть.
– Иди ты, Саул!.. Можно мне к вам на привал?
– Не прогоним. Только на кухню не заглядывайся. Целиком и полностью передана Настеньке.
Проходя по улице, он заметил, что у Шрайбера горел свет. А может быть, там оборотень? Сидит в уголке, подхихикивает, приготовил «вечное перышко».
– У Насти родился, – сообщил Саул. – Мы окружили ее товарищеским вниманием. Если заметил – койки новые.
Саул отбросил обеими руками густые волосы со лба и, прищурившись, улыбнулся. Его вибрирующий на низких нотах голос был спокоен. Перед такими, как Саул, открыты все горизонты.
– О чем ты думаешь, Саул? – спросил Жора.
– О главном спрашиваешь? Так, что ли?
– Такие, как ты, всегда думают только о главном.
– Скажу... – Саул опустил плечи, и глаза его стали строгими. – Я думаю о немецком фашизме. Германии плохо.
– Кому?
– Германии плохо, – думая свое, ответил Саул.
– Бьют евреев?
Саул вскинул глаза. Вокруг его резко очерченных губ обозначились складки.
– С евреев начинали. А потом... Евреи – пристрелочная цель для удара по демократии. Погром цивилизации начинается с погрома евреев... Ты знаешь Мартина. Это полностью неандертальский человек. Вчера он наговорил мне гадостей. Лишь потому, что я – еврей Саул.
– Мартин? На тебя, нашего хлопца? – Жора накалился. – Заявился, гад, к нам, в Россию, и...
Саул горько улыбнулся.
– Вероятно, он считает меня недостойным России.
– Я ему печень вырву!.. – погрозился Жора. Он ценил и уважал Саула со всей искренностью своей широкой натуры.
– Нельзя. – Саул благодарно притронулся к его руке. – Пока они передают нам свой опыт, свои знания, их волей-неволей приходится терпеть.
– Терпеть таких?!
– Представь себе, надо их терпеть. Александр Невский, являясь на поклон к татарскому хану, прыгал через костры. А потом? Махнул направо, махнул налево – и покатился хан под откос! Иногда приходится и нам прыгать через костры.
– Ты прыгай, а я не стану!
Квасов встал. Он был исполнен решимости. Мартин возник перед его глазами во всем своем отвратительном естестве, и Жора не находил для него снисхождения. Шрайбер – тот манил своей загадочностью, и смутное чувство возможной ошибки раздваивало Жору. Не мог он примириться с тем, что Шрайбер предатель. Это никак не укладывалось в его сознании. Он выбежал из комнаты. Квасов слышал, как стучит его сердце. И виной тому не крутая лестница, по которой он взлетел одним духом.
На площадке остановился, прислонился к перилам. К Майерам сначала или к Шрайберу? Надо подумать. У Майеров его ждали харч и внимание, у Шрайбера – неизвестность. Выбор был сделан. Квасов толкнул дверь в квартиру Шрайбера и сразу увидел его в самой мирной позе, за пяльцами. На фоне золотисто-голубоватого неба цвел вереск в долине. Купами стояли низкие хвойные деревья, похожие на тую. Домик под черепицей. Тропа к реке.