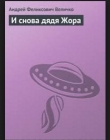Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Вот здесь станет кровать, здесь стол, этажерка, а может, буфет. Все вымерено рулеткой до сантиметра.
– Теперь прошу в нашу прежнюю комнату. Переберемся в пристройку, а комнату отдадим.
– Это кому же? – спросил отец.
– Сестре.
– Сестре? – переспросил отец. – Богато дарите.
Николай промолчал.
– Тут много разных тонкостей, – пояснил Ожигалов. – Не будем их обсуждать. Только, Коля, не очень гордись.
– Чем?
– Собственностью.
– А почему бы нет? – строго спросил отец. – Свое есть свое.
– Построил хибару – захочет корову, – миролюбиво сказал Ожигалов.
– Только не корову. – Николай мельком взглянул на отца. – Тетка дает закуту в сарае для козы. Вот и свое молоко будет!
– И пух, – поддержал отец. – Довелось мне в тридцатом ездить в Поворино. Может, слыхали?
– Знаю, воевал и в тамошних местах, – сообщил Ожигалов. – Ну и что там, в Поворине?
– Вокруг Поворина в селах держат коз особых, для пуха. Бабы платки вяжут из пуха – и к поездам. Земля там, как кирпич, ничего не дает, налогами задушили. Платками и кормятся люди. Живая копейка идет с козы.
– Ишь ты, какая, оказывается, коммерция, – Ожигалов улыбнулся, – а я и не знал!
– Знал бы, козу завел, Ваня? – пошутил Николай.
– А что ты думаешь...
– Завел бы козу... – Отец махнул рукой с нескрываемым пренебрежением. – Вывести вы мастаки, а завести?
Старый крестьянин по-прежнему был недоволен этим партийным человеком. Такие советчики и насмешники только и умеют, что дергать вожжами то туда, то сюда. Степану не нравились намеки на вредность с в о е г о. В каждой направляющей бумаге, приходившей в село, в той или иной форме нападали на эту самую в р е д н о с т ь с в о е г о, будто бы способного загубить революцию. Практически Степан Бурлаков никак не мог добраться до смысла этой пагубной в р е д н о с т и. Ежели крестьяне получают продукты для себя со с в о е й коровенки, какая же тут вредность? Крестьянин член государства аль не член? Не стань он к хлебу, кто ему даст? Артель? Когда-нибудь, может, и созреет артель, а ныне вся скотина передохла в артели. Сапожник Михеев, вместо того чтобы самому стать с косой, тачает сапоги, носит на базар и покрикивает. При чем тут коза, петушок или корова? Да неужто корова сможет забодать революцию? Если революция сильная – а она сильная, ее пушками не взяли! – тогда почему ей страшна корова? Или овца? Неужто ее перекукарекает петушок? Если революция настолько ослабела, то все нужно решать по-другому, а не отпиливать рога коровенке.
С такими нудными и темными представлениями и существовал Степан Бурлаков, и никто ни разу ничего не разъяснил ему, неграмотному и заблудшему.
В то время когда колхозный крестьянин и секретарь партийной ячейки вели нескладную и несогласную беседу, Николай Бурлаков, посильно выполняя долг гостеприимства, взял в руки шинель и ушел из дому. Эта шинель перекочевала в руки старьевщика, инвалида первой мировой войны, продувного мужчины, «выручавшего» окраинный люд в критическую минуту. Будучи человеком опытным в определении психологического состояния своих клиентов, инвалид первой мировой войны оценил шинель не столько по ее качеству, сколько по явной нетерпеливости ее владельца. Двадцатка – невелик капитал, но можно купить водки, а к ней ливерной колбасы и азовской тюльки. В последний раз перед бывшим кавалеристом мелькнули петлицы, шикарные отвороты рукавов на темно-синей подкладке, латунные пуговки на разрезе.
Вернувшись с двумя бутылками водки и снедью, Николай застал умилительную картину. Отец, Ожигалов и Лукерья Панкратьевна с азартом резались в «подкидного дурака». Затея Ожигалова удалась на славу: была сломана стена взаимного недоверия и подозрительности. Отец всегда был страстным игроком, да и тетушка разошлась. Ожигалов лукаво подмигнул остановившемуся в дверях Николаю и яростно покрыл подброшенных ему жирных королей такими же засаленными тузами.
– Заходи, Коля, четвертым будешь, – пригласил Ожигалов. – Давайте пара на пару.
– Отлично, – согласился Николай и, сунув на подоконник две бутылки водки и сверток со снедью, присел на кровать. – Пока Наташа придет, поиграем, а потом сообразим по рюмахе.
Отец веером раскинул карты в руке, вздохнул всей грудью.
– Оставим мы их дураками, Колька. У меня шестерка. Наш ход.
Азарт все-таки упал. Игра закончилась вяло. Лукерья Панкратьевна пересчитала карты, собрала колоду и ушла в пристройку готовить ужин.
Отец сказал:
– Любую вещь можно засунуть в бутылку. Гляди, секретарь, вот и спряталась шинелька. Прогуляете вы свое светлое царство. Легко у вас живется.
– Не так легко, как со стороны кажется, – миролюбиво сказал Ожигалов. – Кабы легко...
– Понимаю. Трудности?
– Трудностей немало, – согласился Ожигалов.
– Как начались они с первого залпа «Авроры», так до сей поры и не кончаются. – Отец гнул свое. – На каждом шагу ждите их, этих самых трудностей. А шинель ты зря спустил, Колька.
– Отслужила она свое, папа. Висела музейно, будто кафтан Петра Великого. – Николай показал драповый реглан, дарованный Жорой. – Вот теперь какая штука служить мне будет. Двусторонний немецкий материал, драп. Штука хорошая.
– Теплое сукно. – Отец пощупал реглан негнущимися пальцами. – Больше ничего на зиму?
– Зачем еще?
– Ясно. За скотом не ходить, навоз не возить, – согласился отец. – В трамвае – крыша, на заводе – тоже. Нигде не дует... – И вышел недовольный.
В комнату через открытое окошко летела мошкара, хороводно кружилась вокруг лампочки. На улице бренчала гитара. Незрелые, ломкие голоса пели бытовавшую тогда песенку, занесенную джазом Утесова: «Гоп со смыком».
Закурив, Ожигалов подошел к окну и вслушивался в песенку с выражением не то страдания, не то неловкости.
– Ты что это не в своей тарелке, Ваня? – спросил Николай, предполагая, что виной – отец. – На него не обижайся, ему трудно угодить. Все старики ворчат. В душе-то он все понимает правильно.
Ожигалов повернулся к Николаю, лицо его построжело.
– Хочу попросить тебя, Николай, об одной услуге.
– Пожалуйста...
– Услуга такая. Сегодня у тебя будет Квасов...
– Откуда ты знаешь? – удивился Николай.
– Прибегала ко мне Марфа...
– Понятно.
– Итак, проясни с Жорой всю обстановку. Он хочет тебе открыться. Нас либо стесняется, либо, верней всего, не доверяет. – Ожигалов смял окурок. Лиловый якорек на левой кисти руки, казалось, шевелился. – Учти: если прицепятся со стороны, Жорке не отбелиться.
– Я ничего пока не знаю. У тебя тоже одни намеки, Ваня...
– Надо доискаться истины и помочь. – Ожигалов говорил веско, без обычной усмешки. – Тебе в партию вступать. Зачислим это как первое партийное поручение. Человека надо выручить... – Он поднялся, подал руку.
– Хорошо. – Николай задержал его руку в своей. – А может быть, останешься?
– Прогуливать светлое царство? – Ожигалов натянул кепку на голову. – Кстати... Недавно в «Веревочке» Квасов познакомился с одним гражданином. Напомни: гражданин в косоворотке. Скажи Квасову: неплохой человек. Загадки? Опять-таки Марфа узнала. Она с этим человеком встретилась, он ей свой телефон дал. Вот они и встретились. Хороший и нужный человек. Ну, прощай. Наталье – пламенный привет от всего моего многогранного семейства...
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Отец будто только и ждал ухода Ожигалова. Внимательно осмотрев в сопровождении Лукерьи Панкратьевны весь дом и двор, он вернулся в комнату и присел на стул спиной к двери.
– Не знаю, как у тебя на работе, – начал отец, глядя не на сына, а на гирьки ходиков, бросивших на стену резкие подрагивающие тени, – а тут... От чего ушел, к тому и пришел. Только разве труба повыше и дыма поболе. – Он откашлялся, вытер ладонью бороду. – И родня такая же малокультурная, необразованная. А пища... – Старик уныло качнул головой. – Жалко мне вас. Что там купил за шинель, кроме водки? Ливер и тюльку?
– Учиться начну, – сказал Николай, продолжая думать о поручении Ожигалова.
– Поступил уже?
– Поступаю. Выучусь, буду инженером.
– Инженером? – переспросил отец, всматриваясь в сына. – Поблек ты, Коля. Матерь пугать не стану, а не тот стал, кем был. С армии вернулся молодцом. А тут и с лица привял, и...
– В армии жил без забот. Да и здесь пища хорошая, всегда вовремя, ровная...
– Пища? Вот эту «жуй-плюй» пищей называешь? – Отец ткнул пальцем в рыбешку. – Инженер! Помню, когда отводку тянули, заезжал в село инженер, начальник дистанции. Кучер у него. Фаэтон. Длинный пинжак. Фуражка с кокардой. Вечером заехал, а брит. Видать, два раза в сутки брился.
Николай сконфуженно провел по щетине, затянувшей его подбородок и щеки.
– Извини, замотался.
– Я не к тому. – Отец стал добрее и как-то ближе. – Если уж ушел, так ушел! Было бы за что... О селе не думай. Власть правильно сочинила: земля обчая, скот и так далее. Теперь уходить не жалко. Раньше бы за межник свой уцепился, а теперь что Михеев, что Сидоров на земле – разницы нету... Мы с матерью вдвоем остались. Тоже, кроме подпола да коровенки, все чужое...
– Хуже стало в артели?
– Почему хуже? В обчем, не жалко. И не жалей. Начал тут корневиться, держись...
Наконец вернулась Наташа. Она успела навестить сестру, Анну Петровну, привезла от нее кое-какие продукты. Наташа весело и приветливо поздоровалась с отцом. Глаза ее, веселые, искристые, говорили лучше слов. Сближение между чужими людьми, вступившими в родственные отношения, не всегда проходит искренне. Но оно легко давалось Наташе. Она любила людей и верила хорошему в них, не выискивала дурного. Ей и сейчас хотелось сделать приятное мужу и не обидеть его отца. Но, узнав о шинели, она расстроилась: «Зачем, Коля? Я бы все достала сама и без этого...» Ей были дороги воспоминания, связанные с шинелью, первые робкие встречи с Николаем. Какой-то кусочек прошлого откололся вместе с этой шинелью, перекочевал в чужие руки.
Степан Бурлаков наблюдал за невесткой сначала с любопытством, а потом со скрытой нежностью. В памяти воскресла картина метельной столицы, девушка, бросившаяся поддержать старуху; лицо девушки запомнилось ярко, на всю жизнь. Неужто это была Наташа?.. Отец не хотел спрашивать. В конце концов неважно, она или не она. Но именно такая могла это сделать.
Наташе хотелось понять, осмыслить интересы отца Николая, пока такие для нее далекие. Она не совсем понимала, с кем спорит отец. Он заставил ее сесть рядом и слушать его рассуждения о том, что значит свое и что не свое, общее, государственное.
Была революция, да, была, развивал свои мысли Степан Бурлаков, объявили крестьянам вольную землю, дали во владение помещичью усадьбу, скот помещика и его земледельческие машины. Пошло дело вроде ничего. На своей земле. Но на этом государство не остановилось. Собрали в один кошель все: и землю, и тягло, и плуги. Дело пошло хуже. Пришел трактор. Но одна морока с ним. Покружился по буграм, пожрал керосина столько, что можно бы светить лампы пять лет подряд, не меньше. И ушел. Объявили: дело не идет из-за руководителей. Если вместо такого-то поставить такого-то, то лучше пойдет. Поставили такого-то, а дело не двинулось, рожь обсыпалась, вика-смесь почернела в валках, капусту засыпало снегом, картошку копали в заморозки, лопата не шла, и в бороде иней... Потом Михеева назначили, более расторопного, сапожника. Это ему валушка пришлось скормить, чтобы Марфиньку отпустил. Чуть сдвинулось дело с мертвой точки – глянь, опять какая-то переделка! Вроде нужно изгонять лен, сеять картошку и морковку для потребностей города. И опять не помогло. И шефы приезжают, и дети по самое горло в навозе, не учатся до глубокой зимы, а все скрипит, буксует, как колесо на склизком. А все потому, рассуждал Степан Бурлаков, что нет у людей отношения, не видят своего. Сколько ни двужильничай, все едино заплатят, как установят в районе, а налоги, заготовки – «отдай, а то потеряешь». Кулаков выслали, а много ли было кулаков в их местности? И не разговелись на них, и зла не сорвали... «Нету интереса» – на том крепились размышления Степана Бурлакова, а раз «нету интереса» в обчем котловом довольствии, то каждый принялся варить щи в своем чугунке.
Думалось, в городе лучше, а тут тоже тюлька. Хотя ничего не скажешь, ехал сюда – по дороге двадцать новых фабричных труб насчитал, и поезд шел на час скорее прежнего. Конечно, сын прав, не все сразу делается. Сгорела Москва деревянная, каменную построили; редко встретишь мужика в лаптях, каждый норовит сапоги надеть; а все же решили родители на семейном совете, при двух равных голосах, отдать детям обратно все, что они прислали старикам на подмогу; двести рублей, скопленных Николаем в армии, тоже отдать. Старикам теперь много не надо, картофель на своих сотках опять уродил, молоко стало дороже, на «Суконке» стали пить его не только служащие или инженеры, а и всякая Малашка из общежитки кричит: «Папаша, не забудь мне пол-литра!» Отец для того и попросил кликнуть невестку, чтобы при ней вручить деньги, присланные по переводам, – все, до копеечки. Почтовые извещения, сшитые черной ниткой, он извлек из кармана вместе с деньгами.
– Мы не возьмем этих денег, – сказала Наташа. – Нам стыдно брать их. – Поймав протестующий жест отца, она решительно добавила: – Мы оба работаем. Все у нас идет хорошо.
– Мать же просила...
– Спасибо. Большое спасибо! – Наташа обняла отца, ощущая пропитавший одежду запах земли, скота и птицы. – Спасибо, папа, не надо, не надо!..
– И тебе не надо? – спросил Степан сына.
– И мне... – Николай прикоснулся к руке отца, будто отлитой из темного сплава. – Дай нам право.
– Какое?
– Тоже быть отцами...
– Ладно, скажу матери. – И отец спрятал деньги.
В одиннадцатом часу приехал Квасов. Вошел, огляделся, по-родственному поздоровался с отцом.
– Держи, Наташа, для потомка. – Квасов передал ей сверток. – Ну, не красней. Рано или поздно, не избежать... Не знаю, удастся ли потом одарить...
Отец обрадовался Квасову, встал, залюбовался им.
– Хорош!.. Ничего не добавишь, не уберешь. Прост и люб. Вот ты мне сын, Колька, а скажу: не такой ты! Не всегда прост...
– Иная простота, папаша, хуже воровства! – Жора причесался у зеркала, продул расческу. – А меня переоцениваешь, папаша. Дрянной я человек...
– Прост, прост, – снова подтвердил старик. – Нет у тебя камня за пазухой, нет шила в кармане...
Во дворе послышался звонкий голос Марфиньки. Квасов хорошо улыбнулся, сказал:
– Вот кто человек: Марфинька!
– Она – да, она – да... – Отец вышел ей навстречу, ввел в комнату.
– Здравствуйте, буржуи, – сказала Марфинька. – Ишь как у вас великолепно! Дворец! Как, Жора?
– «Мир – хижинам, война – дворцам!» – отшутился Квасов, любуясь Марфинькой. – Ты кого ищешь?
– А где же товарищ Ожигалов? – спросила Марфинька.
– Нужен он тебе! – буркнул отец. – Как-нибудь и без него не утонем. Садитесь, я вам расскажу про нашего такого же, про товарища Прохорова.
Все уселись к столу, на котором дымилась картошка и притягивала взгляды тихоокеанская иваси; рядом с ней азовская «жуй-плюй» потеряла всю свою аппетитность. В алюминиевой миске тесно лежали соленые огурцы, принесенные Лукерьей Панкратьевной. Приглашенные к столу стеснительные ее дочки оказывали старому Бурлакову почтение, и это окончательно исправило его настроение, а пропущенная единым махом стопка в честь новоселья согрела кровь.
Случаи с Прохоровым, попадавшим в глупые положения из-за незнания земледельческого труда, имели успех.
– Ему нужно руководить, а он козла велит доить! – безулыбочно повторял старик после каждой рассказанной истории. – И почему только на крестьянина такая беда: посылают в деревню для руководительства кого угодно? Везде руководитель обязан иметь что-то за душой, что-то знать, а за землю каждый неук берется.
Старик вернулся к вопросам, не дававшим ему покоя. Не оторваться от земли, не уйти от нее! Квасов слушал, применяя его речи к своей жизни: сам не исправишь, кто позаботится? Даже если плох отец, никто не захочет отчима.
Перед тем как приехать сюда, Жора говорил с Саулом, казалось бы, на отвлеченные темы: почему тревожно в мире, откуда идет опасность, а может быть, и смерть? Расспрашивая, он думал о себе, как о частице большого тела, которую черные силы пытаются оторвать и привить к инородному, уродливому телу. И это страшно: ноги немеют, не замахнуться, не отбиться. Прямо как во сне.
Саул говорил о задачах рабочего класса. Если ему поверить, весь трудовой мир живет надеждой на победу рабочих в России. Весь мир считает его, Квасова, образцовым, внутренне красивым человеком. А мир шатается. Ожили и заговорили кратеры на земле.
– Можно тебя на минутку? – спросил Жора Николая.
Тот поднялся.
– Можно. Хочешь, выйдем?
Марфинька проводила их глазами. В открытую настежь дверь видна была стена черного дыма, окрашенная багровым огнем.
– Помоги ему, Коля, – посоветовала Лукерья Панкратьевна. – Пусть провеется на свежем воздухе.
– Быстро дошел, – сказал отец, – а тяпнул меньше моего. Хотите, я вам расскажу случай? Давно это было, стояли мы в одном фольварке в Польше...
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Квасов отвел Николая подальше от дверей, к решетке забора.
– Помочь мне может друг, а не начальник милиции. Верю тебе и не боюсь. Слушай...
Перед Николаем развертывалась дикая история во всех ее подробностях. Наконец-то открылся «кузен Серж» и полностью прояснились туманные предостережения Аделаиды. Николаю не приходилось сталкиваться с той стороной жизни, которую можно назвать ее изнанкой. Враги, несомненно, существовали, и специальные органы советской власти следили за их происками, обезоруживали их. Два мира находились в смертельной схватке. И, однако, все это было далеко, проходило как бы стороной. Дрались и дрались! Никто не поручал вмешиваться, помогать. А ну вас! Занимайтесь своим делом... Теперь же опасность была рядом. В борьбу против рабочих зарубежные враги втягивали самих рабочих. Понятным становилось поручение Ожигалова.
– Слушай. – Квасов оглянулся. – Послезавтра в одиннадцать ночи он будет ждать меня.
– На квартире?
– Нет, не на квартире. В переулке, – Жора назвал переулок.
Однако он хотел проверить самого себя, найти больше сил для борьбы, если уж в нее нужно вступать, отбросить всяческие сомнения.
– Не преувеличиваешь ли ты, Жора? – напрямик спросил Николай, так же прямо, не мигая всматриваясь в глаза своего друга.
Жора вначале не понял вопроса и попытался так же горячо, порывистым шепотом повторить какие-то подробности, выплеснуть хотя бы часть из того, что тяготило его.
– Подожди, подожди, – остановил его Николай, – раздеталировал ты все и так правильно, могу сам все до последнего шурупа собрать, свинтить. Ты скажи главное: нет ли тут того самого страха, от которого глаза велики? Приучают нас везде видеть шпионов, агентуру коварного врага, оглядываться туда-сюда, крутиться на собственной оси, за хвостом своим гоняться.
Квасов остановил друга, схватил его за руку; глаза его помутнели, а губы стали белыми-белыми, безжизненными, мертвыми.
– Шпионов пусть гепеу ловит, – яростно выдохнул он. – Страшнее тут, Колька, пойми... Душой они хотят нашей завладеть, Колька! Хотят, чтобы мы отказались от крови нашей, ото всего... Мы один на один схлестнулись с ними и один на один должны решить, по-рабочему, без свистков, без протокольчиков. Нас не нужно за ручку водить по революции, поглядите, какие цветочки хорошенькие... Революция во мне сидит, тут, – ударил кулаком в грудь. – Я отсюда должен все выкидать к чертям собачьим! Сам, не нужно мне чужих вил и граблей... У меня аммонал внутри... Сюда фитиль тянут...
– Успокойся, Жора, – остановил его Николай, осмысливший все, что было сказано. – Я понял все. Не доказывай мне больше ничего, не убеждай... Ясно, я должен помочь тебе, только как?
Ничто теперь не выдавало внутреннего волнения Николая. Именно таким, спокойным, обязан предстать перед мятущимся другом, чтобы он поверил ему и доверился полностью.
– Говори, Жора, – попросил он твердо, – где тебе назначил «свидание» Коржиков?
– Недалеко от Марфиньки. От нашего дома. Если мы его не повяжем – нулевые мы люди! – Глаза Жоры сверкнули гневом. – Подумать только! Хуже меня не нашли... Меня в Сибирь нужно, а не на стружку. Сегодня, мол, подписывай, а завтра иди и завод подпали...
– Только не надо шарахаться, – сказал Николай. – Ты был один, теперь нас двое. Тебе стало легче и мне! Разное можно было подумать...
– Каких только кошмаров не вижу!.. – Жора придвинулся ближе. – Утопленника вижу... Фомина. Шрайбер из головы не выходит. Будто гвоздей повбивали мне в голову. Щипцами не ухватить, не вытащить...
– Ухватим, вытащим, – успокоил его Николай. – Узаконенным путем не хочешь?
– Пойми: если я его сам – одно дело. Если явлюсь с повинной и выложу это, – он вытащил деньги, – спросят, и правильно сделают: «Почему ты их так долго таскал? А кто поручится, не две ли было колоды, гражданин Квасов?» Понял?
– Понял...
– А раз так... – В светлом пролете двери показалась Марфинька, и Жора прикрикнул на нее. Марфинька скрылась. – Раз так, то я его на гирьку. Она на добром ремешке и крепится вместо браслетки. Мне ее до послезавтра таскать не годится. Вдруг застукают: улика.
Николай опустил гирьку в карман галифе.
– Фунтовик, что ли?
– Фунтовик. Дашь по темени – и в самый раз!.. Пойдем. Опять Марфута тута как тута. Идем, Марфута! – Он сказал серьезно: – Ради нее тоже... Люблю ее, Колька...
Жора и Марфинька уехали в город. Отец остался ночевать. Ему постелили в маленькой комнате.
На следующий день Квасов должен был заехать за Николаем в десять часов вечера на машине. Коржиков знал Николая. Не годилось раньше времени появляться в переулке, чтобы не спугнуть осторожного «кузена Сержа».
Дальнейшие действия тоже были распланированы во всех подробностях, обсуждению их они отдали немало времени. Но друзьям и в голову не могло прийти, что Марфинька следила за ними, будто невзначай задавала вопросы. У них сложился свой план, у Марфиньки – свой, и только будущее могло ответить, чья мысль работала лучше.
Нетрудная, казалось бы, задача – встретиться с Коржиковым. Но по мере приближения этого «свидания» вырастали все новые сложности.
Наташа постелила отцу в их старой комнатушке, взбила подушку и, вернувшись в новую комнату в пристройке, увидела, что сегодня муж почему-то необычно рано решил отправиться на боковую.
– Э, нет, будущий студент, мы по-другому намечали наши обязанности! – Наташа растормошила Николая, велела сесть к столу и, раскрыв учебник, проговорила скучным педагогическим голосом: – На чем мы остановились в прошлый раз?
– Наташа, прости, совсем не варит сегодня голова, – взмолился Николай, не зная, как заставить ее лечь и заснуть поскорее.
– Нет, нет, и не проси! Теперь тебе нельзя надеяться на внешний вид, ведь шинели уже нет, приходится рассчитывать только на знания.
Как назло, в доме долго не замирала жизнь. На тетушкиной половине разливалось сопрано Вяльцевой, потом цыганщину сменили каторжные песни. Граммофон заводили дочки Лукерьи Панкратьевны, и воздействовать на них было невозможно. Через капитальную бревенчатую стену проникали и другие звуки; на полную мощность работал самодельный радиоприемник, долгожданное детище мужа Наташиной сестры, который служил на центральной станции связи; на улице бродили люди, доносились обрывки разговоров.
Легли в десятом часу, при открытых окнах. Уже неделю держались прохладные вечерние зори, и спалось легко, если ветер не нагонял копоть с завода. Наташа, пожелав мужу спокойной ночи, повернулась лицом к стене. Он знал, что она притворилась спящей. По-видимому, он плохо скрывал свое беспокойство, и Наташа инстинктивно ждала чего-то. Неяркий свет уличного фонаря проникал в окно и, словно просеянный сквозь тюль занавески, рассыпчатыми мельчайшими пятнышками играл на зеркале и на свежеокрашенной белой двери.
Какие-то чертики мигали в глазах Николая, подсмеивались и вдруг сливались в одно лицо. Коржиков! Не только Квасова преследовал «гражданин вселенной».
Часы на руке фосфорически мерцали. Скоро должен подъехать Жора. А что Наташа? Он легонько прикоснулся к ее руке.
– Ты не спишь?
– Засыпаю, Коля. – Она не изменила позы, приоткрыла глаза. – Вы что-то надумали с Жоркой? Что?
– Поверь, ничего страшного.
– Почему же ты так волнуешься?
– Не знаю... Мне трудно тебе объяснить... – Он прислушался: кажется, машина уже пробиралась по их улочке. – Подробности ты узнаешь не позже утра. А в идее, если хочешь знать, я должен сегодня бороться за двух человек... Бороться и победить.
Наташа быстро повернулась к нему, приподнялась на локте.
– Мы договаривались никогда не лгать друг другу, всегда говорить откровенно и... гасить ссоры или недомолвки в самом начале.
Свет фар скользнул по окошку, хлопнула дверца машины. Надо спешить. Николай встал, быстро оделся, незаметно опустил гирьку в карман.
– А это зачем? – Наташа поднялась.
– Заметила?
– Не дурачься. – Она подошла к нему. – Мне страшно. Сначала я думала, что замешана женщина... Надеюсь, ты теперь объяснишь.
Жора, по-видимому, поджидал у двери. Машина разворачивалась; ее свет переместился, потом исчез. Слышалось пофыркивание мотора, работавшего на малых скоростях.
– Все будет хорошо, Наташа. – Николай решительно уклонился от прямого ответа. Обнял ее за голые плечи. – Я понимаю... Ты вправе спрашивать, но пока разреши мне ничего не объяснять. Что? Хочу помочь другу. Пришло мое время ему помочь...
– Почему ночью?
– Темное дело, потому и ночью... – попробовал он отшутиться.
– А яснее? – Наташа дрожала.
– Помнишь, приходил Ожигалов? Ну да, когда шинель... Он просил... Мое партийное поручение...
– Если партийное, зачем берешь гирю?
– Ах да, конечно, к чему она мне? На, возьми. – Он вынул из кармана гирьку, отдал Наташе. – Вернусь не позже двух. Ну, где твои губы? Спасибо!
Николай уехал. Блестящая, будто смазанная маслом гирька лежала на ладони Наташи. Ременная петелька на ушке. Как все ловко приспособлено! Почему навязали Николаю это темное оружие?
Наташа спустилась во двор, выбежала за калитку. Улица была пуста. Черная труба завода, большая, высокая и широкая, извергала дым и пламя. Наташа пошла к себе, в дверях столкнулась с отцом.
– Ты одна? – спросил он глухим голосом.
– Да, папа.
– А он куда подался?
– Нужно ему...
– И часто бывает так нужно? – Отец не скрывал своего неодобрения. – Вижу, сел в машину и... Не время!
– Ничего. Ему нужно, папа, – сказала Наташа еще тверже. – Вы не беспокойтесь. Я знаю, что ему нужно...
Легкими шагами, чтобы не выдавать своего смятения, Наташа вернулась к себе, включила ночник и присела на краешек кровати. Матово светлели кроватные шары. Кто-то называл такие шары мещанством. И не все ли теперь равно! Любимый человек, отец будущего их ребенка, должен был уйти, чтобы помочь другу и еще кому-то второму. Кому? Марфиньке? Конечно, ей! Ради нее можно и должно.
Наташа была из числа тех женщин, которые способны в какой-то мере подчинять свои чувства разуму. Она умела рассуждать разумно. На подоконнике лежал сверток, принесенный Жорой. Все необходимое новорожденному. Она еще не привыкла к мысли о будущем материнстве. Зачем же другие вмешиваются?..
В свертке – записка: «Будущему правильному гражданину Советского Союза». Записка сегодня обрела новый смысл. Наташа решила не ложиться, она должна дождаться его. А если...
Она, как большинство женщин, верила предчувствиям, и предчувствие беды не покидало ее.
...«Рено», все то же памятное «рено» отсчитывало километры. Мимо пробегали дома и деревья, заборы и глухие стены корпусов старых и новых заводов. Пахну́ло сладким теплом – конфетная фабрика бывшего Сиу, а на Балчуге – фабрика бывшего Жоржа Бормана, тоже француза. В город везли центроплан и сложенные разломанные крылья самолета. Куда? Вероятно, в ЦАГИ. Туда отвозят останки разбившихся самолетов. Откуда? Возможно, с бывшего завода Дукса. Что-то мастерил Дукс по этой части. Нет уже и Дукса, зато в стране много заводов, где делают моторы, крылья, шасси, винты. Дукс, кто его знает, француз с острой бородкой или немец с пивным сердцем? Бывший Альберт Юбнер – фабрика шелков, бывший Жиро – ныне комбинат «Красная Роза», бывший Живард – гардины и тюль, фабрика «Ливерс» – ныне имени Тельмана. Аделаида работала на бывшей фабрике Альберта Юбнера. Девчата из шелкоткацкой держали шефство над родным колхозом Николая. Как давно это было, ужасно давно!.. Память с трудом продиралась к прошлому, ведь каждый год молодости равняется десяти годам старости, когда время летит все быстрей и быстрей.
«Рено» миновало Триумфальную арку и теперь бежало мимо низких неказистых домов у истоков Тверской – главной магистрали столицы.
Никто не прощает своего крушения. Ни Дукс, ни Жиро, ни Живард, ни Гужон, ни Бромлей. Ни тот немец, который приказал русскому кузнецу отковать фантастических славянских птиц, чтобы они пророчили ему удачу.
Гирьки нет: Неважно. Не самое мощное оружие гирька. И под пистолетом не дрогнем, под орудийным огнем...
Жора пытается что-то объяснить:
– Они думают, мы продажные твари. Ладно! Квасов потребует. Хотят плюнуть, паразиты, на рабочего человека! Плюнуть и растоптать! Подумать, какие зануды? Не языки у них, а метлы. Я ему подпишу отречение... – К шоферу: – На Садовой-Триумфальной вправо, по Бульварному кольцу. – И снова к Николаю. – Коржиков прет на красный свет. Мы не только дунем в черный свисток, мы ему в ухо... – Дальше посыпались слова, которых не терпит бумага.
Машина остановилась у зашитого тесом забора бывшего Вдовьего дома. Счетчик погас. Жора расплатился. Когда машина уехала, они пошли вниз, к Грузинам.
Трамваи ползли по рельсам, изогнутым у зоопарка, как ятаганы. В кино на Баррикадной шла «Путевка в жизнь». С большой парусины смеялся Баталов. Несколько парнишек, не попавших на последний сеанс, курили у входа, грызли тыквенные семечки. Белая шелуха летела на тротуар. За зоопарком, если пройти вдоль высокого щитового забора, начинались темные унылые улочки, поднимавшиеся на всхолмье. В одной из них жила Марфинька.
– Дальше нам вместе не светит, Коля. – Квасов остановился, огляделся. – Ты дуй вперед. Увидишь фонарь, не доходя до него – домишко с палисадником, сирень. Залезай в сирень и... сам понимаешь... Я подойду позже, когда ты обоснуешься. Постараюсь подманить его поближе к засаде. Только помни: «кузен» обожает ножичком...
– Знаю.
– Гирька при тебе?
– Безусловно, – соврал Николай.
– Гирька – это хорошо, – продолжал Жора шепотом. – Только гирьку пускай в крайнем случае. Мы должны его живьем... А еще...
– Хватит тебе инструктировать, – озлился Николай, чувствуя, что ему так и не унять дрожь, постыдно овладевшую всем его телом.