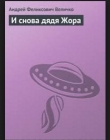Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Весть о загадочной гибели Фомина быстро облетела завод и породила много толков. Как и всегда, обсуждали чрезвычайное происшествие в задушевных беседах, когда люди не опасаются лишнего слова и не приравнивают его к воробью. Дирекция послала на Урал начальника техотдела. Он улетел с попутным военным самолетом. На экстренном бюро говорили трезво и коротко, пожурили секретаря и директора, давших согласие на неожиданный отпуск, нигде не оформленный, «без заявления», как будто теперь выяснение этих причин имело какой-нибудь смысл.
Никто не задумывался о подлинных причинах гибели Фомина, старались не закапываться в глубину, чтобы самим не растеряться и не попасть в положение виноватых. Костомаров из временного начальника цеха превратился, согласно приказу, в постоянного и сразу приобрел начальственную осанку и изменил звонкий тембр голоса на более густой. В цехе стало скучно.
Как и всякий новый начальник, Костомаров с пылом взялся переделывать заведенный порядок, вводить новые отчетности, превращать «пятиминутку» в «часовики», как иронически говорили о них в цехе. Муфтина растерялась, потускнела, перестала следить за собой: новый молодой начальник совершенно не обращал внимания ни на ее характер, ни на внешность и даже открыто пообещал заменить «это ветхое древо».
И как всегда это бывает, смена начальников, уход одного и приход другого, не отразилась на работе тех, кто занимался непосредственным делом: точил, строгал, фрезеровал. Поэтому, несмотря на нововведения, на другую форму отчетностей и изменение одноцветного наряда на трехцветный, по сменам, план выполнялся; по-прежнему занимались штурмовщиной в последнюю декаду, и после двадцатого числа цехи наполнялись посторонними людьми, толкавшимися и мешавшими рабочим, штурмующим план.
Если говорить об отдельных впечатлениях – вернее о впечатлениях отдельных лиц, то надо остановиться на Марфиньке. Не удивительно, что она близко к сердцу, приняла трагическое известие о Фомине – ведь он тесно связан был с Жорой Квасовым, и при разматывании клубка могли захлестнуть и любимого ею человека. Жора, последнее время живший у Марфиньки, – правда, он снимал отдельный угол в большой комнате хозяйки, – с болью говорил о Фомине и чего-то ждал, не объясняя причин своих тревог и опасений. Марфинька, нашедшая свое счастье, с упорством, свойственным любящим женщинам, докапывалась до источников Жориных бед. Она пришла к убеждению, что разгадку нужно искать у бывшей сожительницы Квасова, Аделаиды.
– Почему он так неожиданно бросил ее? – вышептывала Марфинька брату, у которого искала помощи. – Что-то случилось, Коля, а он молчит и молчит... Он всегда беспокойный, запирает окна, осматривает дверные замки, вскакивает, если где стукнут или позвонят. Товарищ Фомин... Я боюсь за Жору. Помоги!
– Что же я могу сделать, Марфинька? – спрашивал Николай, не на шутку взволнованный не столько поведением Жоры, сколько нервным возбуждением и страхами сестры.
– Сходи к ней, Коля. – Она крепко сжала его руки и умоляюще смотрела ему в глаза. – Я знаю: тебе нелегко к ней идти. Наташе пока не говори, потом расскажешь. Сходи проверь. Сделай это, если не для Жоры, то для меня.
Николай обещал и решил не откладывать обещанного. Посланный на Урал начальник спецотдела привез дурное известие: Фомин сам покончил с собой, бросившись в реку. Его труп нашли через три дня ниже по течению. Его прибило к правобережью, а сначала искали на левом берегу. Обнаружили труп рабочие орудийного завода возле своего полигона. Узнали Фомина по ордену. Не у каждого утопленника орден Красного Знамени.
Дело могло плохо обернуться. Неожиданно заявившийся в гости Кешка Мозговой, будто радуясь происшествию, подробно интересовался Квасовым. Возможно, у Кешки не было никакой задней мысли, а все же его расспросы оставили нехороший осадок.
Вечером Николай рассказал Наташе о просьбе сестры. Наташа выслушала молча и только пожала плечами. Уже лежа в кровати, он возобновил разговор. Приближалась осень – время вступительных экзаменов в Высшем техническом. Они вдвоем дважды побывали там, под прохладными парусными сводами, как в старинных соборах. Гуляли возле железной ограды, где росли толстые шершавые липы. Сюда съезжалось много молодых людей; кое-кто с мешками за спиной, набитыми сухарями, кусками сала, чистым бельишком. Подъезжали сюда и московские юнцы, нередко в очках – пробивные ребята, умевшие ловко обходиться с секретаршами приемных комиссий; знавшие назубок все премудрости программы. Наташа по-прежнему настаивала на том, чтобы Николай явился на экзамен в длинной армейской шинели и побольше напирал на свой рабочий стаж.
Дома у них уже появилась пристройка. Плотники, будто играя своими сверкающими топорами и пилами, возвели стены из двухметрового швырка и протянули стропила; дважды веселая гурьба комсомольцев справила субботник. Теперь можно было веселее смотреть на жизнь. Поработав после смены фуганком, приятно было склониться возле Наташи над тетрадкой и книгой, следить за движениями ее полных милых губ, за ее пальцами.
Все складывалось хорошо. Если замкнуться в своем тесном мирке, то лучшего не надо. Но со всех сторон вторгалась жизнь, и нельзя было уйти в свою скорлупу. Если тебе помогают, ты должен помочь другим. Ночной же разговор приобретал характер новых алгебраических формул. Но не везде стояла постоянная величина, в жизни было больше углов, и ее задачи не могли уместиться и в тысячах книг.
Николай сначала позвонил Аделаиде. Услышав ее полузабытый голос, он словно вернулся в далекое, очень далекое прошлое.
– Ну, говорите же, я вас не слышу... Вы по-прежнему такой же застенчивый?.. Что ж, приходите. Любопытно на вас посмотреть.
У входа та же черная кнопка, так же надлежало звонить два раза, дубовые перила так же лоснятся, под ногами те же стертые ступени. Но Аделаида уже не та. Вероятно, она не замечает в себе этой перемены. Николай почувствовал к ней жалость. Почему так быстро и горько изменяется женщина? Казалось, та же ленивая, покачивающаяся походка, те же жесты, только чуточку длиннее острижены ногти, и немного изменен цвет лака на них. Но кожа не так чиста, как прежде, и ей не помогают ни пудра, ни тонкий слой румян, наспех и неровно нанесенный на щеки и мочки ушей. И губы будто привяли, и волосы потеряли свой цвет овсяной соломы, их вытравила краска и сгубил постоянный уход. Ведь Аделаиде около тридцати или чуть-чуть меньше. Не такой уж безнадежный возраст.
– Не смотрите на меня так... – попросила она Николая и усадила его возле столика, инкрустированного белым и черным. – Я не совсем здорова. К тому же у меня отвратительное настроение. А вы почти не изменились, Коля, – равнодушно произнесла она и чиркнула спичкой. Табачный дым окутал ее. Она курила, оттопырив нижнюю губу, и пускала дым через нос. – Вы, несомненно, знаете от вашего друга, что мы с ним расстались. Я вынуждена была сделать аборт. Детей не люблю и не хочу, чтобы они впоследствии спрашивали меня: «А кто мой папа?» – И она бесцеремонно спросила: – По этому вопросу вас и подослал ваш друг?
– Нет, – ответил Николай, победив свое смущение, которое овладело им на пороге этой квартиры.
– Нет?.. – удивленно переспросила Аделаида. – Странно!.. Тогда какие же соображения побудили вас прийти ко мне?
Николай решил действовать обдуманно. Теперь уже не Аделаида командовала им, он чувствовал себя гораздо уверенней. Его не могли обмануть даже «светские» обороты речи: «побудили вас». Он заметил, что обстановка комнаты изменилась. Исчезли предметы восточного обихода, которые так волновали Сержа Коржикова: не было мусульманского светильника, кальяна, узкогорлых кумганов и бамбуковых палок. На стенах опять висели портреты лошадей и жокеев, из-под козырька ипподромной шапочки строго смотрел папа; вместо туркменского толстого ковра на полу лежал армянский тонкий палас, купленный Квасовым в магазине Инснаба.
– Когда ушел Серж, пришлось изменить обстановку, – объяснила Аделаида. – Жора – кавалерист, лошади ему ближе всех сокровищ Востока. Ну, уж если мы коснулись Жоры, мне хочется поблагодарить вас. Задним числом.
– За что?
– Вы, как я убедилась, приличный человек – не насплетничали вашему другу о Серже. – Она настороженно взглянула на Николая, по-прежнему невозмутимого, и добавила: – Впрочем, мне все же пришлось познакомить их... – И вдруг лицо ее изменилось, она спросила беспокойно: – Вы пришли по поводу Сержа?
– Нет.
– Почему вы такой чопорный? – спросила Аделаида, нервно посмеиваясь. – Почему люди с годами становятся хуже, теряют непосредственность, черствеют, замыкаются в себе, глядят исподлобья? Почему так происходит, скажите мне!
– Я думаю, вы встречаетесь не с теми людьми... – начал Николай издалека.
– Ах, оставьте! – Она закрыла уши. – Не продолжайте. Раз вы начали с этого «я думаю»... Вы неискренни. Не нужно, я уже насмотрелась всякого притворства. Сыта по горло!..
Аделаида вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, от нее исходил запах очень тонких духов.
– Вы, я слышала, женились? – спросила она.
– Да.
– И, конечно, счастливы, любите друг друга, воркуете, клянетесь вечно не разлучаться? – Аделаида деланно засмеялась и снова закурила. – Не возмущайтесь моим цинизмом и не уверяйте в обратном. Все пройдет, Коля, все!.. – Она приблизилась вплотную, пытливо, с болью всмотрелась в лицо Николая и, зарыв пальцы в его волосы, провела ими от лба к затылку. – Я постарела, Коля. Слышали песню: «Я девчонка совсем молодая, а душе моей – тысяча лет»? Уходите! Я знаю, зачем вы пришли. Я не стану переманивать его от вашей милой простушки – сестры. Я и ревновать-то к ней не могу по-настоящему. Разве можно ревновать к полевому маку или к василькам? – Глаза ее загорелись как-то по-новому. Оставив наигранный тон, она отбросила в угол непогашенную папироску и взяла Николая за руку. – Я не отниму его у вашей сестры. Но Серж... или, как его?.. Павел Иванович – он может отнять его у вашей сестры навсегда. Бойтесь его... А меня не опасайтесь. Я безвольная, опустошенная и несчастная женщина. У меня тут нет ничего. – Она сжала обе руки на груди. – Поймите: ничего!.. И уходите. Этот дом не для вас...
Она почти вытолкала Николая на лестницу и что-то еще шептала в темноте. Спускаясь к освещенному фонарем пролету выходной двери, он еще долго видел ее белую фигуру, склоненную над перилами.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Квасов угрюмо трудился на черном дворе. Фомин не выходил у него из головы. Работая четырехрожковыми вилами в фиолетово-синеватых холмах стружки, сбрасываемой сюда медленно ползущим транспортером, прессуя ее в пакеты на специальной машине, Квасов непрестанно вспоминал мастера: его улыбку, шрам на его лице, орден с буквами «РСФСР» под красной полуотбитой эмалью знамени на золотом древке. Он не мог представить себе Дмитрия Фомина препарированным трупом. Ожигалов показал Жоре медицинский анализ, изложенный на двух страницах.
Иногда Квасов напрашивался в грузчики и, устроившись на пакетах шихты, ехал через весь город к заводу «Серп и молот». Наблюдая с высоты кропотливую суету города, он снова представлял себе Фомина: будто идет он рядом, засунув руки в траченную годами кожанку-доколенку, с шарфом на шее. Узнал Жора и о злополучном реглане и удивился скаредности Дмитрия Фомина, польстившегося на такую дешевку. Моргни он Жоре – из-под земли выкопал бы ему самый распрекрасный реглан! На стружку было противно глядеть. Часть ее вышла из-под фрезы, точившей эти распроклятые червяки. Сколько из-за них пришлось претерпеть!..
Люди, наблюдаемые им с высоты грузовика, рыли подземные тоннели метро, рушили одну сторону Тверской, вплоть до кавказской шашлычной, перетаскивали здания на катках, варили асфальт, натягивали медный провод на свежие столбы, строили заводы или перестраивали их по формуле: «Пришивай пальто к пуговице». Но над всем этим огромно возникала фигура Фомина, достававшего головой до куцых облаков, сиротски бегущих по блеклому московскому небу.
«Или в самом деле он сумел меня пронзить до самого сердца, – думал Жора, стараясь отрешиться от назойливого видения, – или Кама-река не смыла мою кровь с его кулака».
Фомин на время вытеснил из его сознания фигуру Коржикова. И только когда видение Дмитрия Фомина скрывалось из глаз и грузовик нырял в паутину улочек, появлялся образ «кузена Сержа». Если бы не пачка кредиток (вероятно, гад, и номера переписал), то серая фигурка так бы и смеркла в этих тусклых кварталах, рассосалась бы, как гнилой туман. Но деньги жгли. Иногда, закатывая рукав, Квасов рассматривал на своей руке неглубокий, но отчетливый шрам. Еще одно вещественное напоминание о далеко не бесплотном духе Коржикова.
Однажды Квасову показалось, что Коржиков проскользнул в узкую щель раскрытых дверей некоего континентального посольства с черным орлом на эмалированном щите; к этому зданию Жора не раз сопровождал то одного, то другого немца из числа своих заводских подопечных. Жора выждал около получаса. Наконец из подъезда выскользнул человек. Жора поспешил ему вдогонку, быстро обошел, оглянулся: нет, не «кузен Серж». Вот оборотень!
Квасов с обостренной внимательностью наблюдал кипучую жизнь города, людей, плечом к плечу идущих к одной цели, и ненависть к самому себе все глубже проникала в поры его души. Как это случилось, что он «живет против»? Против вон тех комсомолок, только что выскочивших из-под земли и сразу же кокетливо сменивших мокрые шахтерские шляпы на косынки; против вон тех работяг у окрашенных огнем окон мартеновской сталеплавильни; против всего люда, работавшего на умножение отцовского и дедовского скудного наследства. И он, Жора Квасов, невольно поднял на них свою руку. Что же делать? Неужто таким же манером, как Митя Фомин, – головой в омут? Нет! А как? Пока ничего не мог решить Жора Квасов, от размышлений голова разламывалась на куски. И Марфинька вправе была спрашивать с женским участием: «Жора, да что с тобой стало?»
Однажды, когда он работал над своей распроклятой стружкой, его навестила Муфтина.
– Я горжусь вами, – сказала она. – Вы – настоящий человек! Вы сгусток...
Правильно сработал ее куриный мозг. Жора пробормотал себе под нос: «Значит, падаль, коли на меня летит такая могильная муха». Слово с г у с т о к вызвало в воображении какую-то ядовитую, тошнотворную массу, вроде ожигаловской п р о т о п л а з м ы.
Угнетенное состояние Квасова по-своему объясняли на черном дворе.
– Валяй-ка в контору, к самому, – советовал ему старшой, добродушный и неглупый рабочий. – Ломакин отменит стружку, и вернешься в исходное положение.
– Не пойду!
– Строптивый?
– Человек образцовой дисциплины.
– Неужели? – спросил другой, по повадкам деревенский кулак, сбежавший от пролетарского гнева. – А ежели тебя к стенке? Как тогда дисциплина?..
– Стану к стенке, – твердо отвечал Жора.
– Ой-ой! И не зажмуришься?
– Зачем же? Я любопытный.
– Узнать, хорошо ли целятся?
– Тоже интерес...
Разговоры подобного рода ни к чему не обязывали и затевались от лености мысли в минуты перекуров. К Жоре постепенно привыкли, перестали ему удивляться, перестали расспрашивать и советовать. Даже о неожиданной смерти Фомина говорили только в первые дни. Работали молча и не очень спешили, чтобы аккуратно распределить силы на весь день. Иногда приходилось разгружать материалы: прутковый металл, слитки, станки. Тяжелая работа давалась Жоре легко. Трудней было думать.
– Глядите, какого активиста к нам прислали! – однажды взмолился тот самый кулачок из деревни. – Уморит нас, братцы!
– Фундамент социализма хочет пошвыдче заложить на стружке, – поддакивал кто-нибудь из разнорабочей текучки.
Последнее время Жора не переносил никаких издевательских словечек и сомнений в правильности большого, но кое-кому непонятного общего дела.
В этой укоренившейся в нем вере в общее дело Жоре помогала Марфинька. И не рассуждениями своими или нравоучениями – от них у него была оскомина, – а лаской, вниманием к нему и любовью к исполняемой ею работе, от которой она получала удовольствие. Марфинька была для него единственным утешением, так как все отстранились от него и никто не старался проникнуть в строй его переживаний. Предполагалось, что такой занозистый парень не способен на переживания. Можно думать о Марфиньке так и сяк, и все равно мысли будут светлыми. Таинственная добрая сила сосредоточилась в этой девчонке, и Жора с радостью подчинялся этой силе.
С Марфинькой будет хорошо, если уладится все остальное, если он сумеет подчиниться общему движению и не будет ставить себя выше людей.
Любовь?.. Раньше Квасов представлял ее себе, как физическое наслаждение, и до женщины и до ее переживаний ему не было дела. На это ему было наплевать. Он принципиально не произносил слово «л ю б л ю», считая его фальшивым и сочиненным для тех увальней, которые иначе не могли подластиться к девчонке. Теперь, сближаясь с Марфинькой не только физически, а и чем-то другим, пока неуяснимым, он не мог «раздеталировать», как механизм, эту нравственную основу любви, – он жил сейчас больше сердцем и разумом и старался отблагодарить Марфиньку своим бережным отношением к ней. Раньше он никогда не поджидал ее у заводских ворот и отправлялся домой один, хотел – заходил в пивную, вел себя вольным казаком. Теперь он терпеливо ждал Марфиньку во дворе, открыто шел с ней в толпе, чувствуя ее плечо, локоть, иногда брал под руку, а раньше смеялся над теми, кто ходит «под ручку».
Однажды завком решил закрыть проходную, чтобы собрать на литературный вечер в душном зале столовой как можно больше читателей. С территории завода выпустили только начальство, кормящих матерей и тех, кто успел улизнуть, прежде чем в завкоме родилась мудрая мысль задвинуть засовы. Вначале читатели пошумели по поводу такого к себе отношения, потом столпились в столовке, заменявшей им клуб, и успокоились. По ходу вечера они поняли, что принуждали их не зря.
Жора сидел рядом с Марфинькой у задней стены и держал ее руку в своих ладонях. На помосте первой выступила перед публикой некрасивая быстроглазая женщина – критик. Потупив глаза, она говорила о значении литературы в деле воспитания широких масс. Эти массы отрезаны от литературы не то царем, не то буржуями, не то международным капиталом; правда, ни царя, ни буржуев давно не было, их пустили на расструг, а международный капитал и носа не мог сунуть в запертую на семь замков Советскую страну. Но женщина говорила так, будто ничего в стране не изменилось.
За нею на трибуну поднялся курчавый поэт с томными глазами, в расстегнутой рубахе: поэт считал, что у него красивая шея и ее надо показывать. Нараспев, немного гнусавя, он читал стихи о пятилетке, о рабочих, с которыми ему хотелось бы слиться. Своими стихами и якобы выраженным в них энтузиазмом, как заранее объявила женщина-критик, социалистическим энтузиазмом, поэт безуспешно пытался заразить уставших, густо скученных людей, которые все-таки были обижены «мероприятием» завкома. Несмотря на то что поэт попытался исправить свой провал оглашением лирического стихотворения, его проводили жидкими хлопками, и он сконфуженно присел к столу, взмахом головы откинул со лба пряди длинных волос и с пренебрежением уставился в зал своими красивыми выпуклыми глазами.
По помосту, скрипя нерасхоженными черными ботинками, прошел пожилой человек в сером пиджаке, в пенсне и с бородкой. Пощупав трибуну, он примерился к ней и, найдя ее слишком высокой для своего роста, остался стоять на краю помоста, прикрытого брезентом. Потом он потрогал пенсне и раскрыл книжку, которую до этого держал возле бедра. Прежде чем начать чтение, пожилой человек откашлялся, посмотрел в сторону стола, где кроме двух уже выступавших литераторов сидели председатель завкома и от комсомола Саул, и попросил воды. Саул с улыбкой поднес ему граненый стакан, и человек, выпив, вытерев платком губы и усы, поблагодарил кивком головы. Саул сел на свое место, потеснив поэта, и приготовился слушать, стараясь не упускать из поля зрения зал, чтобы заранее предупредить возможные «выпады». Мало ли что – кто-нибудь может выкрикнуть чепуху или, того хуже, свистнуть.
Несмотря на то что женщина-критик расхваливала прибывших на завод поэта и прозаика и называла их людьми, чьи произведения «перешагнули далеко пределы нашей Родины», почти никто из сгрудившихся в зале рабочих не знал их даже понаслышке. Саул, предвидя еще большую неудачу с прозаиком, придумывал дальнейший план вечера; он договорился заполнить брешь плясунами из самодеятельности и юмористом-балалаечником, рыжим литейщиком Ваней Мастаком, который всегда начинал свое выступление с частушки: «Ты не плюй мне на ногу́, я у новом сапогу́».
Расталкивая публику, гонцы побежали на поиски балалаечника и плясунов, а писатель, порывшись в книжке, поднял усталые, болезненные глаза и объявил тихим голосом о том, что он прочтет только одну короткую главку из своей недавно изданной книги.
Проза дошла до аудитории лучше стихов. В прозе была мысль, чего не хватало крикливым стихам, атакующим сознание в лоб, без всякого стеснения. Эти фальшивые побрякушки оставили скромных, простых людей равнодушными. Другое дело – проза. И Квасов, один из простых слушателей, редко бравший в руки книгу, с детским изумлением слушал этого хилого старичка, сумевшего правдиво и глубоко проникнуть в сокровенные тайники обычных, казалось бы, людских отношений. Дело касалось любви, простой и открытой, без фальши, без ненужных прикрас. Вот такая любовь – и только такая, настоящая! – красит жизнь. Мало кто отваживался в литературе честно рассказывать, как живет обыкновенный человек, какую иногда терпит нужду, какие таит душевные слабости, как борется в одиночку с пороками, якобы унаследованными от проклятого прошлого, и только от прошлого, и не имеющими корней в иных ошибках настоящего. Почти всегда в книжках все идет гладко, все будто выбрито и опрыскано одеколоном, слова подобраны умело и чистенько, все на месте, все зализано, а жизни нет!
Герои таких книг никогда не думают о заработке, о крове; и неизвестно, кто их кормит, где и как они живут. Строители нового общества в этих книгах подобны утиному пуху – летают, витают... Другая встает картина, когда такие художники, как Шолохов или Серафимович, берутся за перо. Но у них в книгах – гражданская война. А нынешний день? Ныне не погарцуешь на рыжем коне, не отобьешь харч в обозах кадетов.
Писатель с бородкой взял сегодняшний день не во всей его масштабности, а с одного края. Зато как!.. Он рассказывал о любви без цветочков, без сладеньких слов, о грубой и властной ее силе. Кто, прежде чем броситься в омут, вымеривает его глубину? Марфинька тоже жадно вслушивалась в красивые обнаженные слова, и ей казалось – то она плывет в мутном потоке, то парит в самих небесах, выше облаков, почти под солнцем...
Аплодисменты как бы разбудили Марфиньку, вернули ее в обычный мир, в столовку, где пахло щами, манной запеканкой и рабочей одеждой.
– Понравилось? – спросил ее Жора.
– Да... – прошептала Марфинька.
– И поди ты, чем же он допек нашего брата?
– Тем, что рассказал, как надо любить, – ответила Марфинька. – Скажешь, неправда?..
– Пожалуй, – согласился Жора, следя за тем, как писатель спокойно и ласково поклонился людям.
– Мы любим как-то очень простенько, а хочется, чтобы было не так, – продолжала Марфинька. – Без цветов проходит наша любовь...
Жора любовался ее милым лицом, росинками пота на пушке верхней губы и тоже сказал негромко:
– Меня-то в этом не упрекнешь. Помнишь, притащил тебе целую охапку?
– Помню, еще бы!.. – Она просветлела, быстро вскинула на него глаза. – Ты приносил мне черемуху.
– Наломал возле станции, чуть забор не повалил...
– Это ничего, Жора. Зато все-таки принес... мне... Ну, послушаем, что будет дальше.
А дальше было скучно и даже грустно как-то. Новый литератор читал о житейских недоразумениях, о горе и скитаниях чувств. Смутные предчувствия снова всколыхнули Марфиньку, и она почти не слушала длинные психологические рассуждения очень серьезного и самодовольного автора. Глазами она искала брата.
Он сидел в группе инструкторов, среди которых приметен был Старовойт и возбужденный, взвинченный Степанец, быстро продвигавшийся за последнее время «по пути авторитета». Брат еще толком ничего не рассказал о своей встрече с Аделаидой; поскольку Марфинька считала Аделаиду средоточием бед, ей хотелось знать, не грозит ли им, ей и Жоре, опасность с ее стороны.
Вечер закончился без плясунов. Люди стоя аплодировали литераторам, а когда их проводили из зала, повалили следом за ними: интересно поближе увидеть тех, кто пишет книги.
– Коля, прости, – сказала Марфинька, протиснувшись к брату. – Мне хочется поговорить с тобой.
– Здравствуй, Марфинька! – Наташа поцеловала ее в лоб и в щеки. – Какая ты жаркая!..
– Наташенька, разреши поговорить с Колей, а? – попросила она.
– Разрешаю, разрешаю... – Наташа снова поцеловала ее. Она знала о добрых вестях и радовалась за Марфиньку, которой желала счастья.
Квасов стоял в стороне, разглядывал литераторов, очень далеких ему и непонятных. Литераторы рассаживались в новеньком директорском «газике». Человек с бородкой вяло помахивал рукой. Женщина-критик красила губы, глядя в круглое зеркальце, и что-то говорила забившемуся в угол поэту.
«Газик» просигналил и раздвинул толпу. Вскоре красные зрачки фонариков пропали в глубине переулка. Вечер был теплый. Припомнились счастливые дни походов, движение конницы, запахи трав, луна над просторами Недреманного плато. Почему-то Жоре, гуляке и беспутнику, захотелось заплакать.
Вернулась Марфинька – веселая, обрадованная. Она понимала его с одного взгляда, и, прикоснувшись ладонью к его щеке, о чем-то спросила. О чем – не имеет значения. Главное – ее голос, участие. Не задумываясь, не колеблясь, она всегда придет к нему на помощь.
Всякие предчувствия, приметы и суеверия Квасов называл м у т ь ю. А теперь он почти физически предчувствовал беду. Куда-то исчез Коржиков. Исчез, и хрен с ним! Но тесная связь с «кузеном Сержем» не распалась. Пачка денег, новеньких, тугих, как нераспечатанная колода карт, оттягивала его карман. Жора не расставался с этой пачкой, боялся ее потерять. Дурные предчувствия были связаны с этими проклятыми деньгами. Выбросить их он не мог, сдать в милицию – боялся. Будто проклятие висело над Жорой. Единственным теперь утешением была Марфинька. Она спасала его от страшных мыслей, преследовавших его после гибели Фомина. Река, черная, жуткая, мерещилась ему.
В этот вечер пожилой писатель пробудил в нем светлые чувства. Да, любовь существует, и эта любовь – Марфинька. Ему захотелось порадовать ее, сделать приятное.
Как же получше провести удачно начатый вечер? В кино не тянуло, слишком буднична эта утеха; в театр уже опоздали, да и не принимал Жора многих нынешних пьес – в них фальшивили герои, говорили бесцветные слова, навыворот кроился материал жизни и белыми нитками была сшита интрига.
Оставалась заветная «Веревочка» на прилубянском холме. Там и пели, и плясали жарко, люди не чванились, каждый вел себя, как ему нравится, можно было и вкусно поесть, и хмельно напиться.
Марфинька во второй раз ехала в «Веревочку». Ее величали вместе с Жорой, а цыган в желтой рубахе пронес на кудрявой голове стакан вина и потом выпил за ее здоровье. В ее тогдашнюю скучную жизнь ворвалось что-то необычное, жуткое и опьяняющее. С «Веревочки» тогда и началось...
– Помянем Митю Фомина, – сказал Жора. – Все же был такой человек, был...
Марфинька осторожно спускалась по истоптанным ступенькам подвала, стесняясь взять под руку Жору и брезгуя коснуться сырых, сальных стен. На ней было новое платье из файдешина, предмет ее давних мечтаний, туфли из замши, такие, как у Наташи, и подарок Жоры – черные бусы из какого-то блестящего немецкого сплава.
Торговля была в разгаре. В переполненном ресторанчике держался крепкий настой табачного дыма, подгоревшего бараньего жира и алкогольных паров.
Никто не обратил внимания на ничем не примечательную пару. Ели, пили, запойно курили, беседовали надрывно, старались перекричать друг друга.
Первоначальное ощущение радости погасло, улыбка исчезла у Марфиньки. Она искоса присматривалась к посетителям. Потерялось чисто физическое ощущение своего нового платья, свежего белья. Стул, который ей пододвинули, был грязен. Чтобы не помять и не испачкать платья, Марфинька присела на самый краешек.
Старый официант с жирной спиной и брюшком, спрятанным под черным фартуком, небрежно выслушал заказ, хотя знал Квасова как тороватого клиента. При всей своей лакейской почтительности он в душе презирал таких нищих гуляк за то, что они напоказ тратят кровью заработанные деньги.
– Потом, друг, сочинишь пожарские котлеты, – барственно распоряжался Жора. – Мне – белой, даме – портвейна. Осетрину сжарить на шпаге, помидоры запечь... Нет, нет, салатов не надо. Огурцы принеси...
– Жора, хватит. – Марфинька раскрыла папку с меню, и цифры запрыгали перед ее глазами. – Жора, посмотри, сколько стоит у них огурец! Да разве так можно?
Официант улыбнулся Марфиньке:
– Вы это заметили верно. Огурец у нас в аккурат золотой.
Отпустив официанта, Жора удовлетворенно откинулся на спинку стула.
И вдруг он заметил «кузена Сержа». Будто сам дьявол сводил их в «Веревочке»! Сомнений не было, Коржиков сидел к нему спиной, стул к стулу. Все, что окружало Квасова, мгновенно как бы поблекло, но голоса стали резче, кабацкие запахи тошнее. За одним столиком с «кузеном Сержем» сидели два человека, ели судачью икру и пирожки. Графин был пуст, и они допивали полдюжину входившего тогда в моду крепкого ленинградского пива. Собутыльники Коржикова не были Жоре знакомы, и он, понимая всю сложность своего положения, решил хорошенько разглядеть и запомнить их. Один из них, сидевший напротив Коржикова, был представительный старик лет пятидесяти с аккуратно подстриженной седой бородой; второй – крепкий и сравнительно молодой человек в бостоновом темно-синем пиджаке, в расстегнутой сатиновой косоворотке, обнажавшей его белую, в отличие от загорелого лица, сильную шею. Тот же официант, который принял заказ Квасова, принес им заливные стерлядки и жаренный в соли миндаль.
Итак, неизбежное свершилось. Коржиков объявился, а что дальше делать, Квасов не знал. Во всяком случае, нужно остаться незамеченным. Жора съежился. Пересесть за другой стол? Поздно! Можно бы смыться, а как Марфинька?
Она чутко уловила перемену настроения в нем, погладила его руку и сказала, мягко глядя ему в лицо теплыми глазами: