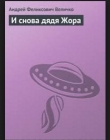Текст книги "Гамаюн — птица вещая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Как просто устраиваются люди! Уехали в чужую страну, за тридевять земель, и никаких у них сетований, отчаяния или грусти. Майер всегда улыбается, приветливо приподнимает шапку. Шрайбер невозмутимо заталкивает табак в короткую трубочку кривоватыми и гибкими, как у граверов, пальцами.
Мартин пьет и гуляет с девчонками, бродит по танцплощадкам клубов и презирает Россию за неуменье русских варить кофе, за варварское глаженье рубах и еще за что-то.
В другом доме тоже немцы. Каждая семья живет своим обособленным мирком. «Оттуда» приходит к Майерам только одна пара. Они тоже из Тюрингии: смуглый высокий Отто с усеченным подбородком (его считают красавцем) и Дора, невзрачная его жена с опасливыми жестами. Доре везде мерещится опасность, и она старается не заводить знакомств с русскими и молчит везде: в магазине, в трамвае. Даже в театре предпочитает сдерживать эмоции.
Для многих немцев Квасов являлся отдушиной; при его посредстве они изучали и оценивали жизнь советских людей, от которой были отгорожены сетью спецмагазинов, привилегированных квартир и заграничными паспортами. Квасов старался не уронить достоинства, хотя это давалось ему нелегко.
В этот вечер, засидевшись чуть ли не до полуночи у Майеров вместе со своим расстроенным другом, Квасов не сумел воздержаться и выцедил графин под тревожное завывание ветра и вздохи экономной Фриды. Квасов затащил Николая к Майерам, чтобы рассеять его.
– Почему ты такой никудышный, Колька? Чуть прихватило – и скис.
– Сам не знаю...
– Объясни мне или посоветуйся сам с собой. Иногда я так поступаю. И, знаешь, помогает. Я редко надоедаю людям печалями: все едино наткнешься на одни соболезнования... Тебе противны немцы? Но они живут лучше нас.
– Возможно.
Действительно, Николаю было обидно. Он даже не завидовал, а только удивленно присматривался к чистенькой квартире, к хорошей одежде, к спокойному образу жизни немецкой семьи. Майер вспоминал свои тюрингские горы, кроликов и коров, раскачивался в кресле, засовывал пальцы под подтяжки, тихонько смеялся, показывая чистые зубы. Уехал на заработки без всяких трагедий, копит валюту, вскоре вернется. Фрида навяжет в России сотню кофточек из немецкой шерсти и не потеряет ни в весе, ни в настроении. Дочки прозанимаются положенные годы в такой же школе, как в фатерланде, научатся русскому языку, уедут и забудут страну, приютившую их во время кризисной тряски. Они расскажут у себя на родине о русских, предпочитающих кофею водку, об их мятых рубахах, о нечищеной обуви, которую они донашивают до стелек, о тесноте в трамваях и о булыжных мостовых. Им так и не разобраться, почему с такой сермяжной исступленностью русские пытаются выгладить социальные шероховатости мира, вымостить дорогу к будущему, надрываются в спорах, придираются друг к другу и не замечают своих рваных сапог и скудной пищи.
Ничто пока не могло сблизить отставного крестьянского сына с пришельцами из чужой страны, хотя и он и они оторвались от гнезда и еще не приобрели прав оседлости. Забредший на огонек Шрайбер говорил о красотах вересковых долин близ Люнебурга, воспетых поэтами, приезжавшими туда для вдохновения. Он сам постарался показать оттенки цветущего вереска на шелковых нитках вышивки, натянутой на пяльцы. Одинокий Шрайбер тосковал о семье, называл себя коммунистом, помогал русским освоить тайну стекла, читал стихи, дирижируя опаленной кислотами старческой рукой, и растроганно сморкался в платок, сильно пахнувший одеколоном. Всем им было скучно в чужой стране. Но они продолжали есть ее картошку и рыбу и грелись у калориферов, согретых бурым подмосковным углем.
Нет, трудно еще во всем разобраться! Квасов уверял: в жизни самое главное – дружба, а остальное муть. Ему нравилось править эту повинность...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Наташа жила в том же районе, по Ленинградскому шоссе, всего через несколько остановок после «Стрельны», где сходил с трамвая Николай Бурлаков. В тридцатые годы за шатровыми башенками Белорусского вокзала только-только начиналось строительство. Сломали Триумфальную арку, утащили на ломовиках бронзовых коней и императора в лавровом венке, чтобы расширить магистраль, приобретавшую даже с чисто географической точки зрения все более и более важное значение для индустриального развития этого района столицы.
Нынешнему поколению, пожалуй, трудно вообразить, каким было Ленинградское шоссе в те годы, когда тот воистину грандиозный план реконструкции северо-западной московской окраины был только в зачаточном состоянии и наше шоссе мало чем отличалось от того знаменитого тракта, который привел на перекладных из Петербурга в Москву великого сына России А. Н. Радищева.
Давайте мысленно вернемся к тридцатым годам и бегло окинем картину, представлявшуюся глазам наших молодых героев.
Вскоре за Белорусским вокзалом, за кондитерской фабрикой и обозно-вещевым заводом, за стадионами тянулись улицы бревенчатых домов с крылечками, резными наличниками и петушками, с оконцами, в которых в межрамье была выстелена вата, посыпанная цветной бумажной стружкой. При виде этих рубленых домов с закопченными бревнами казалось, что сохранился пейзаж тех времен, когда из Тушинского лагеря грозился Кремлю Самозванец, летали пернатые стрелы и в натопленных избах Всесвятского села, сидя возле пузатых самоваров, ожидали царского приема посланцы дальних государств.
Всесвятское и Сокол, села северо-западных окраин, были окружены рощами и песками. А дальше, за Химками, начали строить большой канал Волга – Москва; неудержимо, со страстью первооткрывателей пробивали тоннели метро. Все происходило на глазах: великое и мелочное, общее и личное, любовь к отечеству и древняя как мир любовь к земной красоте женщин.
Бурлаков как бы вышел из круга, очерченного Квасовым. За этим кругом светил его сердцу новый человек – Наташа. Любовь очищала Бурлакова от грязи обычного существования, от мелочей, когда-то волновавших его. У них не было заранее условленных свиданий, они не передавали друг другу записок и не позволяли себе говорить о своих чувствах. Почти ежедневно, если не мешала вечерняя смена, они садились в один и тот же трамвай. Так от получки к получке незаметно бежали месяцы, и, наконец, в руках уличных торговок появились подснежники. В один из весенних вечеров Николай и Наташа возвращались домой после комсомольского собрания. Полупустой трамвай катился по светлым рельсам. Пустынные улицы пахли последним снегом и дымом котельных. Из булыжников, похожих на черепа, копыта ломовиков высекали искры.
Наташа сидела напротив Николая и глядела на него, уткнувшись в букетик подснежников, перевязанный ниткой. Тусклый свет верхних плафонов бросал на его лицо резкие тени. «Таким, вероятно, он будет в старости», – подумала Наташа, вспоминая рабочих железнодорожного депо – кузнецов и котельщиков, возле которых прошло ее детство.
Отклонившись, Наташа увидела своего спутника в более выгодном освещении. Нет, работа еще не успела изменить мягкие черты молодого лица. Скованность движений и застенчивость не вязались с его мужественной фигурой, с сильными кистями рук, еще не обезображенными физическим трудом, с броской осанкой, выработанной армией и спортом. Оба они были комсомольцы, на собраниях встречались на равных правах. А вот простые отношения не налаживались. Как и всякая женщина, послушная заложенному в ней инстинкту, Наташа чувствовала свою власть над Николаем. Ей хотелось как можно дольше владеть этой незримой властью, держать Николая вблизи и одновременно не слишком приближать к себе. Сколь долго могло так продолжаться, вряд ли ответишь. Но ей было приятно и лестно.
На Садово-Триумфальной площади в вагон ввалилась ватага развязных и шумных парней. Двое ребят бесцеремонно уселись возле Наташи и немедленно принялись изощряться в своих нежностях. Другие оттеснили Николая. И начался нелепый и неумный разговор, который нередко ведут молодые люди между собой, уверенные, что это признак хорошего тона.
Самый крикливый и наглый из всей компании, считавший себя, вероятно, неотразимым благодаря чубчику, выпущенному из-под кепки в форме модной тогда «запятой» обменялся местом со своим приятелем и очутился рядом с Наташей. Его глупые вопросы остались без ответа. Тогда парень попытался, будто невзначай, полуобнять девушку. Наташа отстранилась и глазами позвала Николая. Просьбу не пришлось повторять. Дело решили железные мускулы и один из приемов рукопашной схватки. Недаром же их чему-то учили в армии! «Неотразимый» молниеносно отлетел в сторону. Николай сел рядом с Наташей.
– Извините, Наташа, вначале я подумал, что они ваши знакомые.
Ватага пробиралась к выходу с таким видом, будто ничего не случилось.
– Вы всегда такой? – спросила Наташа.
– Нет, иногда бываю робок. Зайца боюсь... – отшутился Николай.
– Тогда почему сегодня вы храбрый?
– Сам удивляюсь... – Он вздохнул и виновато улыбнулся. – Вероятно, потому, что... я не хотел, чтобы эта бездельники измяли ваши цветы.
– Ах, вот как! – хорошо понимая его, сказала Наташа и протянула ему букетик. – Возьмите на память, Коля.
Николай смущенно пожал плечами и взял цветы. Ему вспомнились сбежавшие в овраги снега, поляны и на них сырые, бледные цветочки, первые посланцы проснувшейся земли. Подснежники вспыхивали на полянах и опушках, облученных солнцем, поэтому крестьяне и называли подснежники облу́чками. Он рассказал, что такое облу́чки, и снова забыл обо всем – мир замкнулся в тесный круг. Наташа и горсть облу́чков, желтая скамья и петля трамвайного ремня над головой.
– Я уже доехала. – Наташа заторопилась к выходу. – А вы пропустили свою остановку.
– Я провожу вас. Даже если вы не разрешите, я все-таки провожу вас...
Она подала ему руку. Так, не выпуская ее руки, он зашагал рядом.
Осторожно придерживая Наташу, Николай перевел ее по дощатым мосткам, перекинутым через широкий ров строящегося метрополитена. За мостками поднимался земляной отвал, протоптанный глубокими тропками, а за ним начиналась улица. Обычная сельская улица. Луна освещала деревья, уже набиравшие листья. Справа, в отдалении, возвышалась широкая железная труба. Из нее вылетали языки пламени, клубился жирный дым, какой бывает при неполном сгорании мазутного топлива.
– Завод, – объяснила Наташа, – там делают изоляторы. Когда ветер в нашу сторону, закрываем окна. И все равно не помогает. Белья нельзя вывесить. С детства меня преследует эта копоть.
Луна как бы переменила местожительство и теперь проталкивалась через оконные проемы недостроенных зданий; господствовал стиль унылого западноевропейского кубизма.
– Там строят жилой городок для студентов, – сказала Наташа, – а еще дальше – железная дорога.
В устье темной улицы угадывалось еще не тронутое строителями поле. Оттуда вместе с прелыми запахами оттаявшей почвы и курного угля доносились гудки и сиплое шипение пара.
– Мой дядя работал там кузнецом. – Наташа сбавила шаг, высвободила руку. – Он любил пить слишком горячий чай. Получил рак пищевода. Папа тоже был кузнецом, там же... – Она указала на поле, на мерцавшие за ним огни. – У вас родители живы. Вы счастливее меня...
– Не знаю... Я плохой сын.
– Иногда это только кажется...
От булочной, небольшого щитового домика с рубероидной крышей, свернули вправо и пошли почти по такой же улице, как в Удолине. Ни мостовой, ни тротуаров. Палисадники, огороженные заборами. И даже лаяли собаки – все, как в деревне.
Под ногами мягкая, сырая земля. Разбитыми зеркалами светились лужи.
– Вот и дошли. – Наташа остановилась у калитки бревенчатого старого дома. – Я живу у тети, Лукерьи Панкратьевны. Дом построили мои родители. После их смерти тетя взяла меня на воспитание.
Она попрощалась и быстро ушла. Железная труба продолжала дымить. В воздухе чувствовалась копоть.
От Всесвятского до Петровского парка Николай шел около часа. Окраины засыпали рано. Почти во всех домах погасли окна. Кое-где на углах маячили милиционеры. Возбужденные коротким свиданием, нервы понемногу успокоились. Сегодня что-то случилось. Что же? Если проверить, почти ничего. Случай в трамвае? Ну, что за невидаль! Парень попался хилый, да и вся компания жидкая. Пришлось погорячиться. Не грубо ли это могло показаться со стороны? Чуть что, в ход кулаки... Хорошего же Наташа останется о нем мнения!
Косые длинные тени прочертили дорожки. Пахло ранней весенней сыростью, старыми листьями, мокрой корой. Подснежники согрелись в руке и привяли. Парк незаметно перешел в улицу, такую же тихую, засаженную деревьями. Кое-где притаились парочки. Заслышав шаги, влюбленные начинали громко говорить неестественными, деланными голосами. Почему люди стесняются любви? Будто воруют свои самые лучшие чувства...
Дойдя до кирпичных столбов подворья немецких специалистов, Николай остановился. Только в квартире Отто светились два окна. Отто сегодня во второй смене и мог задержаться в литейке. Его имя склоняют на заводе вдоль и поперек так же, как и его ковкий чугун. В конце концов будет или не будет освоен ковкий чугун, его жена Дора никогда не ляжет спать раньше, чем вернется Отто. Она обязательно дождется его, накормит, узнает о работе мужа, посетует или порадуется. Отто всегда встретит понимание у своей жены. Может быть, в этом и кроется разгадка любви красивого Отто к некрасивой Доре.
Можно позавидовать такому семейному счастью. Но есть ли оно на самом деле, это счастье? Можно ли назвать счастьем отношения Ивана и Насти Ожигаловых, их закабаленную детьми и недостатками жизнь?
Какое будет собственное счастье у Николая? Растворится ли оно в многочисленных общественных обязанностях, будет ли ощущаться временами, в отдельные часы и минуты, или сконцентрируется в его жизни как нечто ощутимое не только одним сознанием, а всем его существом? Два освещенных окна, силуэт женщины за занавеской, постоянство, забота, отдых после труда, направленного на благо всех. В комсомоле смеются над канарейкой и уютом, хотя большинство не представляет себе, что же это такое, семейный уют, и ополчается на нераспознанного врага. Отто встретит женщина в мягком халате, с теплыми плечами. Но, вероятно, и Отто ценит в любви не только прыгающую крышку чайника.
С такими думами Николай переступил порог своего холостяцкого жилья. Открывшая ему дверь Настя захлопотала, быстро наладила керосинку. Пока за слюдяным оконцем мигал огонек, рассказала о своих заботах: старшенького «прихватило» (игрался с «немчатами», промок), напоила его малиной; младшенькому сменила вторую рубашонку.
Пили чай в прихожей, на табуретке, закусывали холодными пирожками с картошкой.
– Вы, Коля, не стесняйтесь, когда чего нужно, пожалуйста, – уговаривала Настенька и приподнимала брови.
На лбу собирались морщинки, много их и слишком ранние. Настенька героически дралась со всеми явными и мнимыми опасностями, проникавшими в любую щелочку, как борется большинство женщин; воспитывала двух детей, ждала третьего. И никого не упрекала. Она не отделяла себя от эпохи и все считала своим – и хорошее и плохое. У нее можно было поучиться терпению и нетребовательности.
Если немцам созданы лучшие условия – значит, так нужно. Кто же согласится ехать в чужую страну горе мыкать? Если нашим рабочим еще трудно живется, то кого же винить? «Сами начали, других подтолкнули, самим и до коммунизьма надо дело вести». Она произносила «коммунизьм» и свободно обращалась с этим высоким словом. Казалось, Настя была полноправной хозяйкой всех будущих благ.
Вышел Жора, в безрукавке и трусах, с папиросой за ухом. Прижмурился на свет, протянул письмо.
– Тебе, Коля. Плясать не заставляю. От сестренки.
Присел на табурет поближе к керосинке, закурил от нее папиросу.
– Как живет симпомпончик? – спросил он Николая.
– В Москву тянется. – Николаю не хотелось обсуждать с Жорой создавшееся положение уже хотя бы потому, что Жора называл Марфиньку пошлым городским словечком «симпомпончик».
– Она же не сама тянется, – сказал Жора. – Ты обещал. Заронил в нее надежду, теперь отвечай. Пусть едет...
– Куда? – Николай озлился. – Там у нее своя крыша, картошка, хлеб.
– Картошка? – Жора поморщился. – Любите вы, крестьяне, этим продуктом щеголять. Хоть медальон из картохи вешай на шею каждого пролетария. – Осторожно, чтобы не уронить пепел с докуренной папиросы, сказал: – Ишь ты, не сваливается пепел. Это правда, Настя, что в хороший табак льют натуральный пчелиный мед?
– Не знаю, Жора. Я сама на мед хоть бы глазком взглянула.
– Льют, Настя. И вот эта папироса видела мед. – Повернулся к приятелю. – Крышу для симпомпончика найдем. Поколдуем и отстоим ее право на существование.
– Пусть приезжает, – вмешалась Настенька. – Мы бы ее...
Квасов не дал ей продолжать.
– Святая вы женщина, Настя. Мы вас не обременим?
– Кто это мы? – глухо спросил Николай.
– Мы? – Жора пожал плечами. – Ты и я. Вместе – мы. Ты же советовался со мной, Коля. Помнишь? Я сказал: «Выписывай». Договорились не трогать ее до весны. Так и написали ей. Послушай. Бьет капель. Молоточками. Весна...
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Марфинька дождалась, наконец, весны. Сошли снега. Только зависшие на ивняках космы прошлогодней травы могли рассказать о высоте и силе паводка. Прилетевшие из Египта скворцы выгнали из своих домиков зимовщиков воробьев, крикливо отторжествовали победу и принялись за дело. Соловьи еще не начинали свадебных песен. Паровались сороки. Зловеще каркали вороны. На засохших макушках грачи выкладывали гнезда из прутьев.
Весна не навевала грусти, не смущала предчувствиями. Марфинька радовалась всему, приглядываясь к ярким краскам пробуждения природы. Она обнаруживала раскрывшиеся на березах листочки, наблюдала за сережками осин, замечала, как зеленела и светилась их сочная кора, а березовый подлесок на склоне оврага, еще недавно горевший сухим коричневым пламенем, вдруг становился зеленым и липким. Возбуждающие запахи набегали отовсюду, и хотелось идти с закрытыми глазами, широко раскинув руки, а еще лучше полететь, как во сне, бездумно и легко.
Председатель артели Михеев, занятый больше шитьем сапог, чем колхозными делами, все же заметил Марфиньку, бегавшую в поле, оценил ее физическую силу и приказал ей возить навоз. В распутицу от коровника в поле были пробиты глубокие дороги, и пока лошадь одолевала ухабы и тужилась на колеях, Марфинька успевала передумать о многом, мыслями облететь весь свет.
Покончив с навозом, веяли посевное зерно на гумне, протравливали и сушили, а потом вязали метлы из хворостяного березняка: рощу осенью свели под огороды. Метлы отправляли в Москву; и кто-то говорил, что идут они на металлургический завод «Серп и молот», для очистки окалины при прокатке металлов.
– Мама, я тоже хочу в Москву, – просилась Марфинька. – Хочу в Москву, маменька...
Ждали, пока оперится в городе Николай. Только после его положительного письма пошли хлопотать о Марфиньке. Председатель отложил в сторону фасонистый сапог, который ему заказал директор «Суконки», бывший буденновец, и, угрюмо суча дратву в смоляных пальцах, выслушал старого Степана Бурлакова, просившего отпустить дочку в Москву.
– Да что, там без нее не обойдутся, Степан? – Михеев бросил сучить дратву и швырнул на низенький сапожный столик пучок щетины. – Сына отпустили, теперь дочь. А кто ж Москву кормить будет?
– Так-то оно так, – согласился отец. – Только все едино с нашего куцего хозяйства такой огромадный город не прокормить. В артели и так людей избыток. Сам понимаешь, была бы недостача, разве ты нашел бы время на сапоги, Михеев?
– Не упрекай меня, Степан, – сказал Михеев мягче. – С этого кормлюсь. К тому ж во внеурочное время...
– Да разве есть у крестьянина неурочное время?
Перепалка могла бы зайти далеко, и не видать бы Марфиньке Москвы как своих ушей, если бы не крестьянская мудрость старого Бурлакова. Почуяв ссору, он перевел беседу на другое.
– Есть у меня, Михеев, валушок. Думаю сделать ему чик-чик. Приходи на свежинку. Моя старуха ладно все приготовит. И что ты предпочитаешь: переднюю или заднюю часть валушка?
– Заднюю, если уж говорить о валушке. – Михеев быстро пошел на попятную.
На другой же день, глуша стаканами первач-самогон и отдирая от костей куски мяса, будто присохшие стельки от сапог, он хвалил Марфиньку и знатно изжаренную баранину.
Через несколько дней Марфинька впервые в жизни держала в руках документ на свое имя, оформленный подписями и печатью. Отец наблюдал неприкрытую радость дочери без особого сочувствия, хотя и желал ей добра.
– Только, Марфа, веди себя правильно. Николай оформился, нет-нет да и оторвет от получки для дома. А ты больше думай о себе. Не норови сесть на его шею. Сразу берись за дело, пусть оно будет самое маленькое. И не балуй... Об остальном мать предупредит...
Несмотря на близкую разлуку, Марфинька повеселела, без понуканий ходила за коровой, чистила сарай, помогала по дому. Каждое утро она отправлялась на «Суконку» разносить молоко по квартирам инженеров. На базаре стеснялась торговать. Туда сходились девчата из общежития, считавшие себя более модными, чем деревенские. Были они без кос, с подкрашенными губами, тонкими, подбритыми бровями, разбитные и нестеснительные. Попав на фабрику, они сразу же усваивали новые привычки и почему-то с пренебрежением относились к девушкам из окрестных сел.
Эти девчата казались Марфиньке странными и чужими. Ни за что не променяла бы она село на «Суконку»: промывать, квасить шерсть, катать ее на барабанах, дышать кислым, отравленным воздухом, водить компанию с грубыми парнями-сквернословами – такими представлялась ей со стороны мужская часть молодежи с «Суконки».
Марфинька иногда принималась рассуждать сама с собой. «Как же ты бросишь родителей?» – «Поплачу и брошу». – «Жестокая ты», – обвинял ее внутренний голос. Другой голос звучал настойчивее: «Я стану лучше. Разве родителям хочется, чтобы я зачахла в селе?» – «Нехорошо, Марфинька, село не темница». – «Для меня хуже», – твердил первый голос, искушавший ее и не принимавший никаких доводов. «Ты странная... Ты всегда куда-то рвалась, даже в школе». – «А лучше быть привязанной к тычку?»
Когда кончался этот диалог, приходили томления. Набегали неясные чувства. Они были стыдные, но безраздельно овладевали ею. Ни один еще мужчина не встретился на пути Марфиньки, а она томилась. То ей чудились фабричные скалозубые парни с их непристойными шутками и разгоряченными в танце телами, то на грузовике проносились летчики с голубыми петлицами и в шапочках-пирожках, открывавших низко стриженные затылки, то в памяти вставал гармонист, однажды проехавший мимо нее на площадке товарного вагона; вслед за песней, разорванной стуком колес, этот гармонист послал воздушный поцелуй деревенской девчонке.
«Ты не любила еще никого?» – «Нет, пока не любила». – «Почему же до сих пор никто тебя не приметил? Разве ты хуже других?» – «Не знаю, не мучай меня...»
Неожиданно пришли заморозки. Холодные дожди задержали рост листьев. Пожелтели осины. На яблони напал цветоед, а за ним тля. Куда-то исчезли шмели. Огурцы пропали. Мать опускала в керосин выкопанных ею скользких твердых червей. Керосин их не брал. Только быстро росли крапива, щавель и лук-зимник.
Крестьяне всегда ждали от природы бед. Отчасти они смирялись, отчасти страдали от своего бессилия. Марфинька слышала, как ночью отец беспокойно ворочался на кровати, вздыхал, в темноте поблескивали его глаза.
Подруги завидовали Марфиньке, спрашивали:
– Тебе не страшно ехать, Марфинька? Круто меняешь судьбу.
– Нет, – отвечала она подругам, – чем круче, тем лучше.
– Куда ты наметила?
– Вот два письма от братишки, третье – от его друга. На завод устраивают.
Девчата перечитывали письма, жалели, почему друг брата не приложил фотокарточку, не написал, сколько ему лет.
– Молодой. Служил вместе с братом, – сообщала Марфинька.
– Красивый?
– Идите вы, девочки! Откуда мне знать?
– Марфинька, а не боишься – каждое утро гудок!
– Пусть! Не для меня одной.
– Свежего молочка там не попить.
– Не мне же одной. Там много людей. Хорошо, девочки, когда много людей. А у нас выйдешь – только Иван Чума и крутится, как бык на веревке. Тошно...
Земля будто не хотела принять семени. Неудачная весна. Убитые цветы фруктовников осыпались, как сажа. Озимки и те пожелтели. Прибывший на разведку трактор завяз по самые втулки, и его всем миром вытаскивали на большак. Мерзкая погода помогала Марфиньке не грустить перед разлукой. Родители собирали ее в далекую дорогу без упреков и увещеваний. Наконец настал день, когда мать поставила опару и напекла пышек в добавку к насушенным сухарям.
Марфинька радовалась, но ее радости не понимала мать.
– Доченька, идти надо, а чему смеешься? Там, на заводе, железо кругом.
– Пусть железо.
– Ничего у них не растет. Укроп и тот с рынка.
– Мамочка, обойдусь без укропа.
– Постираешь, а сушить где?
– Как же другие? —отвечала Марфинька. Даже эти доводы не смущали ее.