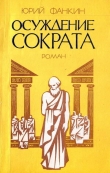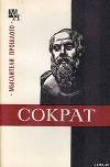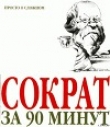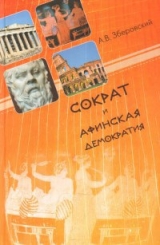
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Решив так, Сократ и его друзья тут же пришли к Феодоте и застали ее позирующей перед каким–то живописцем. Вся компания какое–то время рассматривала гетеру и восторгалась ею, а затем состоялся сам разговор между Феодотой и Сократом. В самом этом моменте есть два примечательных нюанса. Известно, что наиболее дорогостоящие афинские гетеры, даже являясь по своему определению «публичными женщинами», тем не менее вели довольно закрытый образ жизни и уж совершенно точно не пускали к себе шумные компании тех людей, у которых не было денег. Та легкость, с которой Сократ и его друзья зашли к Феодоте, должна была по меньшей мере означать следующее:
– Сократ был настолько известен в Афинах, что был вхож в совершенно любой дом;
– Феодота знала о том, что Сократ когда–то был хорошо знаком с эталоном всех гетер Эллады – гетерой Аспасией, по сути дела второй женой великого афинского стратега Перикла;
– сам Сократ поддерживал с Феодотой хорошие отношения;
– Сократ по–прежнему считался другом Алкивиада, Феодота знала, как много Сократ значил для Алкивиада, и потому дом подруги Алкивиада был для
него всегда открыт (даже в тот момент, когда она была занята с художником).
Даже в том случае, если в данной ситуации имели место все эти обстоятельства, представляется, что наиболее значимым был все–таки именно последний момент – личные отношения Сократа и Алкивиада. Соответственно, когда известие о посещении Сократом гетеры Феодоты облетело Афины и стало эпизодом светской хроники, связь Сократа, Алкивиада и Аспасии для многих афинян стала более очевидной.
Кроме того, важен и второй нюанс: отношения в Афинах к гетерам. Есть все основания полагать, что, несмотря на наличие в Афинах довольно значительного числа известных гетер, отношение к ним в гражданском коллективе было очень враждебным. Даже великому Периклу, в период своей многолетней бессменной стретегии, однажды пришлось плакать на Народном собрании и умолять граждан, чтобы они позволили вручить право афинского гражданства своему сыну от гетеры Аспасии Периклу, формально считавшемуся незаконнорожденным.
И тот факт, что Сократ не только не скрывал своих хороших отношений с прославленной гетерой Аспасией, но и регулярно напоминал об этом, для нас может означать только одно: Аспасия каким–то образом сыграла очень большое значение в судьбе самого Сократа. Причем, Сократ был ей за что–то так благодарен, что когда в 406 году до н. э. афиняне проголосовали за казнь ее сына от Перикла (Перикл–младший был тогда стратегом в битве при Аргинусских островах), только один Сократ осмелился выступить против обсуждения этого вопроса и даже сорвал сам ход голосования. При том что, как показывает его биография, Сократ никогда не интересовался ходом внутри– и внешнеполитических дискуссий, данное ревностное участие философа в судьбе сына Перикла от Аспасии означает только одно: Сократ считал себя кровно обязанным и этому роду, и лично Аспасии. И тот факт, что сына Перикла все равно казнили, не умаляет усилий Сократа: оставшись на Народном собрании в одиночестве, тем не менее он остался верен интересам семьи Аспасии – Перикла и показал себя человеком, помнящим добро.
Скажем больше: в «Домострое» Ксенофонта в качестве примера жены, знающей, как правильно вести хозяйство, Сократ приводит именно Аспасию и говорит о том, что он познакомит с ней Критобула и она сама расскажет о своем искусстве домоводства [18]. И само это приведение в качестве примера образцовой жены… дорогой проститутки(!) настолько противоречило нормам афинской общественной морали, что совершенно понятно: это не выдумка Ксенофонта, это еще один пример верности Сократа тому человеку, что оказал ему в жизни очень большие услуги.
Таким образом, у нас есть все основания полагать: продолжив после окончания школы свое образование, Сократ не просто стал слушателем таких великих мыслителей, как Анаксагор и Архелай (таких впоследствии канувших в Лету «просто слушателей» в Афинах было великое множество), но и волею судеб попал в тот элитарный афинский интеллектуальный кружок, который позже будет назван «кружок Аспасии – Перикла – Анаксагора». И можно быть уверенными в том, что именно дружба с Аспасией помогла Сократу избежать рискованного участия во множестве военных экспедиций, организованных ее мужем Периклом в 440–430‑х годах до н. э.
Судя по всему, именно близость к кружку «Аспасия – Перикл – Анаксагор» позволила Сократу не только получить, если можно так выразиться, «высшее философское образование», но и создать близкие отношения с юным воспитанником Перикла Алкивиадом. Тем самым будущим скандальным и амбициозным политиком и военноначальником Алкивиадом, что почти четверть века так или иначе будет определять политический курс Афин, а затем погибнет в Азии от рук наемных убийц, направленных к нему теми самыми «тридцатью тиранами», которые в этот же момент времени будут пытаться покончить в Афинах с учением Сократа и которые когда–то сами прошли у него обучение.
Алкивиад – вообще отдельная глава биографии Сократа, такая глава, которую можно легко развернуть в целую книгу. И именно поэтому мы оставим анализ этих взаимоотношений пока в стороне, обратившись к ним чуть позже. Сейчас, в рамках общего прорисовывания первых этапов биографии Сократа, стоит только еще раз подчеркнуть: У нас есть все основания быть уверенными, что так называемые «военные страницы» жизни выдающегося философа связаны исключительно с тем, что приближайшийся к сорока годам взрослый мужчина был настолько привязан к своему на пятнадцать лет более молодому другу–любовнику (мечтавшему о выдающейся военной карьере и сумевшему–таки стать великим полководцем), что решился сопровождать его на протяжении сразу нескольких военных походов.
С 432 по 429 год до н. э. афиняне осаждали Потидею, перед самым началом Пелопоннесской войны вышедшую из состава Афинского морского союза. Вместе со своим другом Алкивиадом, под стенами этой крепости оказался и Сократ, который запомнился всем присутствующим двумя вещами. Во–первых, Сократ, по словам Алкивиада, выносливостью превосходил не только молодежь, но и вообще всех. Как говорил в «Пире» Платона Алкивиад: «Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем насладиться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его заставляли пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным. Точно так же и зимний холод – а зимы там жестокие – он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо смотрели на него, думая, что он глумится над ними» [19].
Во–вторых, опять же во время того похода под Потидею, по сообщению все того же Алкивиада, Сократ как–то утром о чем–то задумался, и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем–то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы – дело было летом, вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом, помолившись солнцу, ушел [20].
Возвратившись в 429 году из–под Потидеи, Сократ вернулся к своему обычному философствованию вместе с Алкивиадом и своими друзьями. Однако, пока философ находился в длительном походе, Афины претерпели значительные изменения. Суть этих изменений заключалась в двух моментах: Во–первых, осенью 429 года до н. э. от чумы умер великий Перикл. После череды громких скандалов, таких как «Дело Фидия», «Дело Анаксагора», «Дело Аспасии», кружок афинских интеллектуалов прекратил свое существование. Наступило временное возвышение радикального демократа–кожевника Клеона, а вместе с этим торжество необразованного демоса. Свободно философствовать в Афинах стало довольно небезопасно, и потому на протяжении нескольких лет в Афины редко заезжали мыслители и софисты.
Во–вторых, после успешного похода под Пилос афиняне уверовали в быструю победу над Спартой и потому вплоть до своего разгрома в 422 году под Амфиполем (когда погиб и Клеон), все их мысли занимала только война и приближение победы. Мужчины и юноши были в походах, палестры и бани пустовали. Теоретические дискуссии о вечном были временно оставлены в стороне, главное значение имела только военная практика.
И вот, судя по всему, именно в этот самый переходный момент, если можно так выразиться «интеллектуального вакуума», когда одна интеллектуальная группа (Анаксагор, Архелай, Геродот, Фидий, Аспасия) прекратила свое существование, а другая (софисты Протагор, Горгий, историк Фукидид и т. д.) – еще не стала важным элементом общественной жизни, внимание афинян оказалось привлечено как раз именно к Сократу. Ведь волею судеб именно этот человек оказался первым из афинян, кто занялся философией профессионально, все остальные философы до этого являлись для Афин чужеземцами, приезжими, временными. И вот в начале двадцатых годов Сократ не просто оказался единственным профессиональным афинским философом, но и какое–то время вообще оставался единственным философом в Афинах. И интерес к нему тем более усиливался от того, что Сократ был другом яркого и эпатажного Алкивиада, постепенно начинавшего делать свою политическую карьеру и уже приближающегося по своей популярности к демократу Клеону, демагогу Гиперболу и аристократу Никию.
Итак, все оказалось вовремя и к месту. Войдя, благодаря дружбе с Аспасией в самые высшие и образованные слои афинского общества двадцатых годов V века до н. э., будучи как Луна Солнцем подсвеченным блеском Алкивиада, Сократ поневоле привлекал к себе внимание не только своей выдающейся (и удивительной для афинян) образованностью, но и особой внешностью и особыми подходами к жизни. Так, судя по всему, именно в двадцатые годы пятого века до н. э. Сократ оказался особенно уместен, он постепенно стал символом местного афинского мыслетворчества, стал для Афин фигурой по–своему знаковой.
Поскольку Алкивиад являлся в этот момент времени настоящим кумиром всей афинской молодежи, а молодежь страстно мечтала повторять путь успеха блистательного молодого политика, нет ничего удивительного в том, что в обществе сформировалось убеждение, что более десятилетия находящийся рядом с Алкивиадом Сократ – как раз и есть тот самый Учитель мудрости, без наличия которого Алкивиад никогда бы не достиг высот своей популярности. Так, еще одним авторитетом афинской молодежи постепенно становится Сократ, выгодно отличавшийся от приезжающих в Афины учителей софистики как своим постоянным наличием в городе, так и отсутствием платы за свое общение.
Размеренно поднимаясь вместе со своим сиятельным другом и учеником Алкивиадом на пьедестал сначала общеафинской, а затем и общеэллинской известности, Сократ вместе с ним принял самое непосредственное участие в военных походах 424–422 годов до н. э. К сожалению, и при Деллии в 424 году и при Амфиполе в 422 году афинская армия была разбита. Тем не менее, проявив себя как мужественный воин и счастливо избегнув ран, Сократ только увеличил к себе общественное уважение, и, достигнув к тому времени пятидесяти лет, вышел как воин на заслуженный отдых: отныне необходимость участвовать в военных походах ему больше не грозила.
С 422 года до н. э. Сократ мог безраздельно посвятить себя философии уже ни на что больше не отвлекаясь. Тем более, что этому благоприятствовало и другое обстоятельство: после гибели при Амфиполе в 422 году политического лидера Клеона, в Афинах начинается эпоха Алкивиада: претендуя на почти единоличное лидерство в принятии важнейших политических решений, уже повзрослевший Алкивиад постепенно отходит от Сократа, точнее, из–за своей занятости начинает общаться с ним все меньше и меньше. А между тем, как уже было сказано, рост авторитета Алкивиада в Афинах только способствовал повышению притягательности Сократа для амбициозной и интеллектуальной афинской молодежи. Во всяком случае и Платон, и Ксенофонт едины в описаниях того, как много родителей просили Сократа вразумить своих отпрысков и научить их доблестям государственного управления.
Так, примерно к 422–420 году до н. э. само историческое время подвело Сократа к тому, чтобы выйти на ту самую орбиту своей жизни, которую он уже не покидал до самой своей трагической кончины. Он был здоровым пятидесятилетним мужчиной, ему не было конкуренции по философской подготовленности, он был вхож в самые лучшие дома Афин, имел блестящего покровителя в лице Алкивиада, и если бы на месте Сократа был бы кто–то другой, то, вне всякого сомнения, мы получили бы великого основателя какой– либо философской школы, заработавшего на этом множество денег, сделавшего бы приличную политическую карьеру и активно прославлявшего бы самого себя в каких–либо высокомудрых высказываниях или риторических судебных речах.
Однако все это оказалось не для нашего Сократа. Как нам известно, он не пошел по пути, уже проторенному к тому времени основателями софистической школы Протагором и Горгием. Сократ оказался совсем иным. И в этой его сократовской своеобычности, как это обычно бывает в жизни каждого человека, сыграло свое значение сложная совокупность субъективного и объективного, внутренних посылов самого индивида и воздействующих на него внешних обстоятельств. И в итоге жизнь Сократа пошла именно по тому сценарию, который мы столь хорошо знаем благодаря Платону и Ксенофнту.
Итак, можно говорить о том, что как личность человек и философ Сократ окончательно сложился где–то в интервале 430–420‑х годов до н. э. Именно тогда он во всей своей величественности и простоте предстал не только перед Афинами, но и перед всей Элладой. Оставим Сократа детства и юности, рассмотрим Сократа эпохи его расцвета, увидим его таким, каким в возрасте сорока–пятидесяти лет его вдруг открыли современники, таким, каким он позже вышел на суд афинского общества. Поговорим об этом в следующей главе.
Глава 3. Зрелый Сократ глазами современниковОдной из тех проблем, с которой сталкиваются биографы великих людей, является то, что свою известность люди приобретают, как правило, в преклонные годы и, соответственно, в памяти современников и потомков они запечатлеваются уже в виде мудрых седовласых старцев, которым все человеческое уже совершенно чуждо. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Сократа: вызывая у всех ассоцииации с мудрым, но озорным стариком, он практически не представляется нам в каком–то другом, более молодом состоянии.
В связи с этим, следует заметить, что сами современники благообразным Сократа отнюдь не считали. По их мнению, Сократ был похож на тех мифических существ – силенов (полукозлов–полулюдей), какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой–нибудь дудкой или флейтой в руках. Особенно на сатира Марсия, который завораживал людей силой своих уст, а Сократ достигал то же самого эффекта без всяких инструментов, одними своими речами, потрясая и увлекая своих слушателей.
Алкивиад говорил: «Когда я слушаю его, сердце бьется у меня гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что, мне казалось – нельзя больше жить так, как я живу… Вот какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей флейты этот сатир» [1].
Действительно, будучи лысым, имея глаза навыкате, приплюснутый нос картошкой, к пятидесяти годам в определенной степени располнев, Сократ мог вызывать только улыбки у тех, кто, живя в славящихся своими спортсменами Афинах, привык видеть мужчин всегда подтянутыми и боеспособными. Однако Сократа комичность его собственного внешнего вида совершенно не смущала, и он по этому поводу даже все время иронизировал. Однажды он шутливо удивился, спросив у красавца Критобула, неужели он, Критобул, красивее Сократа. На что Критобул так же шутливо заметил, что он все–таки красивее Сократа, в противном случае, он был бы безобразнее всех Силенов в сатирических драмах [2].
Сократ не обиделся на это утверждение и шутливо доказал, что на самом– то деле он красивее многих, так как, если считать прекрасным то, что максимально рационально и наиболее подходит для того, чему данная вещь служит, то, выходит, что глаза навыкате Сократа могут видеть гораздо больше и шире, чем глаза тех, у кого они посажены обычным образом, приплюснутый нос с широкими вывернутыми наружу ноздрями не мешает глазам смотреть, а расширенные ноздри лучше обеспечивают улавливание запахов, а большой рот помогает больше откусывать [3].
Интересно и то, что Сократ, судя по всему, считал свою внешность каким–то образом связанной со своими выдающимися мыслительными способностями. Так, когда его друг Феодор однажды сказал ему о том, что среди афинских юношей есть некий Теэтет, который очень похож внешностью на Сократа – имеет такой же вздернутый нос и глаза навыкате, и при этом очень способный, Сократ тут же позвал этого юношу и начал его рассматривать и проверять его разумность своими каверзными вопросами [4]. В итоге Сократ оказался доволен мыслительным потенциалом этого юноши, и Платон позже даже создаст сократический диалог с таким же названием «Теэтет». Причем, судя по всему, и для Сократа, и для Платона сам факт наличия похожего на Сократа юноши Теэтета означало, что после их смерти нить разумности в Афинах не будет прервана – в городе еще имеются расположенные к умствованию юноши.
При всей внешней несерьезности, тело Сократа было крепко и выносливо. Подтверждением этому, по словам историка Элиана, служит то обстоятельство, что когда повальная болезнь (чума) косила афинян и люди умирали или лежали при смерти, один только Сократ остался здоров [5]. Впрочем, удивляться физической крепости Сократа не стоит: в конце концов, мы же знаем о том, что он участвовал, как минимум, в трех серьезных военных операциях, и вышел из них без единого ранения. Что в то время должно было означать не только физическую крепость человека, но и наличие у него значительного мужества. Того самого мужества, которое не покидало Сократа до самой смерти, и сообщения о котором донесены до нас Платоном и Ксенофонтом.
Так, у Платона о храбрости Сократа говорит прославленный афинский военноначальник Лахет, он говорит о том, что во время войны Сократ делает честь не только своему отцу Софрониску, но и своей родине. Во время бегства из–под Делия Сократ отступал вместе с Лахетом и, по его словам, если бы другие держались так, как Сократ, то позорного поражения тогда бы не было [6].
Бывший в этом бою вместе с Сократом Алкивиад добавляет: «А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военноначальники (под Потидеей – прим. автора), спас меня не кто иной, как Сократ. Не захотев бросать меня, раненого, он вынес с поля и мое оружие, и меня самого. А сам Сократ затем поддержал военноначальников присудить награду не ему, а именно мне, Алкивиаду…
Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья, когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от Делия. Я был тогда в коннице, а Сократ в тяжелой пехоте. Он уходил вместе с Лахетом, когда наши уже разбрелись. И вот я встречаю обоих, и, едва их завидев, призываю их не падать духом и говорю, что не брошу их. Вот тут–то Сократ и показал мне себя с еще лучшей стороны, чем в Потидее – сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. Насколько прежде всего было у него больше самообладания, чем у Лахета. Он, говоря словами Аристофана, «чинно глядя то влево то вправо», то есть спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, благодаря чему оба они благополучно завершили обход. Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки»
[7].
О личной храбрости Сократа свидетельствует также еще один эпизод, сообщенный нам Элианом. Однажды Сократ поздней ночью возвращался с пира, несколько отчаянных юношей, прослышав об этом, запаслись зажженными факелами и масками Эриний и устроили ему засаду, неожиданно выскочив на его пути. Однако, к их большому удивлению, Сократ не оробел, спокойно остановился и стал задавать вопросы, ровно так, как он привык это делать в Ликее или Академии [8].
Спокойствие и самообладание Сократа постепенно стали притчей во язытцах. Его жена Ксантиппа даже утверждала, что, несмотря на тьму перемен в городе и в их собственной жизни, Сократ, выходил ли он из дома или возвращался, сохранял всегда одинаковое выражение лица, так как свыкался со всем без труда, никогда не терял присутствие духа и не отдавал себя под власть печали и страха [9].
Описав Сократа как, по афинским меркам, на редкость некрасивого, но при этом очень мужественного и выдержанного мужчину, самое время сказать и о его финансовом положении. В связи с тем, что и Платон, и Ксенофонт застали своего учителя уже в возрасте, Сократ имел очень небольшой дом, расположенный непосредственно в Афинах и не совсем понятно, каким образом Сократу доставшийся. В этом смысле возможны как минимум три версии – наследство от родителей, подарок кого–то из друзей или приданное легендарной жены Сократа Ксантиппы. Однако вне зависимости о том, каким образом Сократ приобрел крышу над головой, несомненно одно: достатка в доме великого философа никогда не было.
Скажем больше: о неприхотливости Сократа в быту в Афинах слагали целые легенды. Так, Ксенофонт однажды сказал об Учителе: «Жизнь обходилась ему так дешево, что не знаю, можно ли мало так зарабатывать, чтобы не получать столько, сколько было достаточно для Сократа. Пищи он употреблял столько, сколько мог съесть с аппетитом, а к еде приступал с такой подготовкой, что голод служил ему приправой; питье всякое ему было вкусно, потому что он не пил, если не чувствовал жажды» [10].
Софист Антифон шутил, что Сократ живет так, что при его образе жизни ни один раб не остался бы при своем господине. Еда и питье у Сократа всегда самые скверные, гиматий у него скверный, и один и тот же он носил и зимой и летом, ходил всегда босой и без хитона [11].
Сам Сократ гордился своей бедностью, утверждая, что чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам [12]. А на одном из пиров Сократ обосновал свою приверженность бедности следующим образом: «Клянусь Зевсом, бедность – вещь приятная: ей не завидуют, из–за нее не ссорятся; не стережешь ее, – она цела, относишься к ней без внимания, – она становится сильнее» [13]. Когда кто–то заметил Сократу, сколь великое благо достичь того, чего желаешь, он возразил такими словами: «Еще большее, однако, не пытаться что–нибудь желать» [14]. По сообщению Диогена Лаэрция, Сократ говорил, чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам [15].
Однажды, заметив что его друг Алкивиад кичится своим богатством, а особенно принадлежащими ему землями, Сократ повел его туда, где в Афинах хранилась картина с изображением всего круга земного, и предложил найти Аттику. Когда юноша нашел, Сократ попросил его отыскать свои владения, а на слова Алкивиада: «Их тут вовсе нет», – сказал: «Смотри, ты гордишься тем, что не составляет и самой малой части земли» [16].
Когда его друг Критобул предложил Сократу оценить свое имущество, Сократ честно признал, что даже в том случае, если бы ему попался хороший покупатель, то за его дом и за все его имущество можно было бы выручить всего пять мин, что по афинским мерам было практически ничего [17]. Впрочем, и эти упомянутые пять мин кажутся в устах Сократа целым состоянием, если вспомнить, что когда на суде над Сократом решался вопрос о размере возможного штрафа, сам философ посчитал, что он в состоянии выплатить не более одной мины серебра.
Отсюда совсем неудивительно, что в «Домострое» Ксенофонта, произведении, специально написанном для того, чтобы учить молодежь правильному ведению хозяйства, Сократ честно признается, что поскольку он никогда не владел таким состоянием, на котором он мог бы изучить хозяйство, то прибыльно вести его он и не умеет [18].
Временами бедность Сократа доходила до такой степени, что однажды, когда он позвал к обеду богатых людей, то его жене Ксантиппе стало стыдно за скромность своего обеда. «Не бойся, – сказал тогда Сократ, – если гости люди порядочные, то они останутся довольны, а если пустые, то нам до них и дела нет» [19]. А когда как–то раз Сократ предложил Ксантиппе одеть его гиматий и пойти любоваться праздничным шествием, то Ксантиппа была возмущена этим протершимся одеянием. Но и тут Сократ не расстраивался, остроумно заметив: «Видимо, ты хочешь не смотреть, а чтобы на тебя смотрели» [20].
Тем не менее, живя в относительной бедности и, судя по всему, содержа свою семью за счет тех подарков, что регулярно отсылали в его дом друзья, Сократ не позволял этому потоку щедрости становиться особенно значительным. Так, когда во время какого–то праздника в Афинах Алкивиад из честолюбия послал Сократу чересчур богатые дары и Ксантиппа была поражена дорогим подарком и просила мужа принять его, Сократ сказал: «Пусть мы в честолюбии не уступим Алкивиаду и откажемся от всего этого» [21].
Когда позже Алкивиад предложил ему большой участок земли, чтобы выстроить дом, Сократ ответил: «Если бы мне нужны были сандалии, а ты предложил бы мне для них целую бычачью кожу, разве не смешон бы я стал с таким подарком?». А, по словам Диогена, глядя на множество рыночных товаров, Сократ часто говаривал: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить!» [22].
Бедность Сократа постепенно стала брендом, визитной карточкой философии, ее даже начали копировать. Однако сам Сократ считал это неправильным, и когда однажды он обратил внимание на то, что его ученик Антисфен (будущий основатель кинизма), копируя учителя, старается выставить напоказ дыры на своей одежде, он сказал ему: «Перестань красоваться» [23].
Не очень–то страдая от нищеты, Сократ утверждал, что бездеятельность – сестра свободы. В доказательство он приводил мужество и свободолюбие индийцев и персов, народов, которые весьма непредприимчивы, и, наоборот, в высшей степени оборотистых фригийцев и лидийцев, привыкших к игу рабства
[24].
В связи с этим, Сократ неоднократно высмеивал тех своих знакомых софистов, что зарабатывали много денег частными уроками с молодежью. В «Гиппии Большем» он смеется над Горгием из Леонтины, который, прибыв в Афины как посол, затем собрал с города большие деньги, уча молодежь. Также он язвил и над Продиком с Кеоса, который также заработал удивительно много денег, и тем самым оба эти софиста, равно как и начавший традицию собирать деньги за обучение мудрости Протагор, тем самым посрамили выдающихся мудрецов прошлого, которые до этого так и не додумались и учили всех бесплатно. Ведь, по мнению людей эпохи Сократа и Гиппия, мудрец прежде всего должен быть мудр для себя, а мудр тот, кто заработал больше денег [25].
А когда чуть позже один из учеников Сократа, Аристипп из Кирены, первым из его слушателей начал брать плату со слушателей и попытался отсылать деньги учителю, Сократ вернул их обратно и категорически запретил делать ему такие подарки, подчеркнув, что это ему не по душе [26].
Справедливости ради, следует заметить, что переоценивать бедность Сократа все–таки не следует. Определенный минимум благ он имел, доказательством чего является описанный Платоном пример, когда будучи приглашенным на пир к известному афинскому трагику Агафону, Сократ был одет в сандалии и умыт, в общем, выглядел вполне прилично [27].
Понятно и то, откуда брался этот минимум: Сократ имел множество весьма богатых друзей, и они, как это мы позже увидим и на суде над Сократом, всегда были готовы предоставить свои кошельки в распоряжение своего великого друга. Так, Диоген Лаэрций говорит о том, что зажиточный афинянин Критон с такой великой любовью относился к Сократу и так о нем заботился, что тому с молодости ни в чем не было нужды [28]. Он же передает любопытную ситуацию: когда философа Аристиппа стали упрекать за то, что он, последователь Сократа, в отличие от учителя, берет деньги с учеников, тот ответил: «Еще бы! О пропитании Сократа заботились лучшие граждане Афин, а о моем только раб Евтихид» [29].
На простоту и, так сказать, некую правильность жизни Сократа обращали внимание даже комедиографы, которые хотя и беспощадно критиковали его за специфику интеллектуальной деятельности, тем не менее отдавали должное его стремлению к внутреннему самосовершенству, самоограничению и постоянной борьбе за разумность буквально во всем. Так, по сообщению Диогена Лаэрция, даже последовательный и желчный враг Сократа Аристофан в одной из комедий писал о философе:
«Человек! Пожелал ты достигнуть у нас озарения мудрости высшей,
О, как счастлив, как славен ты станешь тогда среди эллинов всех и афинян,
Если памятлив будешь, прилежен умом, если есть в тебе сила терпенья,
И не зная усталости, знанья в себя ты вбирать будешь, стоя и лежа,
Холодая, не будешь стонать и дрожать, голодая, еды не попросишь,
От попоек уйдешь, от обжорства бежишь, не пойдешь по пути безрассудства» [30].
Не стоит удивляться тому, что будучи бедным и при этом категорически отказываясь заниматься хоть чем–нибудь, кроме философии, великий философ вряд ли являлся хорошим мужем и отцом. Согласно простым арифметическим расчетам, если учесть что в момент суда над Сократом его старшему сыну Лампроклу было около двадцати, а Софрониск и Менексен были еще маленькими, ясно, что в брак со своей сварливой Ксантиппой философ вступил где–то в возрасте чуть за сорок лет. Интересно, что именно на этот же возраст пришелся пик любовной привязанности к Сократу Алкивиада. И у Элиана даже содержится красочный рассказ о том, что однажды Алкивиад подарил Сократу большой красиво испеченный пирог, однако Ксантиппа сочла, что подношение, посланное любимым любящему, еще сильнее разожжет его чувства, и, по своему обыкновению разозлившись, швырнула этот пирог на пол и растоптала его ногами [31].