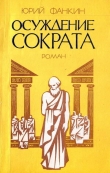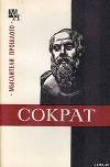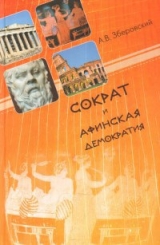
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
В этом фрагменте прений показательно то, что Сократ хорошо понимает социальную специфику своих учеников – это преимущественно сыновья самых богатых граждан, у которых больше всего досуга! И уже само это противопоставление, суть которого в том, что круг Сократа явно богаче и благополучнее, чем большинство граждан Афин в целом, как представляется, не могло не задеть судей, не могло не разбудить их «классовое чутье», столь характерную для демократических Афин социальную зависть.
Высказавшись по этому поводу, Сократ переходит в наступление и спрашивает Мелета о том, кто же по его мнению, тогда воспитывает афинское юношество правильно?
«Мелет отвечает: Афинские законы.
Сократ: Да не об этом я спрашиваю, любезнейший, а о том, кто эти люди, что прежде всего знают их, эти законы.
Мелет: А вот они, Сократ, – судьи.
Сократ: Что ты говоришь, Мелет? Вот эти самые люди способны воспитывать юношей и делать их лучшими?
Мелет: Как нельзя более.
Сократ: Все? Или одни способны, а другие нет?
Мелет: Все.
Сократ: Хорошо же ты говоришь, клянусь Герой, и какое множество людей, полезных для других. Ну вот они, слушающие, делают юношей лучшими или же нет?
Мелет: И они тоже.
Сократ: И члены Совета?
Мелет: Да, и члены Совета.
Сократ: Но, в таком случае, не портят ли юношей те, что участвуют в Народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучшими?
Мелет: И те тоже.
Сократ: По–видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
Мелет: Как раз это самое».
Дальше Сократ приводит житейское наблюдение о том, что обычно на лошадях ездят все, но улучшают лошадей только немногие, которые являются именно знатоками верховой езды, и это означает, что высказывание Мелета неправильно; такого, чтобы все улучшали афинских юношей, а портил их только Сократ, быть не может даже в принципе! Однако Мелет понимает, что Сократ является специалистом в проведении именно таких вот аналогий и предусмотрительно не втягивается в дальнейший разговор на эту тему.
И тогда Сократ (с нашей точки зрения, ошибочно) ставит перед Мелетом предельно жесткий вопрос и получает на него такой же предельно жесткий и однозначный ответ.
«Сократ: …Ну вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей намеренно или ненамеренно?
Мелет: Который портит намеренно» [27].
Этим сознательным обострением дисскуссии Сократ по сути поставил себя в очень уязвимое положение. Ведь сомневаясь в том, что присутствующие на заседании судьи и наблюдающие ход процесса простые афиняне могут научить юношество чему–то хорошему (в том числе искусству государственного управления), Сократ не просто их очень сильно обижал лично, но и шел вразрез тем обыденным представлениям, которые опять–таки великолепно отражены в вышедшей незадолго до суда над Сократом комедии Аристофана «Лягушки», где актер, обращаясь в антистрофе к хору, произносит буквально следующее:
«Постарайтесь изящней, помудрее говорить.
Если страшно вам, боитесь, что невежественный зритель
Не оценит полновесно ваших тонких, острых мыслей,
Попечения оставьте! Не заботьтесь! Страх смешон.
Здесь сидит народ бывалый,
Книгам каждый обучался, каждый правду разберет.
Все – испытанные судьи,
Изощренные в ристаньях,
Так не бойтесь, спорьте смело,
Состязайтесь. По заслугам Зрители оплатят вам» [28].
Так вот, это пресловутое «по заслугам зрители отплатят вам» теперь играло явно не в пользу престарелого философа. И потому не случайно, что Платон в своей «Апологии Сократа» несколько раз сообщает нам, что многие судьи во время выступления Сократа что–то возмущенно выкрикивали, и он был вынужден специально просить их дать ему договорить.
Оказавшись по сути дела проигравшим по обвинению в порче юношества, Сократ переходит к пункту обвинения его в безбожии и введении им новых богов. Тут Сократ справедливо замечает, что разве бы он мог всю свою жизнь говорить о наличии у него божественного голоса – демония, если бы он не верил в наличие собственно божественных сил? Конечно, же нет!
Тут Сократ уточняет свое обвинение в отсутствии веры в богов и спрашивает Мелета: «Скажи, пожалуйста, яснее и для меня и для этих мужей (судей): то ли некоторых богов я учу признавать, а следовательно, и сам признаю богов, так что я не совсем безбожник и не в этом мое преступление, а только я учу признавать не тех богов, которых признает город, а других; или же ты утверждаешь, что я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.
– Вот именно, я говорю, что ты вообще не признаешь богов.
– Удивительный ты человек, Мелет! Зачем ты это говоришь? Значит, я не признаю богами ни Солнце, ни Луну, как признают прочие люди?
– Право же так, о мужи судьи, потому что он утверждает, что Солнце – камень, а Луна – земля.
– Берешься обвинять Анаксагора, друг Мелет, и так презираешь судей и считаешь их столь несведущими по части литературы! Ты думаешь, им неизвестно, что книги Анаксагора Клазоменского переполнены подобными мыслями? А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда они могут узнать то же самое, заплатив за это в орхестре иной раз не больше драхмы, и потом смеяться над Сократом, если бы он приписывал эти мысли себе, и к тому же столь нелепые» [29].
Далее путем несложной логической операции Сократ великолепно выходит из ситуации и по сути снимает с себя обвинение в безбожии. Спросив Мелета, можно ли признавать все лошадиное и людское, а лошадей и людей не признавать, Сократ добился, что так нельзя, ибо одно без другого невозможно. Следующим вопросом Сократ выяснил, можно ли признавать божественные знамения, а гениев не признавать. Мелет согласился с тем, что признавать следует и то и другое. Тогда Сократ спросил, а не являются ли гении детьми богов, а раз являются, то разве можно обвинять Сократа, который всегда говорит о своем божественном голосе (даймоне), и при этом не признает бога, который породил этого гения [30]. Ответить на это что–то внятное Мелет так и не сумел.
Вкратце пройдясь по пунктам обвинения, Сократ затем переходит в контрнаступление и обозначает свое общественное значение. Сократ говорит судьям: «О мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас самих, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а вы меня можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого–нибудь.
А что я такой, как будто бы дан городу богом, вы это можете усмотреть вот из чего: похоже на что–либо человеческое, что я забросил все свои собственные дела и столько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, убеждая вас заботиться о добродетели» [31].
Оценка себя как овода, приставленного богом к лошади, пусть большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли, несомненно, отражает то истинное социальное значение, которым Сократ наделяет самого себя. Говоря современным языком, Сократ считает себя внутренним движителем своего общества, этакой его совестью, критикующей изъяны и пороки полиса, и тем самым понуждающей его изменяться и улучшаться.
Безусловно, сравнение Сократа поистине гениально, собственно, с него начинается история осмысления взаимоотношений интеллектуальных индивидов и общества в целом. Однако, оценивая это именно таком образом и поражаясь сократовской смелости и проницательности, следует отдавать отчет в том, что в контексте судебного разбирательства, данное сравнение звучало как некое обвинение полисного гражданства в неспособности самостоятельного движения к совершенству, как критика существующего строя, как обвинение стагнирующей демократии.
Последние моменты в понимании речи Сократа современниками, безусловно, усиливались тем, что тут же Сократ обвиняет то полисное большинство, что повинно в принятии плохих решений. Так, Сократ упрекает афинян за то, что они желали огулом осудить десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении при Аргинусских островах – судить незаконно, как и было затем впоследствии признано самими афинянами.
Тут, на контрасте с ошибающимся и морально слабым большинством, Сократ делает акцент на своей принципиальности и бесстрашии. Он говорит: «Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы были готовы обвинить меня и посадить в тюрьму, и вы сами этого требовали и кричали, – в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмой и смертью быть заодно с вами, желающими несправедливости (выделено автором).
Это еще было тогда, когда город управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и Тридцать, в свою очередь, призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели нам привезти из Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его… Только и на этот раз раз я опять доказал не словом, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться, – самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего беззаконного и безбожного – это для меня самое важное. Таким образом, как ни могущественно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить делать что– нибудь несправедливое, но когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправились на Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. И по всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось бы в самом скором времени» [32].
Специально подчеркивая свою отличность от большинства граждан, ставящих свою жизнь выше моральных принципов, Сократ отказывается упрашивать и умолять судей о снисхождении, приводить детей и множество родных и друзей, надеясь таким образом их разжалобить. И он сам тут же поясняет причину этого, причем оговаривается, что она может не понравиться кому–нибудь из судей, и этот человек, рассердившись, подаст в сердцах свой голос против Сократа. А причина такова: Это будет нехорошо ввиду пожилого возраста самого Сократа, это не красит родной город, но самое главное, Сократу необходимо оправдывать свое прозвище мудреца.
Сократ говорит: «Как–никак, а ведь принято все–таки думать, что Сократ отличается кое–чем от большинства людей; а если так будут вести себя те из вас, которые, по–видимому, отличаются или мужеством или мудростью, то это будет позорно. Ведь, по мнению Сократа, который говорит о том, что ему много раз приходилось наблюдать, как вполне почтенные люди во время суда над собой проделывали такие удивительные вещи, как будто они думали, что если суд их не осудит, они станут бессмертными, и лично он считает, что такое поведение позорит и самих людей, кто так себя ведет, и весь город» [33].
При этом, в процессе своего первого выступления, Сократ позволяет себе два высказывания, оцениваемые нами как явно ухудшающие его восприятие судьями. Так, говоря о том, что он не боится смерти, Сократ считает, что он отличается от большинства людей только одним: недостаточно зная об Аиде, Сократ имеет мужество признавать, что он об этом не знает [34]. И в этом он весьма близок к своему хорошему знакомому, софисту Протагору из Абдер, который был изгнан из Афин в 411 году за написание трактата «О богах», началом которого были следующие слова: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, – и вопрос темен, и людская жизнь коротка» [35]. А кроме того, известно и то, что у него есть специальный трактат «О том, что в Аиде». Так вот, данное высказывание Сократа вполне могло вызвать у граждан ассоцииации между взглядами Сократа и Протагора, что вряд ли было воспринято ими положительно.
Кроме того, объясняя свою странную публично–политическую пассивность, Сократ произносит следующее: «Может в таком случае показаться странным, что я подаю свои советы частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина этому та самая, о которой вы часто и повсюду от меня слышали, а именно что мне бывает какое–то чудесное божественное знамение. Началось это у меня с детства: вдруг какой–то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять меня к чему–то никогда не склоняет. Вот этот–то голос и не допускает меня заниматься государственными делами. И кажется, прекрасно делает, что не допускает.
Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, если я скажу вам правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому–нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве (выделено автором). Нет, тот, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен» [36].
И тут же, спустя несколько фраз, продолжает: «…Кажется ли вам после этого, что я мог бы прожить столько лет, если бы занимался общественными делами, занимался бы притом достойно порядочного человека, спешил бы на помощь к правым и считал бы это самым важным, как оно и следует? Никоим образом, о мужи афиняне! И никому другому это не возможно. А я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, насколько я в них участвовал, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь, вопреки справедливости, ни с теми, кого клеветники мои называют моими учениками, ни еще с кем–нибудь» [37].
По нашему мнению, данное заявление о том, что афинское демократическое большинство, а по сути дела правящий демос, несет в себе множество несправедливостей и беззаконий, в условии ведения суда как раз представителями этого самого демоса, просто обязано было стать для Сократа настоящей катасторофой.
Нет сомнений в том, что ставя в качестве некой «ударной точки» своего выступления принципиальное обличение демократического строя и того характерного для него большинства, участие в котором несовместимо с жизнью порядочного человека, Сократ явно рассчитывал вовсе не на оправдание, а на такое признание своей виновности, что, по мысли философа, еще раз со всей наглядностью бы и продемонстрировало ту самую беззаконность и несправедливость демократии, о которой он как раз и говорил. И можно представить себе то внутреннее удивление, что его ожидало после голосования судей по вопросу его виновности или невиновности…
Итак, после прений сторон, первый этап судебного процесса был исчерпан. Присяжные приступили к голосованию по вопросу о виновности обвиняемого. Причем, непосредственно перед голосованием, Платон, по сообщению Диогена Лаэрция, взобрался на помост и, по афинской традиции, попытался выступить в поддержку Сократа. Однако стоило ему начать говорить: «Граждане афиняне, я – самый молодой из всех, кто сюда всходил.», как судьи закричали: «Долой! Долой!» и он был вынужден прекратить свое выступление [38].
Оценивая же попытку выступления Платона, следует считать ее скорее сыгравшей в минус для Сократа, нежели в плюс. Все дело в том, что Платон являлся прямым родственником свергнутым афинским тиранам, Критий и Хармид были его дядями. Поэтому защита обвиняемого племянником тех, кто, наверняка были повинны в казнях родственников части судей, как раз и вызвала то самое фигурирующее в источниках раздражение в адрес Платона, которое не могло не сказаться на отношении и к Сократу.
Если же учесть тот факт, что еще один ученик Сократа, Ксенофонт, в этот момент времени находился в Персии, где руководил тем отрядом нанятых персидским царевичем Киром греческих наемников, что в итоге перешел на службу врага Афин Спарты. За свое лаконофильство Ксенофонт позже был лишен афинского гражданства, но уже в рассматриваемый период времени информация о том, что аристократический ученик Сократа проливает свою кровь за персидского царевича и спартанцев, автоматически ставила
Ксенофонта в один ряд с Алкивиадом, Критием и Хармидом. Таким образом, оба последних наиболее ярких учеников Сократа, Платон и Ксенофонт, как два камня на шее утопающего, объективно «топили» Сократа в глазах судей, делали его деятельность еще более социально подозрительной.
И тем не менее, результат голосования присяжных для многих оказался крайне неожиданным: при первичном голосовании за осуждение Сократа было подано всего 280 голосов, за оправдание 221 голос. Безусловно, этих 280 голосов для осуждения Сократа было вполне достаточно. Однако следует напомнить: первичное голосование присяжных лишь определяло, виновен человек или нет. Таким образом, чуть меньше половины афинских судей посчитали, что виновность Сократа так и не была доказана достаточным образом.
Действительно, если обратиться к тексту заявления в суд, то можно увидеть: из трех обвинений (Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, вводит новые божества, развращает юношество) реально доказанным оказалось только одно: Сократ действительно общался с афинским юношеством, точнее, по его словам, оно само общалось с философом. Вера же Сократа в богов, судя по всему, особых сомнений у присяжных не вызвала.
Однако доказанность связи Сократа с юношеством, благодаря остро поставленному Сократом вопросу о том, может ли имеющееся в Афинах демократическое общество учить молодежь, автоматически приобрела политическую окраску и оказалась достаточной для перевеса в пятьдесят голосов присяжных. С учетом же того, что вся эта политическая окраска судебных прений была инициирована самим же Сократом, становится понятно то удивление, что прозвучало в его речи после оглашения итогов первичного голосования.
Сократ сказал буквально следующее: «Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас случилось, тем, что вы меня осудили. Между прочим, и то, что это не было для меня неожиданностью. Гораздо более меня удивляет число голосов на той и другой стороне. Что меня касается, то ведь я и не думал, что буду осужден столь малым числом голосов, я думал, что буду осужден большим числом голосов» [39].
Тем самым становится очевидно: Сократ и не рассчитывал на успешный исход дела. Более того, он совершенно явно настраивался на то, что он будет осужден, демонстрировал свою готовность к этому, по сути планировал это, стремился именно к осуждению, а не к снятию всех обвинений. И судя по всему, именно поэтому стареющий философ так специально обострил разбирательство своего дела, сам сделал его политически острым, фактически превратил в свое собственное самоубийство.
После того как большинство присяжных гелиэи вынесли решение о виновности Сократа и о том, что его деятельность представляет социальную опасность для полисного строя, наступил второй этап суда: судьям предстояло вынести наказание. При этом, согласно афинским традициям, обвиняемый имел право сам предложить себе наказание. Однако, по словам Ксенофонта, Сократ заявил друзьям, что назначить себе штраф – это значит признать себя виновным, даже в случае минимального штрафа, запятнать свою репутацию. А на это Сократ, прожив долгую добродетельную жизнь, идти не собирался [40].
Поэтому, осознавая, что любые полумеры явятся для него крайне неудачным исходом дела, не имея возможности уже оправдаться полностью, Сократ снова искусственно взрывает ситуацию своим следующим пассажем о том, как он прожил свою жизнь, и на что за это имеет право рассчитывать на суде.
«Чему по справедливости подвергнуться или сколько я должен уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что ни старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не участвовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бывают в нашем городе, считая себя, право же, слишком порядочным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; за то, что я ни шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого из вас ни о чем раньше, чем о себе самом – как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо всем прочем таким же образом…
Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, чем получить даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии, верхом или на паре или на тройке» [41].
Что мы видим в этом рассуждении вслух? Мы видим то, что:
– во–первых, Сократ обижает большинство (то есть и самих судей), упрекая их в том, что они всю жизнь занимаются только решением своих меркантильных вопросов, а вот он, Сократ, стоит выше всего этого;
– во–вторых, называя себя слишком порядочным, чтобы участвовать во всех заговорах и восстаниях в городе, Сократ по сути определял как непорядочных всех тех, кто боролся с тиранией Четырехсот и тиранией Тридцати, тем самым фактически оскорбляя тех судей и присутствующих, что были в рядах борцов (а таких, скорее всего, было довольно много!);
– в-третьих, определяя свою деятельность не иначе как благодеяние по отношению к тем, кого он делал лучше, Сократ, тем самым подчеркивал низкий моральный уровень большинства афинского демоса.
Понимая весь подтекст выступления Сократа, становится неудивительным, что когда Сократ заявил, что по его заслугам, как для человека, всю жизнь занимавшегося воспитанием молодежи, вместо всякого наказания ему вообще положен пожизненный обед за общественный счет в пританее, что было особой почестью, назначаемой только для олимпиоников и почетных граждан города, это вызвало среди судей только шквал возмущения.
Оценивая ситуацию как критическую, присутствующие на суде друзья Сократа, Платон, Критон, Критобул, Апполодор, выражают готовность заплатить за него штраф. Тогда Сократ говорит судьям, что ввиду скудности своих средств лично он может уплатить всего одну мину серебра, а вот друзья могут отдать за него тридцать мин.
Лично оскорбленные поведением и оценками Сократа, еще 80 из присутствующих судей переходят в лагерь противников Сократа и таким образом, за смертную казнь высказалось около 360 человек [42]. Поскольку против казни и за назначение денежного штрафа высказался всего 141 судья, наказание для Сократа было определено в виде смертной казни посредством принятия в тюрьме традиционного афинского яда цикуты (цианистого калия).
Выслушав смертный приговор, друзья Сократа зарыдали. Однако сам философ, с выражением полного спокойствия на лице, обратился к судьям и присутствующим с последней полагающейся ему по закону речью. Начав с того, что он вполне мог бы оправдаться и избежать казни, но принципиально не стал делать этого, так как его моральные принципы выше самой смерти, Сократ произнес то, что имело значение не для него, как индивида, а для всего полиса в целом. По версии Платона это звучало так:
«…От смерти уйти нетрудно, о мужи афиняне, а вот что гораздо труднее
– уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные, – тем, что идет проворнее, – нравственной порчей. И вот я, осужденный, ухожу на смерть, а они, осужденные истиной, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они – при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и мне думается, что это правильно.
А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня настало уже то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать – когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тот час же за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, что вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличителей
– тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше» [43].
Версия Ксенофонта несколько отличается от платоновской в деталях, но сходится в принципиальном. По Ксенофонту, последняя речь Сократа звучала так: «Однако, афиняне, лица, подучившие свидетелей давать ложную присягу и лжесвидетельствовать против меня, и лица, слушавшиеся их, должны осознать свое нечестие и несправедливость. А мне почему чувствовать себя униженным больше, чем до осуждения, раз не доказана моя виновность ни в одном пункте обвинения? Не было обнаружено, что я приносил жертвы каким–то новым богам, вместо Зевса и Геры, и других богов, связанных с ним, или что при
клятве я называл других богов. А молодых людей как я могу развращать, если я приучаю их к перенесению трудов и экономии?
Что же касается преступлений, которые караются смертной казнью – святотатства, прорытия стен, похищения людей, государственной измены, то даже сами противники не говорят, что я в чем–то из этого виновен. Таким образом, мне по крайнем мере кажется странным, в чем вы усмотрели с моей стороны преступление, заслуживающее смертной казни. Но даже и несправедливый приговор не заставит меня чувствовать себя униженным: он позорит не меня, а тех, кто постановил его. Утешает меня еще и Паламед, смерть которого так похожа на мою: даже и теперь он вдохновляет поэтов на песни гораздо более прекрасные, чем Одиссей, виновник его несправедливой казни. Точно так же и мне, я уверен, засвидетельствует грядущее время как свидетельствует прошедшее, что я никого никогда не обижал, никого не испортил, а, напротив, приносил пользу людям, ведшим со мной беседы, уча их бесплатно, какому мог добру.
После этой речи он ушел; веселье выражалось в его лице, осанке, походке. Заметив, что его спутники плачут, он сказал: Вы, что? Вы только сейчас плачете? Разве не знаете, что с самого рождения я осужден природой на смерть? Да, если бы мне погибать безвременно, когда течет счастье, то несомненно нужно было бы горевать и мне и расположенным ко мне людям; если же я кончаю свою жизнь в ту пору, когда ожидаются в будущем разные невзгоды, то я думаю, что всем вам надо радоваться при виде моего счастья»
[44].
Поскольку Платон присутствовал на суде лично, а Ксенофонт отсутствовал, следует привести и те последние слова, обращенные к судьям, которые фигурируют у Платона и которые имеют для нас особую важность:
«Со мной, мужи судьи, случилось что–то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что–нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере так принято думать; тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, что бы я ни хотел сказать. Ведь прежде, когда я что–нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого–нибудь поступка, от какого– нибудь слова.
Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было бы благом»
[45].
Сделав это замечание, еще раз демонстрирующее нам полностью рациональное происхождение так называемого демония Сократа, порассуждав о том, что в загробном мире его ждут лучшие из прежде живших людей и полубогов, в завершение Сократ сказал: «Но вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога» [46].
Так завершился суд над этим удивительным человеком, во всеуслышание заявившим о том, что его нравственные ценности стоят значительно выше человеческой жизни даже в том случае, если эта жизнь – его собственная.
Оценивая данное событие с общечеловеческой точки зрения, можно вполне согласиться с высказыванием известного антиковеда С. Я. Лурье: «Введение конституции Клисфена в Афинах и аналогичные процессы демократизации в других греческих полисах передали всю власть в государстве народному суду присяжных и Народному собранию. Эти коллективы не состояли из образованных людей, специально подготовленных к решению государственных важных вопросов; они состояли из случайных рядовых граждан, которые не в состоянии были разобраться в юридических тонкостях… Эти люди из массы, претерпевшие столько притеснений в предшествующую эпоху от образованных аристократов, выставлявших себя благодетелями народа, относились с подозрительностью и недоверием к интеллегенции, которая, как правило, состояла из представителей привилегированных кругов» [47].
Однако, соглашаясь с С. Я. Лурье в общей оценке, как уже было сказано еще во введении к данной работе, нам представляется, что сведение «дела Сократа» только к противостоянию интеллектуального и высокоморального индивида с необразованной толпой, только сузит наше понимание значения Сократа как в истории Афин, так и в мировой истории, в том числе и скроет социальный смысл происходящего.