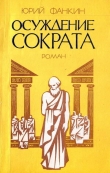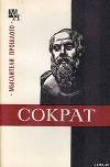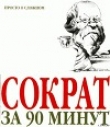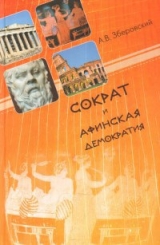
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Из данного пассажа Сократа совершенно очевидно то, что:
– начавшееся в 399 году до н. э. «дело Сократа» на самом деле имеет долговременную подготовку, фактически начавшуюся почти за четверть века до формального осуждения Сократа, причем этим стартом как раз и явилась комедия Аристофана «Облака»;
– через 25 лет после выхода «Облаков» Сократ не только помнит это произведение и легко его цитирует, но совершенно явно отдает себе отчет в том, что как раз эта комедия создала в Афинах именно то общественное мнение, которое позже оказалось благожелательным к травле философа.
В сумме это означает, что еще в момент выхода «Облаков» в свет Сократ сразу осознал всю опасность для себя той аристофановской трактовки своей деятельности, которая, с одной стороны, выражала традиционное для всякого малообразованного сообщества настороженное отношение ко всему новому и непонятному, а с другой – распространяло, культивировало и тиражировало в обществе заведомо искаженное, гротескное представление о творчестве Сократа.
Еще слишком хорошо помня, как десятилетие назад из Афин за атеизм изгоняли одного из его учителей – Анаксагора, очевидно, Сократ правильно оценил «Облака» как приглашение на казнь и, несомненно, предпринял какие– то действия, которые помогли ему успешно избегать репрессий на протяжении целой четверти века. Скажем, в 415 году до н. э. в Афинах был осужден и приговорен к смерти философ–атеист Диагор с острова Мелос. Он бежал из Афин, и это было тут же отражено в комедии Аристофана «Птицы»:
«Все вы слышали сегодня, как глашатай объявил:
«Кто преступника – мелийца Диагора – умертвит,
Золотой талант получит. Кто умершего давно Умертвит тирана, тоже пусть получит золотой» [38].
Однако, при всем этом, в ходе слушаний по делу Диагора, судя по всему, никому даже в голову не пришло привлечь к нему Сократа. И это на самом деле удивительно: ведь взявшись за Сократа в 423 году в «Облаках», Аристофан продолжал преследовать знаменитого земляка–мыслильщика на протяжении всей его жизни.
Выразив же сейчас мнение о том, что Сократ каким–то образом внес коррективы в свою деятельность после выхода «Облаков», следует все–таки попытаться понять еще и то, зачем Ксенофонт вставил столь неудобный для Сократа диалог с сиракузянином в свой «Пир».
Приближаясь к ответу на этот вопрос, зафиксируем еще раз: работая над этим произведением в рамках апологических «Воспоминаний о Сократе», Ксенофонт, во–первых, стремился доказать надуманность обвинений в адрес своего учителя, а, во–вторых, уже знал о том, что во время процесса Сократ сам неоднократно возвращался к неприятным последствиям для него постановки «Облаков» Аристофана. И вот, судя по всему, Ксенофонт пытается предложить свою собственную ситуацию в афинском обществе после выхода «Облаков». Можно предположить, что согласно его виденью:
Во–первых, глупые вопросы о том, что имеется в виду под словом «мыслильщик» задает Сократу вовсе не афинянин, а какой–то там чужак, заезжий иностранец–сиракузянин. Причем, после того как в 414–413 годах до н. э. в Сицилии под Сиракузами погибла целая афинская армия, понятие «сиракузянин» означало для афинян примерно то же самое, что и «враг народа». Соответственно, вкладывая вопрос к Сократу в уста врага, Ксенофонт объективно вызывал у читателя–афинянина сочувствие к своему соплеменнику, которому портит настроение явный недруг.
Во–вторых, тот факт, что сразу два друга Сократа, афиняне Антисфен и Филипп, с готовностью бросились защищать его от сиракузянина, должно было, по мнению Ксенофонта, показать, что общественная поддержка была все– таки на стороне афинского философа.
В-третьих, представляя эту ситуацию именно таким образом, делая ее мелкой деталью долгой веселой пирушки, Ксенофонт словно подчеркивал, что аристофановские «Облака» не смогли нанести Сократу серьзного ущерба, скользнули куда–то мимо, оказались сущей мелочью.
В-четвертых, даже пытаясь в целом завуалировать негативное влияние творчества Аристофана на судьбу Сократа, Ксенофонт не стал идти против исторической правды, и пусть в мелком эпизоде, все–таки показал то реальное минутное раздражение Учителя, которое было реакцией на тот вопрос, который благодаря Аристофану, судя по всему, философу задавался достаточно часто. И нет никаких сомнений в том, что, находясь рядом с Сократом, такие вот ехидные и язвительные вопросы в духе «а ля аристофан» сам Ксенофонт слышал неоднократно.
Таким образом, благодаря как авторской честности Ксенофонта, так и его стремлению защитить Сократа, великий философ предстает перед нами в его «Пире» скорее как человек, искренне огорченный тем, что в афинском обществе циркулируют такие представления о нем, которые не только не соответствуют действительности, но и представляют для него реальную угрозу. И понимая всю глубину и многоплановость казалось бы незначительного эпизода «сиракузянин-Сократ» из «Пира» Ксенофонта, любопытно сравнить его обозначение тематики «Сократ – Аристофан» с тем, что мы имеем в «Пире» Платона.
«Пир» Платона – описание уже совсем другой вечеринки–симпосиума, происходил, в отличие от «Пира» Ксенофонта, совсем в другое время и совсем в другом составе. «Пир» Ксенофонта описывает пирушку в доме богача Каллия, «Пир» Платона в доме афинского трагика Агафона. У Каллия присутствуют его любимец Автолик с отцом Ликоном, Сократ с учениками Критобулом, Гермогеном, Антисфеном, Хармидом, шут Филипп, кочующая театральная труппа, состоящая из сиракузянина, флейтистки, танцовщицы и мальчика– кифариста. У Агафона – Аристофан, Сократ с другом Аристодемом, Павсаний, Эриксимах.
Как и в «Пире» Ксенофонта, формально тема обсуждения – Любовь и Эрос. Однако, поскольку Платон сводит в одном месте и в одно время сразу двух непримиримых врагов – и Сократа, и Аристофана, было бы странно, если бы диалог носил сугубо отвлеченный характер. И Платон полностью оправдывает ожидания читателей: все то, о чем говорится в его «Пиру», имеет самое прямое отношение и к Аристофану, и к Сократу.
Но прежде чем начать цитировать Платона, следует сразу оговориться: «Пир» Платона был написан уже после смерти Аристофана, приблизительно между 480 и 470 годами до н. э. Платону было уже около пятидесяти лет, по меркам античного мира, это был уже взрослый человек, приближающийся к старости и обязанный вести себя величественно и спокойно. Горечь утраты Учителя за прошедшие с момента казни двадцать–тридцать лет уже в определенной мере ослабела, и потому Платон, в отсутствие и Сократа, и Аристофана, уже может совершенно произвольно оперировать своим литературным материалом, не боясь попасть под шквал критики с чьей–либо стороны. И вот здесь, в своей обычной непринужденной манере Платон производит то, от чего Аристофан, будучи живым, пришел бы в ужас: он вкладывает ему в уста то, что выгодно ложится на жизненый путь Сократа и противоречит взглядам самого Аристофана.
Напомним, что главной темой «Пира» Платона, так же, как и Ксенофонта, является любовь, олицетворенная греческим Эротом. И вот один из персонажей диалога, Павсаний, выступая, заявляет, что так же, как и Афродит – две, так и Эротов тоже два, небесный и пошлый. По его словам, пошлый Эрот – это как раз та самая любовь, которой любят люди заурядные. А такие люди любят, во– первых, женщин не меньше, чем юношей, а во–вторых, любят своих любимых больше ради их тела, а не души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только об удовлетворении своей похоти и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они и способны на что угодно – на хорошее и на дурное в одинаковой степени… А вот более мудрые мужчины любят только юношей, а не женщин, и только уже взрослеющих и только тех, в которых уже угадывается разумность. Причем, лучше любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и не так хороши собой [39].
При этом Павсаний делает очень интересную оговорку: «В Ионии и во многих других местах, где правят варвары, отдаваться поклоннику считается предосудительным. Ведь варварам, из–за их тиранического строя, и в философии и в телесных упражнениях видится что–то предосудительное. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданых рождались высокие помыслы и укреплялись помыслы и союзы, чему, наряду со всеми другими условиями, очень способствует та любовь (между мужчинами), о которой идет речь. На собственном опыте узнали это и здешние тираны: ведь любовь Аристогитона и окрепшая привязанность к нему Гармодия положила конец их владычеству. Таким образом, в тех государствах, где отдаваться поклоннику считается предосудительным, это мнение установилось из–за порочности тех, кто его придерживается, то есть своекорыстных правителей и малодушных подданных» [40].
Сразу за Павсанием восхвалять Эрота должен был Аристофан, но, по словам Платона, то ли от пресыщения, то ли от чего другого на него напала икота, так что он не смог держать речь и был вынужден передать слова своему ближайшему соседу Эриксимаху. В итоге его икота прошла только после того как он, по совету врача Эриксимаха, пощекотал себе в носу и несколько раз чихнул [41].
И вот тут необходимо сделать важное замечание. Представляется, что будь бы к моменту написания «Пира» Аристофан жив, от того, что сказал Павсаний, на него не только бы напала икота, но и он явно бы устроил всем присутствующим большой скандал, а возможно, даже и подал на них в суд. И все это потому, что во многих своих комедиях, последовательно играя роль сурового ревнителя прошлых нравов отцов и дедов, Аристофан очень жестко издевался над распространившимся в V веке до н. э. гомосексуализмом, причем особенно его возмущало создание традиции раннего привлечения к этому молодежи, юношей, которые были еще несовершеннолетними и ходили в школы–палестры.
Так, в антисократовких «Облаках» Аристофан заявляет, что раньше, до наступления эпохи Сократа:
«В гимнасии, сидя на солнце, в песке
Чинно–важно вытягивать ноги
Полагалось ребятам, чтобы глазу зевак срамоты
Не открыть непристойно.
А вставали, и след свой тотчас же в песке
Заметали, чтоб взглядам влюбленных,
Прелестей юных своих на нечистый соблазн не оставить.
В дни минувшие маслом пониже пупа ни один себя мальчик не мазал,
И курчавилась шерстка меж бедер у них, словно первый пушок на гранате.
Не теснились к влюбленным мальчишки тогда,
Лепеча, сладострастно воркуя,
Отдавая себя и улыбкою губ и игрой похотливою взглядов» [42].
Так что, после данной цитаты, реакция Аристофана на панегирик Павсания гомосексуализму, особенно малолетнему, более чем понятна… Тем более, что Павсаний определил всех тех, кто мешает развитию той любовной связи между не иначе как порочными, и по сути – антидемократами, казнившими тираноборцев Гармодия и Аристогитона (убивших афинского тирана за то, что он попытался разлучить их).
Более того, фраза: «В Ионии и во многих других местах, где правят варвары, отдаваться поклоннику считается предосудительным. Ведь варварам, из–за их тиранического строя, и в философии и в телесных упражнениях видится что–то предосудительное», прямо нацелена против Аристофана: выходит, что его стремление найти в философии Сократа что–то предосудительное, является ничем иным, как… варварством, причем варварством, имеющим под собой тираническую природу. Где уж тут демократу Аристофану не заикать!
Но на этом платоновское выворачивание Аристофана наизнанку не заканчивается. Получив, наконец, слово, вымышленный Аристофан придумывает оригинальную концепцию того, что раньше люди были трех полов: женского, мужского и мужчины–женщины андрогины, которых Зевс затем разрезал на две части. В итоге, эти половинки стремятся друг к другу по– разному: половинки андрогинов стремятся к противоположному полу, половинки мужчин – к мужчинам, женщин – к женщинам [43].
Причем, особенно интересно заявление Аристофана относительно мужчин: «Мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому; уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и юношей, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это – заблуждение: ведут себя они так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, храбрости и мужественности, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности (выделено автором). Возмужав, они любят мальчиков, и у них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен» [44].
Вложенная ему в уста мысль о том, что только мужчины– гомосексуалисты наиболее пригодны к государственной деятельности, однозначно повергла бы настоящего Аристофана в шок. Давайте вспомним еще раз его «Облака». В самый разгар спора, определив тех, кто подчиняется правилам Кривды – Сократа, как «толстозадых» (гомосексуалистов), Кривда жестко обращается к Правде с вопросом:
«Кривда: Ответь же мне, в собраньи судьи из каких?
Правда: Из тостозадых.
Кривда: Правильно! Поэты в театре из каких?
Правда: Из толстозадых.
Кривда: Народоправцы из каких?
Правда: Из толстозадых» [45].
Из данной цитаты мы видим, что и сам Аристофан отмечал, что среди судей, поэтов, актеров и демократов большинство – гомосексуалисты, но помыслить себе того, что заочно ему припишут не только апологетику этого явления, но и даже создание некой концепции, при всей своей неуемной фантазии, комедиограф вряд ли бы сумел. Так что, думается, можно прийти к однозначному выводу о том, что изображение Аристофана в «Пире» Платона:
– во–первых, явный гротеск, причем весьма обидный;
– во–вторых, Аристофана оценивают как варвара и тирана, боящегося философии и гомосексуализма как признаков античной свободы общества и человека;
– в-третьих, Аристофан полностью присоединяется к Сократу в вопросе полезности и значимости гомосексуализма для воспитания юношества (причем, очень важно, что высказывания Сократа об этом в «Пире» Платона практически на сто процентов совпадают с тем, что говорит Сократ в «Пире» Ксенофонта).
Совершенно понятно, что все это в корне противоречит тем взглядам Аристофана, что отражены в его творчестве. Таким образом, в своем «Пире» Платон по сути откровенно издевается над Аристофаном, делает его явным союзником того, против кого он так много раз жестко выступал.
Любопытно и то, что смелость Платона (как уже было сказано нами выше, очевидно продиктованная смертью Аристофана) позволяет ему вмешиваться даже в аристофановскую трактовку демонических сил. Сразу после того как в платоновском пире выступил Аристофан, слово берет Сократ. В частности, он заявляет: «Эрот – нечто среднее между бессмертным и смертным, это великий демон, нечто среднее между богом и смертным. Его назначение быть толкователем и посредником между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознагражденья за жертвы. Пребывая посредине, демоны заполняют промежуток между теми и другими, так что мир связан внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются с ними и беседуют только через посредство демонов – и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек, взысканный милостью демонов, а сведущий во всем прочем, будь то какое–либо искусство или промысел, просто ремесленник. Демоны эти многочисленны и разнообразны, и Эрот – один из них.
…Эрот – сын Пороса и Пении. Поэтому прежде всего он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, необут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах, и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но, с другой стороны, Эрот по–отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет рассудительности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный колдун, чародей и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и цветет, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает вновь. Все, что он ни приобретет, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни беден. Он находится также посередине между мудростью и невежеством. Эрот – это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть любителем мудрости, то есть философом, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой» [46].
Как мы видим, платоновский Эрот – это некий демон, который по своим повадкам очень напоминает нам Сократа, такого же нищего и тянущегося к совершенству. Но самое главное, устами Сократа, примерно в 380–470 годах, Платон говорит о демонах совершенно то же самое, что говорит о них Сократ Аристофана в «Облаках» 423 года до н. э. Давайте сравним еще раз:
Сократ Платона: «Эрот – нечто среднее между бессмертным и смертным, это великий демон, нечто среднее между богом и смертным. Его назначение быть толкователем и посредником между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознагражденья за жертвы. Пребывая посредине, демоны заполняют промежуток между теми и другими, так что мир связан внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются с ними и беседуют только через посредство демонов – и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек, взысканный милостью демонов, а сведущий во всем прочем, будь то какое–либо искусство или промысел, просто ремесленник. Демоны эти многочисленны и разнообразны, и Эрот – один из них».
Сократ Аристофана говорил по этому поводу так:
«Знай же (Стрепсиад) теперь:
Они (демоны-Облака) – это вот кто питает ученых,
И врачей и гадателей, франтов в кудрях,
С перстеньками на крашеных пальцах Г олосистых кудесников в круглых хорах,
Описателей высей надзвездных,
Вот кто кормит бездельников праздных, а те Прославляют их в песнях надутых».
И вот теперь самое время дать слово самому Сократу, который, как мы уже отмечали в главах выше, постоянно говорил о боговдохновленности поэтов, прорицателей и государственных людей, которым их творческую силу передают как раз боги, делая это примерно так же, как и даймон Сократа побуждает его к тем или иным действиям [47]. Вот оно, аристофановское: облака–демоны питают ученых, врачей и гадателей! И на самом деле, Сократ–то говорил об этом именно так!
Таким образом, очевидно: Вкладывая в уста Сократа веру в то, что силу творчества сообщают людям некие демоны–божества, отличные от общепризнанных божеств Олимпийского пантеона, Аристофан в «Облаках» на самом деле цитировал его близко к тексту. И только спустя полвека после выхода этой комедии, Платон решился честно показать авторство данной концепции и даже принудил уже почившего к этому времени Аристофана спокойно это выслушивать.
Все это вместе взятое позволяет нам прийти к выводу о том, что «Пир» Платона – это не только язвительный выпад против уже умершего комедиографа, но и в определенной степени, даже некая попытка примирить Сократа и Аристофана. Именно поэтому таким добродушием и обыденностью заканчивается платоновский «Пир»: «В окончание ночного пира все уснули или разбрелись по домам, остались только Агафон, Аристофан и Сократ, которые пили вино из большой чаши, пуская ее по кругу, а Сократ выступал с речью. Суть же беседы состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинять и комедию и трагедию, что искусный трагический поэт явлется также комедиографом. Оба по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну, и сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже рассвело, Агафон. Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он, Аристодем, по своему обыкновению, за ним последовал. Придя в Ликей и умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдыхать» [48]. Так в «Пире» Платона примирились Сократ и Аристофан, примирились на основе признания Аристофаном правоты Сократа.
Впрочем, описывая отношения между Сократом и Аристофаном, Платон выдавал желаемое за действительное. Так, почти через десять лет после выхода «Облаков» в 414 году до н. э. на Великих Дионисиях под псевдонимом «Каллистрат» Аристофан выставил свою комедию «Птицы». Это было время отправки Сицилийской экспедиции, успех или провал операции был еще не очевиден, и именно поэтому Аристофан не стал рисковать своим именем. Однако в комедии опять фигурирует Сократ. Глашатай обращается к основателю эфирного небесного города со следующими словами:
«О, основатель города эфирного!
Когда б ты знал, как у смертных славишься
И сколько у страны твоей поклонников!
Пока еще не основал ты города, все люди просто бредили лаконцами:
Они ходили грязные, заросшие, голодные и с палкой, по– сократовски.
Теперь на птицах все они помешаны,
И нам, пернатым, подражают с радостью.
Как сук для нас, так суд для них пристанище.
Корм ищут люди в чащах дел запутанных,
Купаются в пыли законов смертные.
Едва лишь утром после сна поднимутся.
Настолько сильным стало помешательство.
Даже имена у птиц берут они.
Один хромой торговец трясогузкою был назван,
А Меланиппа кличут ласточкой,
Стрижом – Филокла, Феогена – уткою.
А Херефонт – упырь, а Мидий – перепел» [49].
Назвав друга и ученика Сократа Херефонта упырем, Аристофан просто повторил свое высказывание в его адрес, сделанное целое десятилетие назад. А вот обвинение Сократа в том, что он грязен, волосат, ходит с палкой, голоден и, вообще, внешне выглядит как спартанец, было хоть и обидным, но удивить в Афинах никого не могло: в самый пик Пелопоннесской войны в Афинах хватало грязных и заросших, мужчин, подражающих спартанцам, также было хоть отбавляй. Так что на данную критику в свой адрес Сократ вряд ли бы расстроился.
В дополнение к данному описанию Сократа, чуть ниже, в «Птицах» Аристофан добавляет:
«Есть в странах зонтиконогих Неизвестное болото.
Грязный там сидит Сократ,
Вызывает души. Как–то За душой, ушедшей в пятки,
Прискакал туда Писандр.
Он верблюду молодому Перерезал горло бритвой,
Не Писандр, а Одиссей.
Стал он ждать. Упырь явился И припал к верблюжьей крови,
А упырь тот – Херефонт» [50].
И снова мы видим: вся критика Сократа сводится к тому, что он… грязный. Считать это серьезной критикой не представляется возможным.
Еще через десятилетие, в «Лягушках», поставленных Аристофаном в 405 году до н. э., уже очень близко к моменту суда над Сократом, герой комедии Эсхил (якобы великий трагик прошлого) говорит:
«Не сидеть у ног Сократа,
Не болтать, забыв про Муз,
Позабыв про высший смысл Трагедийного искусства, —
В этом верный, мудрый путь.
Слов громоздких и пустых
Г ородить забор воздушный
Празднословьем заниматься —
Это могут лишь глупцы» [51].
Таким образом, наш анализ отражения комедий Аристофана (и прежде всего «Облаков») в зеркале диалогов учеников Сократа Ксенофонта и Платона явно показывает:
– Аристофан самым активным образом участвовал в подготовке того негативного общественного настроя, от которого позже пострадал великий философ.
– В опасности данной деятельности Аристофана сам Сократ отдавал себе отчет с самого момента появления «Облаков», и первое время очень болезненно реагировал на искаженное представление о себе в афинском обществе.
Нет сомнений в том, что Сократ, как и всякий человек, обладал определенным самосохранением, в самый расцвет своей творческой деятельности (40–50 лет) он вряд ли желал стать жертвой неграмотного демоса. Соответственно, мы вправе предположить, что его рефлексия, явственно просматривающаяся в «Апологии Сократа» Платона, должна была каким–то образом проявиться в его деятельности, во всяком случае в изменении той ее части, что могла вызывать особое раздражение в обществе.
Наш собственный анализ биографической информации о Сократе и анализ текстов Платона и Ксенофонта позволяет предположить нам, как минимум, три следствия выхода «Облаков» в деятельности непосредственно Сократа:
– во–первых, Сократ принципиально не стал принимать участия в опасной для себя публичной политике, куда его какое–то время тянул Алкивиад, являвшийся в эти годы другом Сократа и активным афинским политиком;
– во–вторых, тот факт, что при всей своей принципиальной ненависти к Сократу, как к «развратителю молодежи и опасному новатору–атеисту», ни в одной из своих комедий, вышедших после «Облаков», Аристофан больше не описывает ни натурфилософские увлечения Сократа, ни якобы вводимых им новых божеств. Отныне в комедиях критика Сократа является весьма поверхностной, она касается исключительно образа жизни философа, который также представлялся определенной части афинского населения странным и отталкивающим. А это, с нашей точки зрения, означает, что Сократ существенно уменьшил частоту своих диалогов на натурфилософские и религиозные темы, сводя свои рассуждения больше к этическим и гносеологическим проблемам;
– в-третьих, Сократ явно какое–то время (до наступления своей старости) уменьшил свою откровенность с теми юношами, в надежности которых он мог сомневаться. И это выражается в том, что начиная с 422 года до н. э., в кружке Сократа практически не появляются юноши из социально чуждых философу не аристократических семей. А, кроме того, судя по всему, именно этим было вызвано и то, что Сократ с этого момента времени уже не говорит о своих учениках, употребляя только ни к чему не обязывающее понятие: «мои слушатели».
Таким образом, возвращаясь к вопросу о том, какова же была социальная направленность аристофановских произведений и какова была реакция на них как афинского общества, так и самого Сократа, можно увидеть следующее:
Афинское общество воспринимало Сократа как опасного нарушителя «мира с богами», вольнодумца, придумывающего новых богов, человека, способного отвращать детей от отцов, и вообще, заметно снижающего, если можно так выразиться, «качество» молодежи.
С учетом же того, что Афины вели затяжную войну, такого рода мировоззренческая порча молодежи грозила как внешними бедами (ухудшением физической боеспособности и падения боевого духа), так и бедами внутренними, социальными – уменьшением степени верности молодежи тем демократическим традициям, которым были верны те самые их отцы, авторитет которых подрывали рассуждения Сократа о том, что раз добродетель не передается от отцов к сыну, значит, и слушаться отцов, вроде бы как и не следует.
А поскольку афинский многотысячный афинский демос (в массе своей необразованный) вряд ли мог глубоко вникать в суть идей Сократа, то отвлеченные философствования великого Сократа были осмыслены демосом именно как опасные для его (демоса) социальной гегемонии, опасные для всего демократического строя. Таким образом, есть все основания полагать, что оценка Аристофаном Сократа вовсе не была личной, она отражала не просто глубинное непонимание деятельности Сократа малообразованным демосом, но и его прямое беспокойство за потерю своего господства в сфере идеологии, в сфере мировоззрения, осознанное решение, что все, не вписывающееся в рамки примитивно организованной афинской демократии, должно подвергаться травле.
Эта травля не состоялась в 422 году до н. э., сразу после выхода «Облаков», по причине того, что Аристофан, как это часто бывает с творческими интеллектуалами, сумел заглянуть в социально–политическое и идеологическое будущее Афин слишком далеко и потому не был понят своевременно. Однако, в отличие от необразованного демоса, немедленно отреагировав на опережающую критику Аристофана, Сократ сумел своевременно понять всю ту опасность, что сулили ему как сама трагедия Аристофана «Облака», так и та ее интерпретация в афинском обществе, что мы увидели в «Пире» Ксенофонта.
Правильно оценив тот опасный намек, что был подан ему в разговоре с сиракузянином, Сократ существенно изменил сферу приложения своего разума, полностью отказался от естественнонаучной тематики (которая у него, как у ученика Анаксагора, первоначально присутствовала) и сконцентрировался на моральной философии.
Таким образом, можно сделать вывод, что ярко выраженный морализм философии Сократа последних двух десятилетий его жизни – это в том числе стремление Сократа как бы выйти из под удара демоса, стремление избегнуть социального противостояния с теми, кто контролировал демократические Афины, стремление избежать участи Анаксагора и Фидия. Конечно, до конца этого сделать не удалось, и великий мыслитель позже все–таки стал жертвой необразованной и идеологически зашоренной гражданской массы. Однако те двадцать пять лет его творчества, что последовали за «Облаками» и общением на пиру у Каллия с неизвестным нам сиракузянином, позволили всему миру получить именно того Сократа, который навсегда вошел в мировую историю – мудрого, ироничного и неподражаемого, можно сказать, оказались почти подарком, некой «социальной форой», неожиданно для самого себя подаренной Сократу его недругом Аристофаном [52].
Завершая же эту главу и возвращаясь к нашей теме общения Сократа с молодежью, следует отметить, комедия Аристофана «Облака», правильно отразив факт большого авторитета Сократа у молодежи, верно показав демосу часть воззрений Сократа на богов и его натурфилософские увлечения молодости, тем не менее, так и не раскрыла суть его социально–философских и политических воззрений, не раскрыла то, собственно, ради чего и шла к философу молодежь.
Предполагая, что это досадное (для Аристофана) упущение так же явилось фактором, благодаря которому афинский демос не забеспокоился вовремя, и суд над Сократом был перенесен на четверть века позже, чем он мог бы состояться. Во втором, социально–философском, разделе данной работы мы попытаемся рассмотреть именно ту часть выскзываний и диалогов Сократа, которые либо имели явно выраженное политическое звучание, либо оказались такими мировоззренчески оппозиционными демократическому строю, что объективно стали частью идеологии оппозиционных демосу социальных слоев.