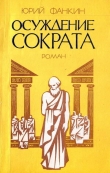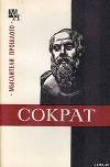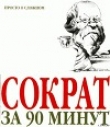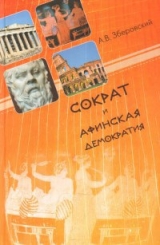
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Несомненно, что во всей этой концепции слышны отголоски личного жизненного опыта самого Ксенофонта. Будучи посвященным в тайны добродетели самим Сократом, он показался богам подходящим кандидатом на наделение его особыми управленческими талантами. Это Ксенофонт впоследствии демонстрировал всю свою жизнь, начиная от выдвижения в лидеры «десяти тысяч» наемников во время «Анабасиса» и заканчивая длительным нахождением вблизи спартанского царя Агесилая Великого.
Однако, поскольку «Домострой» самым тесным образом связан с личностью Сократа, а процитированный выше пассаж является как бы логическим завершением общения Исхомаха (то есть собственно самого Ксенофонта) и Сократа, то выходит, что Сократ как бы логически подвел своего собеседника к данному выводу о том, что в научении главное – божественный дар. А главным в Афинах по своевременному диагностированию и пробуждению этого самого божественного дара управления людьми методом маевтики, как мы помним, объявлял себя как раз Сократ. Вот и получается: Сократ по сути объявлял себя чуть ли не тем человеком, кто благодаря даймону знал волю божества, и потому имел особые права на создание в Афинах нового поколения политической элиты!
Судя по всему, именно за этим самым миропомазанием на власть и шли к Сократу такие наиболее амбициозные афинские юноши, как Алкивиад, Критий и Хармид. Ведь, получая от Сократа навыки профессионального ведения дискуссий и составления речей, они прекрасно знали то, о чем во всей Элладе говорили софисты Протагор и Горгий: «Способность убеждать словом составляет величайшее благо и дает людям как свободу, так равно и власть над другими людьми, каждому в своем городе» [36].
Идея Сократа о неавторитетности тех политиков, что оказались неспособны передать свои навыки управления даже своим детям, на практике легко превращалась в право молодых и амбициозных критиковать и даже высмеивать политических лидеров имеющихся. Так, по сообщению Ксенофонта, у Алкивиада, когда он уже был в возрасте примерно двадцати лет и уже год–два общался с Сократом, состоялся следующий разговор с Периклом:
«– Скажи мне, Перикл, – начал Алкивиад, – не мог ли ты мне объяснить, что такое закон?
– Конечно, – ответил Перикл. – Законы – это все то, что народ в собрании примет и напишет с указанием, что следует делать, а чего не следует.
– Какой же мыслью народ при этом руководствуется – хорошее сделать или дурное? – спросил Алкивиад.
– Хорошее, клянусь Зевсом, мой мальчик, – отвечал Перикл, – конечно, не дурное.
– А если не народ, но, как бывает в олигархиях, немногие соберутся и напишут, что следует делать, – это что? – уточнил Алкивиад.
– Все, – отвечал Перикл, – что напишет властвующий в государстве класс, обсудив, что следует делать, называется законом.
– Так если и тиран, властвующий в государстве, напишет гражданам, что следует делать, и это закон? – снова уточняет Алкивиад.
– Да, – отвечал Перикл, – все что пишет тиран, пока власть в его руках, и это называется законом.
– А насилие и беззаконие, – спрашивает Алкивиад, – что такое, Перикл? Не то ли, когда сильный заставляет слабого не убеждением, а силой делать, что ему вздумается?
– Мне кажется, да, – сказал Перикл.
– Значит, и все, что тиран пишет, не убеждением, а силой заставляя граждан делать, есть беззаконие? – спрашивает Алкивиад.
– Мне кажется, да, – отвечал Перикл, – я беру назад свои слова, что все, что пишет тиран, не убедивши граждан, есть закон.
– А все то, что пишет меньшинство, не убедивши большинство, но пользуясь своей властью, должны ли мы это называть насилием или не должны? – продолжил Алкивиад.
– Мне кажется, – отвечал Перикл, – все, что кто–нибудь заставляет кого– нибудь делать, не убедивши, – все равно, пишет он это или нет, – будет скорее насилие, чем закон.
– Значит, и то, что пишет весь народ, пользуясь своей властью над людьми состоятельными, а не убедивши их, будет скорее насилие, чем закон? – подлавливает его Алкивиад.
– Да, Алкивиад, – отвечает Перикл, – уже уловивший, в какую сторону разворачивает диалог Алкивиад, – и мы в твои годы мастера были на такие штуки, которыми, по–видимому, занят теперь и ты.
А Алкивиад на это сказал: Ах, если бы, Перикл, я был с тобою в то время, когда ты превосходил самого себя в этом искусстве» [37].
В данном пассаже отчетливо просматривается и сократовская критика необразованного большинства, которое как тиран заставляет жить по придуманным им законам людей состоятельных, и критика Перикла как политика, который состоит в услужении пользующегося властью демоса, явно не задумывающегося о том, что же такое закон, тиранящего состоятельное меньшинство, и даже не видящего необходимость убеждать его в правомерности тех или иных решений Народного собрания. А за всем этим видно и то неуважение Алкивиада к таким предшествующим ему нынешним политикам, что, как Перикл, так легко идут за колеблющимся то туда, то сюда необразованным большинством.
В своих «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонт писал: «Удивительным кажется мне также и то, что некоторые поверили, будто Сократ развращает молодежь – Сократ, который больше всех на свете обладал воздержанием в любовных наслаждениях и в употреблении пищи, затем способностью переносить холод, жар и всякого рода труды и к тому же такой привычкой к умеренности в потребностях, что, при совершенно ничтожных средствах, совершенно легко имел все в достаточном для него количестве» [38]. Однако, читая многие сократические диалоги, можно удивляться только удивлению самого Ксенофонта. Безусловно, Сократ учил воздержанности в любовных наслаждениях и в употреблении пищи, к умеренности и во многих других потребностях. И тем не менее, привносимое Сократом в сознание своих наиболее амбициозных учеников ощущение их избранности и предопределенности политического успеха, с нашей точки зрения, иначе как развращенностью назвать трудно.
В платоновском «Евтидеме», описывающем события 408–405 годов до н. э., Сократ знакомит молодого Клиния с двумя приезжими софистами, братьями Евтидемом и Дионисодором. По просьбе Сократа они демонстрируют свою ловкость в словесных перепалках и спустя какое–то время полностью запутывают и Клиния и его друзей. После этого начинаются обиды тех присутствующих, которые хоть и не согласны с оценками софистов, тем не менее не могут вести диалог с ними на равных и потому оценивают их деятельность по научению искусству красноречия и управления обществом как вредоносную, как уничтожение и порчу юношества. Заступаясь за софистов, Сократ говорит возмущенным афинянам следующее:
«Ктесипп, мне кажется, нам надо принять от наших гостей (софистов – прим. автора) их речи, коль скоро они желают их нам подарить, и мы не должны спорить с ними из–за их имен (имен, то есть определений – прим. автора). Если им дано так губить людей, что из дурных и неразумных они могут сделать достойных и благоразумных, то сами ли они изобрели это или от кого другого научились такому уничтожению и порче, с помощью которых они, разрушив скверного человека, воскрешают его хорошим, если они это умеют (а ведь ясно, что умеют: они заявили, что их недавно обретенное искусство как раз и состоит в том, чтобы делать дурных людей хорошими), то давайте уступим им в этом: пусть они погубят нам мальчика и сделают его разумным, а также всех нас. Если же вы, молодые, боитесь, то пусть опасность коснется меня, как это бывает с карийцами; ведь, поскольку я стар, я готов рискнуть и предоставить себя нашему Дионисодору как колхидской Медее. Пусть он погубит меня и, если хочет, сварит живьем и сделает другое что–либо со мной по желанию, лишь бы я только стал хорошим» [39]. А после этих слов Сократа устыженная молодежь говорит, что она ничего не боится и готова сама подвергнуться софистической экзекуции.
В этом платоновском диалоге «Евтидем» важно даже не то, что Сократ открыто предлагает афинским юношам пойти на некую порчу к заезжим иностранцам–софистам, а то, что в ходе полемики Сократ несколько раз подчеркивает свою мысль, что афинским юношам, раз они хотят чему–то научиться, следует обязательно измениться, стать другими [40]. И эти советы Сократа юношам легко идти на изменение тех своих ментальных подходов, что вырабатывались в них семьей, гимнасиями и палестрами, всем афинским обществом в целом, так же не могли не восприниматься его современниками (тем более во время тяжелейшей Пелопоннесской войны) иначе как развращение молодежи, превращение их в таких ментально и идеологически других, что могли становиться опасными для того политического строя их отцов, что являлся демократическим.
Отдавая должное высокой разумности поведения Сократа, можно не сомневаться, что сам философ понимал опасность своей деятельности не только для своего демократического общества, но и для себя лично. Так, в платоновском диалоге «Гиппий Больший», высмеивая стремление софиста Гиппия заработать на обучении молодежи умению красноречия и добродетели управления людьми, Сократ язвительно спрашивает его, почему же, часто бывая в Спарте, где граждане очень гордятся своим стремлением к добродетели, Гиппий так ничего и не заработал, философ получает весьма показательный ответ. Гиппий отвечает: «Виной всему то, что в Лакедемоне запрещено изменять законы и учить сыновей вопреки установившимся обычаям» [41].
Так вот, этим самым «учить сыновей вопреки установившимся обычаям и готовить их к изменению неразумных законов», с нашей точки зрения, как раз и занимался всю свою сознательную жизнь сын Софрониска. Занимался, не боясь того, чего убоялся даже один из самых активных софистов Эллады! Посвятив около сорока лет своей жизни ежедневному общению с наиболее активной и амбициозной частью афинской молодежи, Сократ на самом деле так существенно перестраивал их сознание в антитрадиционную и потому объективно антидемократическую сторону, что судебное определение этого как «развращение юношества и отвлечение его от отцов» довольно точно описывало имеющуюся ситуацию.
Отсюда неудивительно, что спустя какое–то время, данная деятельность Сократа, направленная на то, чтобы посредством своих маевтических бесед изменять мышление и взгляды афинского юношества так, чтобы они превращались в ментально других, попала под пристальное общественное наблюдение и даже была признана откровенно вредоносной. И самым первым случаем именно такой общественной оценки результатов общения Сократа с афинским юношеством стала знаменитая комедия «Облака» Аристофана.
Глава 9. Сократ в «Облаках» Аристофана: приглашение на казньРассмотрев в предшествующей главе специфику взаимоотношений Сократа с афинским юношеством, самое время еще раз подчеркнуть: одним из тех обвинений, которые впоследствии были предъявлены Сократу на суде, было как раз обвинение Сократа в так называемом «развращении молодежи», под которым подразумевалось: личное общение юношей с философом имеет своим следствием то, что они перестают уважать мнения своих отцов и ведут себя вопреки как их указаниям, так и общепринятым в Афинах нормам поведения, в том числе политическим.
В связи с этим, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что еще задолго до начавшегося в 399 году до н. э. «дела Сократа», Сократ был осужден и даже убит… в комедии Аристофана «Облака», увидевшей свет еще в 422 году до н. э. Причем, той главной причиной, что привела к виртуальной гибели Сократа, явилось как раз его общение с неким афинским юношей Фидиппидом.
Ввиду явного сходства этих двух разделенных целой четвертью века обвинений, напрашивается мысль о том, что итоговое обвинение 399 года до н. э. было, видимо, все–таки обоснованным, и Сократ действительно все эти годы продолжал свою кажущуюся столь опасной полису деятельность по проведению маевтических бесед с молодежью. Впрочем, данный факт не является для нас какой–то новостью – в главе выше мы видели, что сам Сократ никогда и не скрывал своего стремления общаться с молодежью. Примечательно другое: то, что будучи казненным в комедии Аристофана в 422 году до н. э., Сократ сумел после этого популяризовывать свои взгляды целых двадцать пять лет, вплоть до своего осуждения уже официального!
И в качестве авторской гипотезы хочется предположить следующее: то, что деятельность Сократа была пресечена так поздно, было связано как раз с тем, что «холостой выстрел» по философу – комедия Аристофана «Облака» – был произведен исторически и социально слишком рано, когда афинское общество в целом еще не смогло осознать всю социальную направленность и оппозиционность идей Сократа. И вовремя предупрежденный Сократ сумел правильно его оценить и таким образом перестроить свою деятельность, чтобы продолжать свои философские штудии без явного противопоставления себя и своих рассуждений демократическому демосу.
Соответственно, в рамках данной работы видится необходимость не столько рассмотреть саму антисократовскую комедию Аристофана «Облака», сколько понять как ее социальную направленность, так и реакцию на нее как афинского общества, так и самого Сократа. Причем, говоря о реакции на данную комедию Сократа, следует заметить, что она прямо противоречит мифу о полной отстраненности Сократа от всех окружающих его событий, отсутствие какой бы то ни было реакции на обидные для философа действия или слова [1]. Более того, она прямо противоположна высказыванию Диогена Лаэрция о том, что Сократ умел не обращать внимания на насмешников, а также утверждал: «Надо принимать даже насмешки комиков: если они поделом, то это исправит человека, если нет, то это его не касается» [2].
И вот на фоне всех этих свидетельств в биографии Сократа совершенным особняком стоит то описание поведения Сократа, которое имеется в «Пире» его ученика Ксенофонта, где великий философ, как нам представляется, впервые показан не готовым к ведению полемики на тему освещения своей деятельности как раз в «Облаках» Аристофана. Причем, к ведению полемики, как говорится, «на личную тему», к полемике относительно того, чем, собственно говоря, занимается сам Сократ.
Впрочем, обо всем по порядку. Итак, диалог «Пир» Ксенофонта описывает события 422 года до н. э., когда афинский богач Каллий устраивает торжество по случаю победы своего любимого мальчика Автолика на гимнастическом состязании. Наверное, все бы и ограничилось обычными для такого рода пирушек веселыми перепалками между гостями, если бы не одно важное обстоятельство: всего несколько месяцев назад в Афинах состоялись очередные театральные игры, на которых блестящий комедиограф Аристофан выставил свою антисократовскую комедию «Облака».
И вот в ходе пиршества у Каллия один из безымянных гостей, некий комедиант, прибывший из Сиракуз и обиженный на то, что собравшиеся практически не обращают внимание на его театральную труппу, неожиданно для всех присутствующих (как уточняет Ксенофонт, рассерженно) обращается к сидевшему рядом Сократу с целым рядом оказавшихся явно неприятными для него вопросов, которые являлись следствием того, что говорилось о Сократе в «Облаках», и которые могли бы прояснить для него: имела ли комедия под собой какие–то реальные основания, или же была от начала до конца язвительно–творческой выдумкой самого Аристофана.
В частности, сиракузянин спросил Сократа:
– почему его называют мыслильщиком?
– почему Сократ занят делами неполезными?
– в чем смысл приписываемого Сократу такого землемерия, когда расстояние измеряется в блошиных шагах?
Однако, для того чтобы стал понятен и социальный смысл задаваемых Сократу вопросов, так же, как и раздраженная реакция на них Сократа, самое время обратиться к фабуле самих «Облаков» Аристофана.
С нашей точки зрения, комедия «Облака» (показана в 423 г.) была создана Аристофаном как логическое продолжение двух предшествующих комедий «Ахарняне» (425 г.) и «Всадники» (424 г.). Известно, что Аристофан взял на себя роль выразителя интересов аттического крестьянства, составляющего большинство населения всего афинского полиса и в случае своей мобилизации доминирующего на Народном собрании [3]. Эта значительная социальная группа, гордившаяся победами своих гоплитов при Марафоне (490 г.) и Платеях (479 г.), потерявшая возможность заниматься земледелием на оккупированных спартанцами полях Аттики, больше всего страдала от тягот Пелопоннесской войны, и спустя почти десятилетие с ее начала, к моменту выхода «Облаков», откровенно недоумевала, почему афинские власти никак не могут разгромить врага.
В «Ахарнянах» Аристофан показал всю любовь простых крестьян к Родине и их желание идти в бой, во «Всадниках» продемонстрировал свое уважение к более богатому сословию всадников («есть всадников неустрашимых тысяча»), которые героически перенесли много битв и схваток не только на земле, но и на море, и зафиксировал: с учетом героизма и крестьян, и всадников, проблема Афин заключается в том, что ораторы– демагоги пользуются наивностью и необразованностью Народа, лгут ему на всадников, обманывают на заседаниях Народного собрания. В итоге, по словам Аристофана, «Народ речью опутан клеветнической, дерзкими обманут ухищрениями» [4]. А когда позже положительный персонаж комедии по имени Колбасник говорит Народу о тех многочисленных политических ошибках, которые тот делает по вине болтунов–ораторов, и Народ признается, что ему стыдно, то Колбасник утешает его словами:
«Твоей вины тут нет, не печалься, друг!
Повинны те, кто лгал и соблазнял тебя!» [5].
Таким образом, логика Аристофана в двух написанных им подряд комедиях проста: Основные составляющие афинского демоса – крестьяне, городские ремесленники и зажиточные всадники – все эти слои общества любят свой город и желают ему только добра. Однако афинским народом цинично манипулируют некие силы, которые профессионально опутывают его лживыми и льстивыми речами. Логика выхода из данной ситуации, согласно «Всадникам», проста:
Во–первых, Аристофан говорит о необходимости вернуться ко временам прошлого, когда народ делил трапезу с Мильтиадом и Аристидом, ходил в облачении прадедов древнем [6].
Как пишет он в эпирреме комедии:
«Восхвалить хотим мы нынче наших дедов и отцов,
Славы города достойных и покрова Госпожи.
Без числа в сраженьях пеших и, борясь на кораблях,
Побеждая, прославляли имя города они.
Силы вражьей не считали наши деды, в бой идя,
Но решали в яром сердце отразить и одолеть.
Если ж в битве и склонялись, то, как опытный боец,
Отряхали пыль, как будто, и не падали они,
И сражаясь побеждали» [7].
Во–вторых, во «Всадниках» Народ решительно заявляет: «Пускай молчат в Собранье безбородые!», имея в виду необходимость убрать с политической арены представителей молодежи, вроде Алкивиада, Хармида, Крития, рвущихся в то время в большую афинскую политику.
А когда Колбасник спрашивает его: «А где ж Клисфену речь держать и Стратону?», Народ отвечает следующим образом:
«Я говорю о мальчиках накрашенных,
Что так себе стрекочут, сидя рядышком:
«Феак велик, он спас себя умением,
Искусен, смел в суждениях силлогических,
Отличен риторически, типически,
Критически остер и полемически».
Колбасник спрашивает народ: «Ты малому насыплечь позадически?
Народ отвечает: «Нет, в поле погоню его охотиться,
Чтобы и думать позабыл о прениях!» [8].
Таким образом, по мнению Аристофана, важно вернуться во времена счастливого прошлого, когда не было демократов–демагогов типа беспощадно бичуемого им кожевника Клеона, когда у молодежи не было воспитываемых Сократом и софистами пресловутых «навыков суждений силлогических, риторических и полемических».
После представления публики «Ахарнян» и «Всадников», сделавших комедиографа очень популярным человеком, сама логика творческой деятельности подталкивала Аристофана к следующему шагу: очертив
социальную проблему, теперь следовало назвать «кто виноват?», и тут нарисовать выход из ситуации под названием «что делать?».
Останавливаться на достигнутом Аристофану было нельзя: Заняв первое место с «Ахарнянами» в 425 году до н. э. под псевдонимом Каллистрат, решившись впервые выступить под собственным именем в 424 году до н. э. с «Всадниками», Аристофан снова занимает первое место. И вот наступают великие Дионисии 423 года до н. э., на которые Аристофан снова выходит под своим собственным именем с «Облаками», видимо, даже не допуская сомнений о том, что ему может достаться какое–то другое, а не первое место.
И вот, очевидно, не понимая всей глубинной социальной сути, происходящей в Афинах общественно–политической трансформации, не осознавая постепенной смены социально–экономического строя Афин (что неизбежно приведет в будущем к смене политической надстройки общества), находясь в рамках своего собственного, видимо, несколько поверхностного восприятия действительности, Аристофан, наконец, наносит удар по тому, в ком лично он увидел рассадника словесных прений и ухищрений, человека, сбивающего с толку афинскую молодежь – наносит удар по Сократу.
Фабула аристофановских «Облаков», представленных менее чем за год до событий «Пира» Ксенофонта, незамысловата. Некий афинский гражданин Стрепсиад, страдая от долгов, сделанных нерадивым сыном (увлеченным бегами), решается пойти учиться жизни в некую мыслильню, в которой обитают мудрецы Сократ и Херефонт, утверждающие, что небо – это просто печь железная, а люди в этой печке, словно уголья, способные за деньги обучать людей выступать перед судом так, чтобы их кривда становилась правдой и всегда побеждала [9]. При этом сын Стрепсиада Фидиппид сразу определяет их как «негодяи бледнорожие, бахвалы, плуты, нечисть босоногая, Дурак Сократ и Херефонт помешанный» [10].
Войдя в «мыслильню», которая представляет из себя маленький дом самого Сократа, Стрепсиад узнает, что философ недавно совершил два важных научных открытия: научился измерять расстояние в блошиных шагах и выяснил, что писк комариный является следствием узости комариной утробы, через которую воздух с силой и звуком вылетает через заднее отверстие. Кроме того, по сообщению ученика Сократа:
«В полночный час, исследуя движение и бег луны, когда в полночный час стоял он рот разинувши, тут с крыши в рот ему наклала ящерка!» [11].
Помимо этого, ученик Сократа похвастался тем, что в случае отсутствия средств на ужин Сократ не гнушается тем, что приходит в палестры, отвлекает внимание людей мудреными геометрическими действиями… ворует у молодежи плащи, для последующей продажи [12].
Далее Стрепсиад с удивлением наблюдает, как ученики Сократа, рассматривая землю, якобы изучают глубины Тартара, а используя собственный зад как телескоп, так сказать, «считают звезды собственными средствами». Тут же обнаруживается и сам Сократ, висящий в гамаке, мыслящий о судьбе светил, гадающий о богах, изучающий их природу и боящийся делать это на земле, так как, по его объяснениям, «земная сила притягивает влагу размышления» [13].
В ответ на просьбы Стрепсиада научить его такой речи, которая помогла бы ему не платить никому долгов, Сократ предлагает ему вступить в разговор с Облаками, которых Сократ и его ученики почитают за богов и которые как раз и даруют мыслителям «мысли острые, силу суждения, красноречия жар, убеждения дар, говорливость и в речи сноровку» [14]. Кроме того, по словам Сократа, облака – это такая сила, которая питает ученых, врачей, гадателей, франтов в кудрях, с перстеньками на крашеных пальцах, голосистых искусников в круглых хорах, описателей высей надзвездных, бездельников праздных, а те в ответ прославляют облака в песнях надутых [15].
Тут же вызванные Сократом боги-Облака дают Сократу следующую оценку:
«Ты ж, священнослужитель речей плутовских,
Объясни нам, чего ты желаешь.
Никого так охотно не слушаем мы из искусников ныне живущих.
Одного разве Продика: мудрость его нас пленяет и гордые мысли.
Ты же тем нам приятен, что бродишь босой, озираясь направо, налево.
Ходишь чинно и важно, в лохмотьях, дрожа, вскинув голову, нас обожая»
[16].
Далее Сократ объясняет Стрепсиаду, что на самом деле никакого бога Зевса нет, есть облака, которые в силу совершенно естественных сил порождают и дождь, и гром, и молнию. Поэтому истинным мудрецам следует почитать и славить следующую священную троицу: Безграничного Воздуха ширь, Облака и Язык. И благодаря дружбе с облаками, мудрые люди, способные от пирушек уйти и из гимнасий сбежать, смогут достичь высшего счастья: силой речи своей побеждать на судах, на собраньях, в советах и спорах [17].
Боги – Облака благославляют Сократа на обучение Стрепсиада таким ухищрениям, которые помогут ему победить в судах и не платить долги. Выучившись у Сократа, Стрепсиад приводит к нему своего сына Фидиппида, борясь за право обучать которого, припасенные у Сократа Правда и Кривда в агоне вступают в борьбу между собой. Правда гордится тем воспитанием, которое было принято в Афинах раньше, и которое вырастило «поколение бойцов марафонских». По ее словам, раньше юношей учили стыдиться рыночного шума, ненавидеть цирюльни и бани, стыдиться безобразных поступков, уступать место старшим, не добиваться внимания танцовщиц, не перечить родителям, а вот сейчас все наоборот [18].
В ответ Кривда язвительно заявляет, что скромным быть неправильно, так как скромному стать славным невозможно, и призывает всех предаваться любовным похождениям, еде, мальчикам, сладостям, вину, играм в кости [19].
В самый разгар спора, определив тех, кто подчиняется правилам Кривды, как «толстозадых» (гомосексуалистов), Кривда жестко обращается к Правде со следующими вопросами:
«Кривда: Ответь же мне, в собраньи судьи из каких?
Правда: Из толстозадых.
Кривда: Правильно! Поэты в театре из каких?
Правда: Из толстозадых.
Кривда: Народоправцы из каких?
Правда: Из толстозадых.
Кривда: Видишь ли, свою нелепость понял ты.
Теперь из зрителей сочти, кто – большинство?
Правда: Клянусь богами, понял все. Из толстозадых большинство!» [20].
После этого разговора Правда признает себя проигравшей и убегает к зрителям. Стрепсиад отдает сына Фидиппида на обучение Сократу. Забирая его затем с учебы, Стрепсиад произносит фразу, которая не могла не задеть зрителей:
«Вы, глупцы, чего уставились?
Добыча для ученых, стадо темное,
Толпа – не больше, камни, кружки битые!» [21].
Далее Стрепсиад начинает применять полученные от Сократа технологии так называемой «кривой речи» и, действительно, успешно отбивается от своих кредиторов. Причем особенно показателен его ответ соседу-Аминию, которого он в ходе перепалки спрашивает:
«Скажи мне, друг, как думаещь, для ливней воду свежую
Зевс достает иль силой солнца старая
Вода обратно на небо взбирается?
Аминий: Не знаю и нисколько не желаю знать.
Стрепсиад: А правомочен разве деньги требовать
Невежда в философии и в физике?» [22].
Казалось бы, Кривда и ее комедийный апологет Сократ должны торжествовать: Стрепсиад так ничего и не возвращает своим кредиторам, наслаждается жизнью и новыми философскими учениями, однако неожиданно наступает развязка. И приходит она как раз оттуда, откуда Стрепсиад меньше всего ее ожидал: его избивает собственный сын Фидиппид, ссылаясь при этом на то, что отныне он может обосновать что угодно, в том числе и право детей избивать своих родителей, не считаясь с имеющимися законами.
Причем, выдуманный ученик Сократа Фидиппид при этом гордо заявляет:
«Наук новейших мастерством так радостно заняться
И научиться презирать закон, обычай старый!» [23].
Доведенный до отчания поведением своего теперь, благодаря усилиям Сократа, уже чересчур умного сына Фидиппида, Стрепсиад понимает, что выход из данной ситуации только один: пресечь разлагающую общество деятельность Сократа. Он ради Зевса призывает своего сына пойти наказать Сократа, однако Фидиппид по–прежнему настаивает на том, что Зевса нет, есть только какой–то Вихрь и лично ему, Фидиппиду, идти против наставника негоже. После этого Фидиппид уходит.
Тогда наступает развязка комедии, которую, исходя из задач данной работы, следует процитировать полностью:
«Стрепсиад: Ах я, дурак! Ах, сумашедший, бешеный!
Богов прогнал я, на Сократа выменял!
Обращается к статуе бога, стоящей на орхестре.
Г ермес, голубчик, не сердись, не гневайся,
Не погуби, прости по доброте своей!
От хитрословий этих помешался я.
Пошли совет разумный, в суд подать ли мне На негодяев, отомстить ли иначе?
Прислушивается.
Так, так, совет прекрасный: не сутяжничать,
А поскорее подпалить безбожников!» [24].
Наступает апофеоз комедии. Стрепсиад берет с собой слугу и поджигает мыслильню – дом Сократа и Херефонта. Когда, задыхаясь, оба философа выбегают из дома, Стрепсиад обращается к ним с заключительными словами:
«Зачем восстали на богов кощунственно?
Следы Селены вы зачем пытаете?
Слуге.
Коли, руби, преследуй! Много есть причин,
А главное – они богов бесчестили!
Дом обваливается.
Предводительница хора облаков:
Поспешайте, ступайте за мной!
А игра удалась нам сегодня на славу.
Хор и актеры покидают орхестру [25]
Итак, к моменту выхода комедии «Облака» в 423 году до н. э. Сократу было около 47 лет. Сократ уже был вполне узнаваемым человеком, когда–то входил в круг Перикла, общался с Аспазией, был учителем Алкивиада, Крития, Хармида. Примерно пять–семь лет назад, когда Сократу было чуть за сорок, уже случилась знаменитая поездка его друга Херефонта (названного Аристофаном в своей комедии помешанным) в Дельфы, в храм Аполлона, когда в ответ на вопрос о том, есть ли кто мудрее Сократа, пифия изрекла: «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же – мудрейший из всех людей». Однако пик известности Сократа был еще только впереди, по имеющейся у нас информации, многие из тех, кто лично присутствовал на постановке комедии, Сократа еще не узнавали, особенно чужестранцы.
Частично недостоверная информация о ходе постановки «Облаков» содержится в «Пестрых рассказах» Элиана. Так, он сообщает следующее: «Давно известно, что Анит и его стороники преследовали Сократа и замышляли против него. Не будучи уверены в сочувствии граждан и не зная как они отнесутся к тому, если Сократ будет обвинен по суду (ведь он пользовался славой, между прочим, и за то, что обличал несостоятельность знаний софистов и бесполезность их речей), решили сначала опозорить его имя клеветой.
…Что же они придумали? Уговорили комического поэта Аристофана, великого насмешника, человека остроумного и стремящегося быть остроумным, изобразить философа пустым болтуном, который слабые доводы делает сильными, вводит каких–то новых богов, а в истинных не верит, склоняя к тому же всех, с кем общается. И вот Аристофан берется за эту задачу: расцвечивает все остротами, облекает в хорошие стихи и делает мишенью для издевки мудрейшего из эллинов (ведь ему следовало представить не Клеона, не лакедемонян, фиванцев или Перикла, а мужа, любезного всем богам, а особенно Аполлону). Так как увидеть Сократа на комической сцене неслыханное и удивительное дело, «Облака» сначала привлекли внимание своей необычностью, а затем вызвали восторг афинян, ибо те от природы завистливы и любят высмеивать людей, выдающихся на государственном и общественном поприще, а еще охотнее тех, кто прославился мудростью или добродетельной жизнью. Театр как никогда прежде рукоплескал Аристофану, зрители громко кричали, требуя признать за «Облаками» первое место, а именем поэта открыть список победителей. Вот так возникла эта комедия.