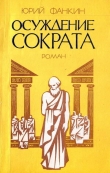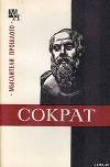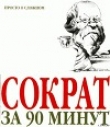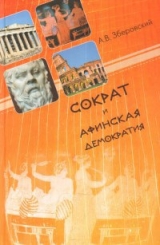
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Мы уже достаточно много говорили об этом периоде. Обострившаяся с началом первых поражений в Пелопоннесской войне открытая социальнополитическая борьба между наступающими социальными низами и стремящимися отстоять свое вековое право на политическое лидерство аристократами и богачами, словно волны штормящего моря, швыряет афинскую демократию из стороны в сторону, от радикального охлократизма кожевника Клеона до аристократической стабильности Никия, от тиранических устремлений Алкивиада и Крития до в целом центристской позиции тирании Четырехсот. Однако, так же как и морские волны, все равно устремляются все– таки в сторону берега, так и это политическое буйство постепенно увлекало Афины в сторону такой демократии, которая, формально сохраняя внешнее сходство с предшествующей демократией аристократической (демократией сознательного социального равенства и разумного социального партнерства), постепенно меняла свою внутреннюю «социальную начинку», становилась демократией уже охлократической, временами завуалированной, а временами и совершенно нескрываемой диктатурой афинских социальных низов.
Можно допустить, что тезис Сократа о том, что управленческая доблесть не передается по наследству, в этот период времени вполне отражал и воззрения постепенно переходящего в политическое наступление афинского демоса, который находил в этом полезное для себя обоснование критики излишнего аристократизма афинской политической системы эпохи до реформ Эфиальта – Перикла, и стремился подчеркнуть, что он имеет не меньше прав на политическую власть, чем те, кто возводил свою родословную еще к Тесею, Эгею и Г ераклу.
Социально востребованным явно оказался и тезис Сократа о богоизбранности отдельных высокоинтеллектуальных индивидов, самими богами (и соответствующими Учителями) выдвинутыми на управление обществом. Понимая, что их аристократический класс в целом проигрывает, и вернуть его гегемонию могут только сверх–личности, оттеснившие демос путем установления единоличного господства, такие персонажи, как Алкивиад, Критий, Хармид, Калликл и многие другие, с удовольствием взяли его на вооружение, не забывая награждать своего духовного наставника щедрыми дарами.
Судя по всему, эти отдельные, частично полезные для эпохи идеологической борьбы тезисы, которые легко вырывались противоборствующими сторонами из общего этического контекста мировоззрения Сократа, в течение какого–то времени скрывали общую оппозиционность идей философа, направленную явно против то постепенного, то стремительного усиления социально чуждого для него необразованного демоса. Кроме того, в тридцатые–двадцатые годы V века до н. э. социальные низы Афин еще не обладали всей полнотой знакомства с идеями Сократа и потому не могли оценить их общей опасности и для своей власти.
Надо полагать, именно из–за этой гениальной торопливости Аристофана, сумевшего еще заранее распознать всю опасность учения Сократа для гегемонии толпы–демоса, а также из–за того, что в среде судей на театральных выступлениях еще было слишком много таких аристократов, чьи дети учились у Сократа и доносили до них социально «свою» позицию Учителя, плюс Сократ в это же время участвовал в военных походах, оппозиционный философ и сумел спастить от судебных преследований в столь трудном для него 422 году до н. э., году выхода «Облаков».
Однако исторический вектор был уже неумолим. Афинская демократия эпохи расцвета, словно постепенно теряющая всю свою внутреннюю энергию крутящая юла, все больше заваливалась на бок и билась из стороны в сторону, постепенно фиксируясь в положении «полная деморализация аристократов и богачей, физическое истребление гоплитского среднего класса и усиливающееся политическое доминирование социальных низов». Осознавая свое историческое поражение, наиболее думающие представители аристократов и зажиточных всадников еще и еще раз пытаются выбрать из мировоззренческого арсенала Сократа то, что может пригодиться им в идеологической борьбе с демосом.
Так, одни беспощадно критикуют избрание полководцев–стратегов голосованием большинства, не смыслящего толком в военном искусстве (Лахет, Перикл–сын). Другие, используя сократовский тезис о богоизбранности тех, кому предназначено править, развивают его и доказывают, что эти люди вполне имеют право и проявлять насилие над остальными гражданами, не ведающими добродетели (Критий, Калликл, Ксенофонт). Третьи (как и сам Сократ) по–прежнему критикуют афинские правящие толпы и их неспособность принимать правильные решения простым большинством голосов за профессиональную непригодность и некомпетентность необразованных стратегов (типа обвинителя Сократа – демократа Анита).
В итоге, чаще всего сталкиваясь не столько с учением самого Сократа, сколько с его творческим антиохлократическим (что тогда объективно означало – антидемократическим) развитием, афинский демос начинает все больше и больше проникаться ненавистью к самому Сократу, чьи гуманистические этические идеи, трансформируясь в идеологию обороняющегося класса аристократии и богачей, постепенно превращались в боевое знамя самых различных социальных сил, оппозиционных демократии–охлократии.
И говоря об этом, нам не следует думать, что Сократ был совершенно не причастен к такому развитию событий. Как всякий умный и адекватный человек, судя по всему, он прекрасно видел и понимал социальную суть происходящего и морально был все–таки на стороне уходящего в прошлое социально и ментально близкого ему аристократического класса. Не принимая непосредственного участия в классовых битвах, тем не менее, он и не отговаривал от участия в них тех, кто был к этому морально готов. И именно поэтому источники не содержат никакой принципиальной социальномировоззренческой критики Сократом Алкивиада, Крития или Хармида.
Показательна и ситуация с «Анабасисом» Ксенофонта: опасаясь, что общение с персидским царевичем Киром может повредить Ксенофонту в глазах государства, так как считалось, что Кир усердно помогал лакедемонянам в войне против Афин, Сократ посоветовал ему направиться в Дельфы и попросить бога относительно того, можно ли его ученику Ксенофонту уехать из Афин. По прибытии в Дельфы, Ксенофонт спросил Аполлона, не то, можно ли ему уехать, а какому богу он должен принести жертву и вознести молитву, чтобы со славой и пользой совершить задуманное путешествие и благополучно вернуться. Аполлон вещал ему: принести жертву богам, как положено в подобных случаях. По возвращении Ксенофонт рассказал о пророчестве Сократу. Выслушав его, Сократ стал укорять Ксенофонта за то, что тот не спросил бога, следует ли ему ехать, но, решив сам с собой, что ехать надо, спросил только о лучшем способе совершить путешествие. Однако, – сказал он, – раз уж ты именно так поставил вопрос, надо исполнить приказание бога. Итак, Ксенофонт принес жертву согласно повелению бога и отплыл сражаться сначала за интересы персидского царевича Кира, а затем за Спарту, причем и персы и лакедемоняне были ярыми врагами Афин [2].
Всмомним еще один факт. По словам обвинителя Мелета, Сократ часто цитировал место из Гомера о том, что Одиссей, встречая воина знатного рода, предлагал ему быть лидером и садиться не с народом, а на своем почетном месте, а вот если встречал громко кричащего мужа из народа, то скипетром его ударял и грозно бранил его: «Сядь, злополучный, недвижно и слушай, что скажут другие, те, кто мудрее тебя, ты ж негоден к войне и бессилен, и никогда ни во что не считался в бою, ни в совете». И эти стихи, по словам Мелета, Сократ толковал в том смысле, будто поэт одобряет, когда бьют простолюдинов и бедняков [3].
Комментируя же это место обвинения, Ксенофонт заступается за Сократа такими словами: «Однако на самом деле Сократ говорил, что людей, ни словом, ни делом не приносящих пользы, не способных помочь в случае надобности ни войску, ни государству, ни самому народу, особенно если сверх того они еще и наглы, необходимо всячески обуздывать, как бы богаты они ни были» [4].
И, как нам представляется, даже такого рода защита явно свидетельствует о том, что Сократ действительно считал необходимым социально и политически обуздывать тех, кто не имел собственного комплекта тяжелого вооружения и плохо разбирался и в больших финансах и в большой политике.
Таким образом, считая, что власть не должна попадать к тем, кто не прошел соответствующего жизненного пути, не имел должного элитарного образования, был беден и потому падок на сиюминутные меркантильные обещания демагогов, Сократ, хоть и исподволь, завуалированно, опосредованно, руками своих учеников и собеседников, на самом деле, все равно принимал участие в той жесткой борьбе за власть, что разгорелась в Афинах в последней четверти V века до н. э. А поскольку он находился на стороне исторически проигравшей, оппозиционной постепенно берущим власть в свои руки социальным низам, неудивительно, что хоть и с небольшим опозданием, но кара победителей не минула и самого Сократа.
Наступал третий, последний для Сократа, этап его взаимоотношений с той афинской демократией, которая на глазах изживала в себе остатки влияния аристократов и среднего класса, окончательно превращалась в открытую охлократию, политическую гегемонию паразитически настроенных социальных низов.
Детально разбирать этот этап не представляется целесообразным. После гибели Крития и свержения тирании Тридцати политическая власть окончательно переходит в руки социальных низов. Начинается та характерная для таких периодов истории эйфория победителей, которая при кажущейся сугубой субъективности, на самом деле носит совершенно объективный характер: ведь в ходе репрессий и того, что позже обычно называется «перегибами на местах», победивший социальный слой окончательно уничтожает тех, кто может нести потенциальную опасность для нового строя, особенно идеологов.
Так, ту борьбу за защиту своего идеологического пространства, что так неудачно повели с Сократом тираны, пытавшиеся запрещать философу разговаривать с молодыми людьми, теперь блестяще завершили демократы– охлократы. Незадолго до дела Сократа, сразу после свержения тиранов, в архонство Евклида (403/2 год до н. э.) в Афинах был принят показательный декрет некоего Архина, вводивший ионийский алафавит как основу школьного обучения. С учетом того, что в Афинах и так был принят именно ионийский алфавит, можно не сомневаться в том, что данный декрет имел сугубо политический характер. С одной стороны, он, возможно, на самом деле наносил удар по тем попыткам некоторых грамматиков учить эфебов, скажем, лаконскому алфавиту. С другой, он просто должен был отрезвляюще воздействать на тех людей, кто пытался вносить в сферу образования хоть какие–то там нововведения. Его социальный смысл как бы гласил: «Сфера воспитания и образования подрастающего поколения является идеологически приоритетной для новой власти, и потому людям, не получившим специального для этого благословления, больше заниматься общением с юношеством строжайше запрещено!».
Мы уже знаем, что, начав вести маевтические беседы с сыном Анита, тем самым Сократ как бы перешел ту незримую черту, которая являлась границей, защищающей идеологию победивших социальных низов, идеологию той самой невежественной толпы, которую так хлестко характеризовал в своих речах первый афинский философ.
Как бы ни защищали Сократа в своих впоследствии написанных «Апологиях» и «Воспоминаниях» Платон и Ксенофонт, они защищали своего Учителя все–таки с классовых позиций исторически и политически проигравшего класса аристократии. Несмотря на их стремление всячески обелить того, кто своим общением с ним сделал их впоследствии великими, зажег в них божественный огонь разума, их диалоги не могли скрыть противоречия между взглядами Сократа и политической реальностью последних десятилетий его жизни. Они однозначно свидетельствуют нам о явной, последовательной и непримиримой оппозиционности Сократа не столько демократии вообще, сколько той демократии, под внешней вывеской которой в Афинах скрывалась охлократия, гегемония социальных низов.
Поэтому, завершая эту главу и эту работу, отвечая на поставленный во введении вопрос о взаимоотношениях Сократа и афинской демократии, и о том социальном подтексте, что привел его к конфликту с ней и последующей гибели, нам следует отметить следующее.
Выводы работы
Для начала, оценивая ситуацию в целом, следует заметить справедливость замечания римского философа–стоика Сенеки, который констатировал: «Не существует государства, которое может вытерпеть
истинного мудреца, нет мудреца, который вытерпел бы реальное государство» [5]. То есть тот логический посыл, которым руководствовался Сократ, а именно – «все неразумное не заслуживает уважения» [6], являлся заведомо оппозиционным совершенно любому политическому строю. И это так, хотя бы потому, что Сократ еще имел в своем распоряжении того многовекового (записанного) исторического опыта, который свидетельствует, что при построении политических систем люди руководствуются не столько логическими подходами, сколько своим пониманием той социальной целесообразности, которая чаще всего противоречит и логике и общепринятым морально–нравственным установкам человечества.
Поэтому, отмечая в целом оппозиционное отношение Сократа как философа–этика «неправильному», с его точки зрения, демократическому политическому устройству афинского общества, следует тут же заметить, что сама степень этой оппозиционности и критичности, в течение полувека активной творческой работы Сократа очень сильно различалась.
Так, в течение первого, выделяемого нами социально комфортного периода, от рождения Сократа (470/469 год до н. э.) до начала процессов над Фидием и Анаксагором (до середины 430‑х годов до н. э.), она являлась в целом доброжелательной и позитивной. Указывая демократически– аристократическому обществу того времени его «проблемные точки», фактически показывая ему те неблагоприятные тенденции, что ждут его в случае «неправильной» эволюции, первичная оппозиционность Сократа не являлась антагонистической. Она просто должна была способствовать самосовершенству общества, а также (благодаря маевтике Сократа) готовить для него тех новых лидеров – «аристократов духа», что повели бы его в светлое будущее.
В течение выделяемого нами второго, социально дискомфортного, для Сократа периода от изгнания из Афин Анаксагора (середина 430‑х годов до н. э.) до разгрома тирании Тридцати (404 год до н. э.), тревожно реагируя хоть и на постепенную, однако все–таки быструю и заметную трансформацию политического строя из демократически–аристократического в демократически– охлократический, не имея возможности каким–то образом прямо повлиять на ситуацию, и год за годом накапливая внутреннее раздражение за происходящее, Сократ совершенно однозначно переходит в лагерь непримиримых противников данной трансформации, противников гегемонии невежественной толпы афинских социальных низов.
В это время он уже начинает восприниматься постепенно побеждающим охлосом как идеологически опасный «мыслильщик», однако его спасает как честное выполнение своего воинского долга (биографическая карта), так и принципиальное неучастие в публично–политических дискуссиях и гражданских конфликтах. Тем не менее, личное участие в борьбе за власть таких ярких учеников Сократа, как Алкивиад, Критий и Хармид, постепенно показывает демосу все–таки потенциальную опасность как учения Сократа, так и его последователей (пусть даже и отклоняющихся от генеральной линии учителя).
Поскольку именно на данный период жизни Сократа пришелся пик его творческого взлета, и он лучше всего освещен в сократических воспоминаниях его великих последователей, то однозначная оппозиционность Сократа именно этой новой исторически–конкретной, охлократической модификации афинской демократии, обычно полнее всего рассматривается в историографии, и, собственно говоря, позволяет некоторым исследователям приходить к выводу о принципиальной неспособности философа принять для себя демократию вообще, как форму политического устройства общества.
Однако, с нашей точки зрения, это не совсем так: справедливо критикуя демократию как политическую систему, тем не менее, полное неприятие Сократ проявлял только к такому этапу ее эволюции, когда она стремилась к охлократии или тирании. А поскольку вектор истории Афин неумолимо вел город к тотальной охлократии, к полной и безоговорочной победе социальных низов, неудивительно, что конфликт мыслителя и его социального ландшафта однажды достиг критической фазы.
И тогда, в ходе выделяемого нами третьего, социально–чуждого для Сократа этапа, от разгрома тирании Тридцати (404 год до н. э.) до смерти Сократа (399 года до н. э.), видимо, полностью потеряв надежду на возвращение комфортного для него демократическо–аристократического строя его молодости, отдавая себе отчет в приближении естественной кончины, Сократ фактически перестает скрывать свою оппозиционность демократически– охлократическому строю. И философ тут же становится жертвой встречного вектора такой «зачистки» социальными низами того идеологического пространства, при которой они могли бы уже не бояться новых попыток социально оппозиционных им сил вернуть обратно аристократически– тимократическую «политию отцов».
Таким образом, с нашей точки зрения, в осуждении Сократа сыграли свою роль сразу два именно встречных фактора: уже не скрываемое раздражение Сократа тем, что один из богатейших полисов Эллады, имеющий тем более длительные аристократические традиции, управляется городскими низами, четко совпало со стремлением этих самых низов наказать мировоззренчески и идеологически опасного вольнодумца, одного за другим пестующего и выпускающего в большую политику тиранически настроенных индивидов.
В связи с этим, следует солидаризироваться с мнением выдающегося исследователя творчества Сократа и Платона А. Ф. Лосева: «Сократ своими с виду простыми и невинными вопросами разоблачал не просто пошлость обывательских представлений, но и ни на чем не основанную самоуверенность сторонников тогдашнего демагогического режима. В конце концов оказалось, что он решительно всем стоял поперек дороги. Что было с ним делать? Противостоять его общегреческой популярности было совершенно невозможно. Еще менее возможно было для его многочисленных собеседников побеждать его в бесконечных спорах.
Его долго терпели и долго смотрели сквозь пальцы на его с виду добродушную, но по существу своему разрушительную деятельность. И вот случилось то странное и непонятное, что и по сей день удивляет всех, начиная с верного ученика Сократа – Ксенофонта: власти, считая себя демократическими, не выдержали добродушной иронии Сократа и ему был вынесен судебный приговор – такой, какого до сих пор еще никогда не выносили в Афинах в случаях отвлеченных идейных разногласий. Было решено его казнить» [7].
И соглашаясь с А. Ф. Лосевым, стоит только несколько поправить его фразу: «…власти, считая себя демократическими, не выдержали добродушной иронии Сократа.». Во–первых, ирония Сократа на двух последних этапах его жизни, уже явно не была столь добродушной, что было когда–то в начале его творческого пути. А во–вторых, те самые власти, что осудили его на смерть, считали себя демократическими только в том смысле, что они выражали политическое господство тех социальных низов, которые в тот исторический отрезок времени монополизировали когда–то гордое право называться афинским демосом.
Подчеркивая же то, что сама по себе демократия – это такая форма власти, которая отражает политически мирное и компромиссное сосуществование различных социальных слоев, имеющих примерно равные возможности защищать свои жизненные и экономические интересы именно политическим путем, стоит еще раз зафиксировать: вполне принимая именно такую демократию, критикуя отдельные ее изъяны достаточно добродушно, Сократ наотрез отказывался принимать такое устройство, которое, формально называясь по–прежнему демократией, на самом деле являлось демократически задрапированной деспотией всего одного класса – осознавшего в конце V века до н. э. свою корпоративную общность афинского паразитического люмпен– пролетариата.
Поскольку же именно социальный конфликт проаристократически настроенного Сократа с чуждой ему невежественной и агрессивной люмпенской массой, собственно говоря, и стал истинной причиной его судебного преследования и осуждения, научно корректно было бы различать
оппозицию Сократа той демократии, что на самом деле фактически являлась охлократией, и в целом нормальное отношение к той демократии, что в первой половине V века до н. э. имела компромиссно–классовое наполнение под эгидой афинской аристократии. И это вносимое нами различие еще больше оттеняет истинную социальную подоплеку «дела Сократа»: являясь в целом
благожелательным к демократии со значительным аристократическим, элитарным наполнением, имея желание просто совершенствовать эту систему (правда, в сторону большего аристократизма), Сократ занял откровенно непримиримую позицию по отношению к демократии–охлократии, внешне очень напоминающую демократию прежнюю, но уже имеющую совершенно иное, люмпенское социальное наполнение.
А так как факт формального наличия в обществе демократии вовсе не означает прекращения борьбы за идеологическое единомыслие [8], а наличие официально осужденного идеологического врага всегда является фактором полезным для поддержания живучести той или иной общественнополитической системы, своим индивидуальным мыслетворчеством вырабатывающий почти столько же идеологем, как и все афинское демократическое сообщество в целом, Сократ оказался для него настолько опасен, что в итоге, был обречен идти на такой суд, где наказание для себя он заранее определил уже сам…