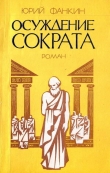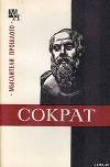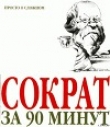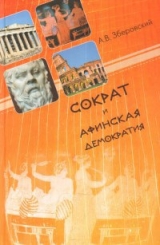
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Охарактиризовав в работе сущность и эволюцию афинской демократии V века до н. э., рассмотрев биографию и те основные взгляды Сократа, что имели отношение к социально–политической жизни Афин его времени, теперь самое время попытаться совместить все это в тех последних годах жизни этого великого человека, что, собственно говоря, и привели его в вечность.
В главе «Социальный подтекст кризиса афинской демократии в конце V века до н. э.» мы уже осветили историю Афин вплоть до 404 года до н. э., а в главе «Сократ в «Облаках» Аристофана: приглашение на казнь» особенно детально остановились на том моменте, когда Сократ впервые был обвинен в антиобщественной деятельности. Вполне логичным представляется теперь продолжить наш анализ с событий 404 года до н. э., доведя хронологию жизни Сократа вплоть до того момента начала судебного преследования 399 года до н. э., которое мы специально рассмотрим в следующей главе.
Итак, вернемся к афинским события 404 года до н. э., рассмотрев приход к власти тирании Тридцати уже через призму не всего гражданского социума, а применительно к индивидуальной судьбе пусть и стареющего, но зато уже общеэллински известного философа. Известно, что одними из наиболее ярких лидеров тирании были двоюродные братья Критий и Хармид, оба ученики Сократа. Из сообщений Платона (кстати, приходившегося тиранам племянником) и Ксенофонта мы знаем, что старшим был Критий (примерно ровесник Алкивиада), который, первым отучившись у Сократа, впоследствии сам проявил инициативу по введению в кружок Сократа и своего младшего брата Хармида.
Платон посвятил началу взаимоотношений Крития, Хармида и Сократа целый диалог, названный «Хармид». В нем описываются события 431 года до н. э., когда Сократ вернулся после боя у Потидеи и еще имел еще вполне дружеские отношения с Критием, не так давно ходившем слушать Сократа, но к этому времени уже пришедшему к созданию собственной этически– идеологической концепции, видимо, являющейся контрсократовской. Придя в палестру Посейдона Таврия, Сократ садится с Критием и тот сам проявляет инициативу в знакомстве Сократа со своим двоюродным братом Хармидом.
Более того, Критий даже просит Сократа пообщаться с братом и помочь в формировании его становящейся разумности, провести с ним маевтическую беседу [1].
Так начинается сократовский диалог, который можно определить как диалог о рассудительности и пределах познания. Спрашивая Хармида о том, что же такое рассудительность, Сократ получает ответ, что это осмотрительность. Однако, выяснив, что Хармид относит осмотрительность к прекрасным вещам, Сократ легко доказывает, что прекрасное во всех видах человеческой деятельности – напротив, быстрое и стремительное совершение чего–либо, а осмотрительность – это часто плохо. Хармид говорит о том, что рассудительность – это стыдливость. Но Сократ и тут доказывает, что стыдливость нищих – это их гибель, это – плохо, и потому тоже не подходит [2].
Раздражаясь, Хармид хватается за соломинку, которой оказывается фраза, сформулированная его братом Критием, который, как уже говорилось выше, считал себя к этому моменту времени совершенно самостоятельным мыслителем и, поскольку он был самолюбивым, очень гордился своими выводами. Сама фраза Крития (кстати, очень созвучная сократовскому призыву доверять власть только немногим лучшим) звучала так: «Рассудительным является тот, кто занимается своим» [3].
Сократ сразу все понимает и говорит на это Хармиду: «Ах ты, плут! Ведь ты услышал это от нашего Крития или от кого–то другого из мудрецов!» Но находящийся рядом Критий сначала отрицает то, что эти слова принадлежат ему. Далее Сократ быстро доказывает несправедливость данного высказывания на основании того, что в правильно устроенном государстве не может быть закона о том, чтобы все его граждане сами стирали себе, ткали плащи, тачали сапоги, выделывали фляги, скребки, им было запрещено браться за чужие вещи и каждый из них изготавливал бы только свое [4].
Хармид в растерянности, а Сократ уточняет у него (в присутствии Крития): не от дурачка ли какого–нибудь он это услышал. Хармид, защищая брата, остающегося пока инкогнито (но, судя по всему, очень нервничающего), отстаивает то, что человек, сказавший ему это, является очень мудрым. Сократ говорит, что тот, кто это сказал, видимо, сам не знает, что он имеет в виду. И, как передает Платон, с усмешкой посмотрел на Крития.
Критий в это время был уже раздражен. Стерпеть то, что его тезис был разбит, он не смог и сначала сгоряча накинулся на младшего брата, который так неудачно его защищал и который, по мнению Крития, не сумел понять всего скрытого смысла фразы о том, что каждый должен заниматься своим. Затем Критий стал доказывать, что рассудительность – это все–таки заниматься именно своим. Но Сократ и тут опровергает Крития, так как есть множество людей, занимающихся чужими делами, но при этом являющихся вполне рассудительными. Или, скажем, врач может сам не осозновать, что каким–то действием он принес больному пользу, но уже сам факт принесения этой пользы будет являться примером того, что врач – полезный, и, таким образом, объективно рассудительный человек. То есть рассудительность может быть сама по себе и нерассудительная, неосознаваемая. И как же, по словам Сократа, быть в этом случае с самим смыслом слова «рассудительность»? [5].
В ответ Критий говорит: «Если ты считаешь, что из моих прежних утверждений необходимо следует такой вывод, то я скорее от них отступлюсь и не стану стыдиться признания, что я был тогда не прав, чем соглашусь с тем, что рассудительный человек может не осозновать себя как такового». И настаивает на том, что он… явно когда–то унаследовал у самого Сократа: рассудительность – это производная дельфийского «познай самого себя», то есть самопознание [6].
Рассуждая, о чем же все–таки наука рассудительности, Сократ говорит о том, что математика – это наука о четных и нечетных числах, но при этом чет и нечет отличаются от самой науки математики, искусство взвешивать – наука о легком и тяжелом, но тяжелое и легкое – нечто отличное от самой науки взвешивать. А что же такое рассудительность? Критий говорит о том, что это – единственная наука, имеющая своим предметом как другие науки, так и самое себя [7].
Сократ продолжает рассуждать и вместе с Критием приходит к выводу о том, что рассудительность – это наука о знании и о невежестве [8]. Однако, действуя в своей излюбленной маевтической манере, Сократ тут же выражает сомнение в том, что есть такая наука, предмет которой есть не что иное, как она сама и другие науки, и при этом она является наукой о невежестве. Ведь, по словам Сократа, это примерно то же самое, как слух, который не слышит ни одного звука, но зато слышит себя и другие слышания, а также глухоту. [9].
В общем, Сократ выступает против допущения существования такой «науки наук», каковой является, по мнению Крития, рассудительность. Он предлагает Критию самому убедить Сократа в существовании такой науки. И тут Платон пишет от себя, что Критий очень привык к тому почету, что его окружал, и потому не желал признаваться, что он не в состоянии решить ту задачу, которую ему предложил Сократ. Он оказался в замешательстве и разозлился на Сократа [10].
Увидев это, Сократ продолжил сам и еще раз акцентировал внимание Крития и Хармида на то, что он не понимает, как это можно – сознавать свое знание и знать, чего именно кто–то не знает. Как это знание, будучи знанием лишь себя самого, способно различать нечто большее, чем то, что одно из двух – это знание, а другое – незнание [11]. И он критикует такую науку рассудительности, если она, будучи наукой о знании и невежестве, будет не в состоянии распознать то, сведущ врач в медицине или является невежей, ведь сама эта наука в медицине не разбирается. Какой же толк от такой науки?
В споре возникает стопор, и Сократ приходит на помощь Критию. Он допускает, что рассудительность как наука о знании и незнании может быть полезна тем, что человек, обученный этому, затем уже быстрее понимает все остальные науки. Критий соглашается. Однако затем Сократ начинает сомневаться в том, что такая наука была бы полезна, ведь ее пока нет – и потому вокруг много самозванцев, утверждающих, что они что–то знают, а на самом деле они обманывают. Более того, говорит Сократ: Мы не можем пока быть уверенными в том, что, действуя сознательно, тем самым добъемся для себя благополучия и счастья [12].
И здесь уже Критий говорит Сократу, что, отрицая сознательный подход, трудно отыскать другой способ осуществления благополучия. Но тут Сократ говорит о грустном, по сути дела, про себя самого: «Не будем настаивать на том, что человек, живущий сознательно, тем самым и благоденствует. Ведь ты не признаешь, что те, кто живут сознательно, счастливы. Наоборот, кажется мне, ты отличаешь благоденствующего человека от людей, живущих в некотором отношении сознательно… Какое из знаний делает человека благоденствующим?» [13].
Тогда Критий говорит о том, что это наука о добре и зле. И Сократ довольно соглашается с ним. А соглашается потому, что наука о благе и зле гораздо полезнее и практичнее науки о знании и невежестве, а от рассудительности самой по себе ничего полезного и нет [14].
Спор заканчивается вполне мирно, и Сократ и Критий расстаются друзьями. Причем Критий советует Хармиду продолжать общаться с Сократом и даже не отходить от него ни на шаг. И после кратких и шутливых препирательств Сократ соглашается общаться с Хармидом.
Нет сомнений, что такие споры вполне могли происходить между Сократом, Хармидом и Критием в реальности. Они показывают нам прагматизм Крития, его веру в рациональность и в свое высокое предназначение управлять людьми, резкость его характера и явное высокомерие. И тем не менее, несомненно: значительная часть этих убеждений была сформирована как раз Сократом, а их дружеские отношения длились довольно долго. Свидетельство этому то, что Критий сам упросил Сократа заняться Хармидом, и советует Хармиду продолжать общаться с Сократом и даже не отходить от него ни на шаг [15].
Что из этого вышло, в своем сократическом диалоге «Разговор с Хармидом о государственных делах» (уже цитированном нами выше) нам сообщает Ксенофонт. По его словам, выяснив, что Хармид, будучи человеком достойным и по своим способностям стоящим гораздо выше государственных деятелей своего времени, тем не менее стесняется выступать на Народном собрании, Сократ прямо убеждает его не стесняться этих глупых и слабых людей и обязательно идти в большую политику [16].
В данном случае, совершенно очевидно, что своим общением Сократ только укреплял уверенность Крития и Хармида в том, что они, как люди умные, образованные, аристократичные и, самое главное, специальным образом подготовленные (в том числе и Сократом), вполне имеют право стать выше всего остального необразованного гражданского коллектива, не умеющего размышлять о чем–то высоком.
Многолетняя дружба Крития и Хармида с Сократом, согласно официальной античной версии, закончилась личной ссорой. Причиной ее называлось то, что, заметив, что Критий влюблен в некоего Евфидема по прозвищу «Красавчик» и пытается стать его любовником, Сократ попытался отвратить его этой страсти: он указывал, как унизительно и недостойно благородному человеку, подобно нищему, выпрашивать милостыню у своего любимца, которому он хочет показаться дорогим, моля и прося у него подарка, да еще совсем нехорошего. Но, так как Критий не внимал таким увещеваниям и не отставал от своей страсти, то Сократ, в присутствии многих лиц, в том числе и Евфидема, сказал, что у Крития, как ему кажется, есть свинская наклонность: ему хочется тереться об Евфидема, как поросята трутся о камни [17]. С этого–то времени, по информации Ксенофонта (не заставшего ввиду своей молодости эти события лично), Критий стал ненавидеть Сократа и их общение (и Хармида) закончилось.
Даже воспринимая эту информацию всерьез, как нам представляется, данную ссору следует считать все–таки не причиной, а лишь поводом для ссоры Сократа с тиранически настроенными братьями. В связи с этим, дадим еще раз слово Ксенофонту: «Обвинитель (на суде. – прим. автора) говорил и о том, что двое бывших друзей Сократа, Критий и Алкивиад, очень много сделали зла отечеству. Критий при олигархии превосходил всех корыстолюбием, склонностью к насилию, кровожадностью, а Алкивиад при демократии среди всех отличался невоздержанностью, заносчивостью, склонностью к насилию. Если они причинили какое зло отечеству, я не стану оправдывать их; я расскажу только какого рода была их связь с Сократом.
Как известно, оба они по своей натуре были самыми честолюбивыми людьми в Афинах: они хотели, чтобы все делалось через них и чтобы им достигнуть громкой славы. А они знали, что Сократ живет на самые скромные средства, вполне удовлетворяя свои потребности, что он воздерживается от всяких удовольствий и что со всеми своими собеседниками при дискуссиях делает, что хочет. Можно ли сказать, что люди такого рода, как я выше их охарактеризовал, видя это, в своем стремлении к общению с Сократом руководились желанием вести жизнь, какую он вел, и иметь его воздержанность? Или же они надеялись, что благодаря общению с ним могут стать очень ловкими ораторами и дельцами? Я, со своей стороны, убежден, что если бы бог дал им на выбор или всю жизнь жить как Сократ, или умереть, то они предпочли бы умереть. Это видно было по их действиям: как только они почувствовали свое превосходство над товарищами, они тотчас же отпрянули от Сократа и предались государственной деятельности, ради которой они и примкнули к Сократу» [18].
«…Критий и Алкивиад все время, пока были в общении с Сократом, были в общении с ним не потому, что он им нравился, а потому, что они с самого начала поставили перед собой цель стоять во главе государства. Еще когда они были с Сократом, они ни с кем так охотно не стремились беседовать, как с выдающимися государственными деятелями. Но, как только они заметили свое превосходство над государствеными деятелями, они уже перестали подходить к Сократу; он и вообще им не нравился, да к тому же, когда они подходили к нему, им было неприятно слушать его выговоры за их провинности. Тогда они предались государственной деятельности, ради которой и обратились к Сократу» [19].
Из слов Ксенофонта очевидно: Критий пришел общаться к Сократу, уже имея твердое стремление первенствовать над людьми, философ оказался для него вовсе не Учителем, который помогает обрести цель жизни, а лишь средством достижения цели уже поставленной. Чтобы стать афинским политиком того времени, человеку было необходимо иметь существенные ораторские способности, уметь вести диалог, спорить, вести дискуссию в соответствии с логикой. Вот Критий и учился рядом с Сократом именно тем навыкам, что были нужны ему для достижения своих лидерских целей. И после того как Критий получил желаемое, то не удивительно, что имея в целом отличные от Сократа представления о жизни, он перешел в сферу общественнополитической практики и прекратил с ним свое уже неуместное ученическое общение. А ситуация с Евфидемом, судя по всему, оказалась не более чем уместным поводом. Да и вообще: совет Сократа своему выдающемуся ученику не тратить время и сил на сущую ерунду, а стремиться к чему–то более высокому, – с нашей точки зрения, скорее свидетельствует как раз о дружеском отношении Сократа к Критию, а вовсе не о его язвительности.
Поэтому, с нашей точки зрения, Ксенофонт не совсем прав, когда сообщает, что будто Критий, став членом коллегии Тридцати и попав в законодательную комиссию с Хариклом, вдруг припомнил старую обиду Сократу, и внес в законы статью, воспрещающую преподавать искусство слова, тем самым стремясь поставить ему препону в его повседневной деятельности, оказавшейся под запретом [20]. Критий, которому в этот момент времени исполнилось уже 56 лет, вряд ли бы руководствовался какими–то мелкими обидами свой молодости. Гораздо более существенным моментом в начале притеснений Сократа, судя по всему, было нечто другое, то, о чем нам также говорят сообщения античных авторов.
Так, по сообщению историка Элиана, видя, что правительство «тридцати тиранов» убивает самых славных граждан и преследует тех, кто обладал значительным богатством, Сократ, повстречавшись с другом Антисфеном, сказал ему: «Тебе не досадно, что мы не стали великими и знаменитыми, какими в трагедиях изображают царей, всяких Атреев, Фиестов, Агамемнонов и Эгисфов? Ведь их закалывают, делают героями драм и заставляют на глазах всего театра вкушать страшные яства. Однако никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор!» [21].
А вот, согласно сведениям непосредственно жившего в тот момент времени в Афинах Ксенофонта, когда «тридцать тиранов» перешли к репрессиям и казнили массу самых выдающихся граждан Афин, Сократ сказал: «Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставши пастухом стада коров и уменьшая число и качество коров, не признавал бы себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши правителем в государстве и уменьшая число граждан, не стыдится этого и не признает себя плохим правителем государства». Когда Критию и Хариклу донесли об этом, они призвали Сократа, показывали ему свой закон и запретили разговаривать с молодыми людьми» [22].
В описанной ситуации как–то очень по–доброму звучит: «Рассерженные тираны призвали Сократа, показывали ему свой закон и запретили разговаривать с молодыми людьми». И это тогда, когда тираны, изъяв у афинян боевое оружие, на самом деле казнили людей сотнями! Действительно, по оценкам античных авторов, за примерно восемь месяцев своей власти тираны уничтожили более полутора тысяч наиболее авторитетных афинян, почти по двести человек в месяц. А вот с каким–то пожилым философом, осмелившимся вслух высмеивать их деятельность, они, видите ли, поступили так: позвали его к себе, дали почитать закон и после этого специально, в особом индивидуальном порядке запретили ему делать то, что было запрещено уже всем остальным. Как–то все это не очень вяжется с кровавым контекстом всей ситуации, когда были убиты такие люди, кто были не просто авторитетнее и известнее Сократа, но и имеющие за собой определенный человеческий, политический и финансовый ресурс.
Более того, согласно Ксенофонту, Сократ не просто выслушал запрет на общение с молодежью, но по своей обычной практике начал задавать тиранам такие уточняющие вопросы, которые поставили их вообще в дурацкое положение. Приведем этот интересный диалог полностью.
«Хорошо, – сказал Сократ Критию и Хариклу, – я готов повиноваться законам, но чтобы незаметно для себя, по неведению, не нарушить в чем– нибудь закона, я хочу получить от вас точные указания вот о чем: почему вы приказываете воздерживаться от искусства слова, – потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно или неправильно? Если говорить правильно, то очевидно пришлось бы воздерживаться говорить правильно, если же – говорить неправильно, то, очевидно, надо стараться говорить правильно.
Харикл рассердился и сказал ему: Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то мы объявляем тебе вот что, для тебя более понятное – чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал.
На это Сократ сказал: Так, чтобы не было сомнения, определите мне, до скольки лет можно считать людей молодыми.
Харикл отвечал: До тех пор, пока им не дозволяется стать членами Совета, как людям еще неразумным; и не разговаривай с людьми моложе тридцати лет.
И когда я покупаю что–нибудь, – спросил Сократ, – если продает человек моложе тридцати лет, тоже не нужно спрашивать, за сколько он продает?
О подобных вещах можно, – отвечал Харикл, – но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что знаешь: так вот об этом не спрашивай.
Так и не должен я отвечать, – сказал Сократ, – если меня спросит молодой человек о чем–нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий?
О подобных вещах можно, – отвечал Харикл.
Тут Критий сказал: Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от всех этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, что совсем уже истрепались от того, что они вечно у тебя на языке.
Значит, – отвечал Сократ, – и от того, что следует за ними – от справедливости, благочестия и всего подобного?
Да, клянусь Зевсом, – сказал Харикл, – и от пастухов; а то посмотри, как бы тебе не уменьшить числа коров.
Тут–то и стало ясно, что им сообщили рассуждение о коровах и они сердились из–за него на Сократа» [23].
Представляется, что данная картина: «тираны, ведущие задушевную беседу с оппозиционно настроенным к ним идеологом молодежи» никак не вписывается в теорию о том, что Критий и Хармид являлись именно врагами Сократа. С нашей точки зрения, совершенно очевидно, что данный диалог можно смело относить к разновидности диалога «между своими», когда более высокопоставленная персона хоть и журит проштрафившегося человека, но делает это «как–то так», не то что бы любя, но в целом уважительно, отдавая человеку должное. И он, проштрафившийся, кстати сказать, тоже все прекрасно понимает и потому также может позволить себе попутно кое–что еще уточнять…
Разумеется, позже, при восстановленной демократии, возникла необходимость задним числом, уже после суда и гибели Сократа оправдать его, сделать для демократии своим, показать всю незаслуженность его осуждения. Вот тогда Платоном и Ксенофонтом был создан миф о бескомпромиссной борьбе Сократа с тираническим режимом, о давней ссоре с Критием, о смелой дискуссии с самими тиранами, об отказе выполнять их указания о запрете общения с молодежью, а также их прямые распоряжения, типа того, что было связано с делом Леонта Саламинского. В последнем случае дело состояло в том, что Сократу как избранному члену Городского Совета, вместе с четырьмя другими пританами тираны приказали, чтобы они доставили с острова Саламин известного богача афинянина Леонта, для того, чтобы судить его и казнить. По легенде, Сократ отказался от этого поручения, а вот остальные четыре его выполнили. В итоге, по сообщению Платона и Ксенофонта, Критий и Хармид, опять–таки были очень этим недовольны [24].
Так вот, с нашей точки зрения, конфликтность взаимоотношений между Сократом и тиранами, при все уважении к Сократу, все–таки не более чем миф. Разве можно всерьез поверить в то, что уже, зная способность Сократа идти наперекор всему коллективу в ситуации, когда всего несколькими годами ранее он уже отказался ставить на голосование вопрос о казни стратегов после битвы при Аргинусских островах, Критий и Хармид могли рассчитывать, что престарелый философ вдруг засучит рукава и станет палачом? Разумеется, нет.
Скажем больше. У того же Ксенофонта приводится описание любопытной ситуации эпохи свержения тиранов. После прихода под стены Афин демократа Фрасибула и того сражения под Мунихием, когда был убит Критий, из Афин началось массовое бегство сторонников демократии в Пирей. В ксенофонтовом «Разговоре с Аристархом о помощи друзьям» друг Сократа
Аристарх сообщает, что в его родне все мужчины уже ушли из города к демократам, и у него в доме целых четырнадцать человек свободных женщин – сестры, племянницы, двоюродные сестры, которых ему теперь нужно прокормить. При этом в самих Афинах полное запустение: домашних вещей никто не покупает, занять денег негде. Однако сам Сократ и, судя по всему, присутствовавший на разговоре Ксенофонт не только не спешат присоединиться к тем, кто боролся за демократию, но и, напротив, Сократ даже дает Аристарху советы, каким образом можно заработать денег, чтобы спокойно прожить в запустевших Афинах и никуда не уезжать [25].
Конечно, можно предположить, что Сократ так прохладно отнесся к приближению демократов вследствие того, что, насколько мы знаем, после поражения при Делии, где лично сражался сам Сократ, он недолюбливал фиванцев [26]. А поскольку Фрасибулу активно помогали как раз фиванцы, возможно это стало одной из тех причин, почему при всей своей нелюбви к Критию и Хармиду, Сократ не поспешил перейти в Пирей, в партию демократов. Однако, скорее всего, дело в другом: Какие бы ни были кровожадные тираны, как бы ни критиковал их Сократ, и Критий, и Хармид были для него все–таки своими, людьми высокоинтеллектуальными, в соответствии с воззрениями самого Сократа, к управленческой деятельности специальным образом подготовленными. В конце концов, отдающими должное своему наставнику учениками. А вот толпа крикливого и необразованного охлоса на Народном собрании при демократии в качестве своей Сократом явно не воспринималась.
Таким образом, оценивая тот период 404–403 годов до н. э., когда в Афинах сначала была установлена, а затем свергнута тирания Тридцати во главе с Критием и Хармидом, можно сказать следующее:
– лидеры «тридцати тиранов» Критий и Хармид когда–то являлись учениками Сократа и общались с ним вполне дружески;
– дискуссия Сократа с тиранами по поводу критики им их действий и невыполнения философом указания прекратить общение с молодежью носила в целом доброжелательный характер;
– Сократ мог позволить себе не выполнять указания тиранов и, в отличие от сотен других афинян, не только не поплатился за это жизнью, но и не понес даже никакого другого наказания;
– Сократ не принял никакого участия в свержении тирании и никак не выразил своей радости от ее итоговой победы.
Справедлив вопрос, насколько мог такой человек считаться своим уже при восстановленной демократии–охлократии, при восстановленной гегемонии низов демоса? Скорее всего, нисколько.
Исходя из этого, можно говорить о следующем: не являясь для Сократа своим по оценке классовой солидарности (Сократ не был богачом или аристократом), режим «тридцати тиранов» был для него по мировоззренческим установкам все–таки гораздо ближе, нежели имевшийся перед этим режим демократии–охлократии. Однако, согласно оценке не слишком–то разбирающегося в различных нюансах мировоззрения демоса, в целом спокойное отношение Сократа к тирании (при ближайшем рассмотрении он критиковал ее явно меньше, чем до этого критиковал демократию!), а также тирании к Сократу, явно свидетельствовало о его классовой чуждости демосу, о его потенциальной опасности для его власти.
Более того, сам факт того, что тираны издали специальный закон о запрещении преподавания искусства красноречия и недвусмысленно дали понять, что своим острием, в первую очередь, он направлен как раз против Сократа, свидетельствует нам о следующем:
– в самом конце V века до н. э. в общественном сознании оказалось четко осмыслено, что сфера формирования у юношей мировоззрения является идеологически важной, прямо способствует укреплению или, напротив, подрыву политических режимов;
– Сократ был официально признан как человек для существования той или иной полисной идеологии достаточно значимый.
Таким образом, даже после свержения тирании благополучно переживший ее (в отличие от других идеологов, типа Ферамена) Сократ был просто обязан по–прежнему находиться в центре общественного обсуждения таких вопросов, как:
– почему афинский демос вовремя не увидел формирование такой идеологии, что позволила сформировать позитивное отношение у части населения к установившейся тирании;
– каким образом и кто персонально сформировал эту уже достаточно проявившую себя идеологию, оппозиционную политическому строю афинской демократии;
– по большому счету, кто виноват в случившемся;
– каким образом на будущее защитить идеологию демоса, и уже заранее не допустить возникновения иных, оппозиционных демократии воззрений.
И, говоря об этом, следует еще раз подчеркнуть: Когда в
процитированном нами выше диалоге Ксенофонта Сократ беседовал с Критием и Хариклом, они сделали два очень ценных для нас замечания:
– во–первых, они сказали о том, что под видом невинных вопросов Сократа и предложений порассуждать и поискать истину совместно, по большей части, он спрашивает у молодежи о том, что на самом деле уже знает;
– во–вторых, они подчеркнули, что под всеми рассуждениями Сократа о всех этих бесконечных сапожников, плотников, кузнецов, на самом деле, скрывается осмысление вопросов о справедливости, благочестии, власти и других тому подобных.
Таким образом, несомненно: вне зависимости от того, кто и как мог оценивать его мировоззрение, в самом конце V века до н. э. Сократ был официально признан как идеолог, причем не просто как идеолог, но и как идеолог, способный представлять опасность для того или иного политического режима.
А поскольку восстановивший свои политические позиции демос стремился теперь как раз к тому, чтобы исключить для себя любые опасности, в том числе и в сфере идеологии, деятельность такого опасного идеолога, как Сократ (тем более не выступившего за восстановление демократии), не могла не быть подвергнута очень внимательному рассмотрению. Причем (и это особенно важно), эта оценка производилась, во–первых, в горячке классовой борьбы, а, во–вторых, мягко говоря, не очень квалифицированными идеологами демоса.
Говоря об этом, мы выходим на «финишную прямую» жизни Сократа Афинского, на тот последний отрезок его жизни (403–399 года до н. э.), который протекал в такой атмосфере, которую вполне правомерно оценивать как атмосферу общества, фактически только–только пережившего гражданскую войну. Причем победивший в ней демос вовсе не собирался скрывать как торжество от своей победы, так и готовность наказывать всех тех, на кого указывало уже неоднократно рассмотренное нами выше в работе «классовое чутье».
В этой связи, переходя к событиям, непосредственно предшествующим «делу Сократа», следует заметить: как уже неоднократно подчеркивалось в данной работе, совершенно не следует идеализировать демократию как строй и, самое главное, считать, что демократия – это синоним словам «гуманизм» и «терпимость». Какие жестокие решения принимал афинский народ во времена демократического строя, можно увидеть хотя бы на тех постановлениях, что принимались уже в ходе Пелопоннесской войны, то есть сравнительно недалеко от суда над Сократом. Так, например, демократические афиняне приняли на Народном собрании постановление с требованием отрубать всем пленным жителям острова Эгины большой палец правой руки, чтобы они не могли держать копья, но при этом (а это – гуманность!) не лишились способности действовать веслами и кормить себя рыболовством. По предложению Клеона, были приговорены к смерти все способные носить оружие митиленцы; клеймить лица пленных самосцев изображением совы – увы, тоже афинское постановление [27].