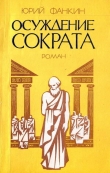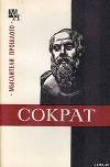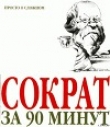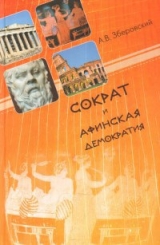
Текст книги "Сократ и афинская демократия"
Автор книги: Андрей Зберовский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Сократ провоцировал человека на разговор на совершенно любую тему, но при этом такую, в которой его собеседник чувствовал себя уверенно и как будто бы все о ней знал. А для того, чтобы начать диалог, Сократ обычно ловил своих собеседников на самый психологически верный крючок – на их собственное самолюбие. Расхваливая высокие личные и профессиональные качества тех, кого он встречал на улицах Афин, Сократ поднимал их самооценку и, играя роль любознательного простака, делал вид, будто он что–то хочет у них узнать, причем узнать именно то, в чем, казалось бы, они должны были прекрасно разбираться.
Бахвалы и самоуверенные люди легко попадали в расставленные на них ловушки. Классический тому пример – общение Сократа с эфесским рапсодом Ионом. Встретившись с ним в Афинах, Сократ уважительно обращается в нему на «вы» и, как бы завидуя, начинает расхваливать, как здорово Ион выглядит и что им, рапсодам, именно так и положено выглядеть – величественно и несколько высокопарно; они ведь толкуют таких божественных поэтов, как Гомер и прочие. Ион, словно павлин, начинает распускать свой хвост, гордо признает, что он – самый лучший из толкователей Гомера и, словно бог с Олимпа, снисходит до того, чтобы ответить Сократу на казалось бы простейший вопрос о том, есть ли сходство в темах творчества Гомера и Г есиода. И тут, предварительно заявив, что он – специалист именно по Г омеру, и ответив на вопрос философа, что Г омер и Г есиод писали в принципе об одних и тех же сюжетах, он словно боксер на ринге получает неожиданный хук справа – вопрос Сократа о том, почему же, раз сюжеты Гомера и Гесиона в принципе однотипны, он, Ион, разбираясь в одном поэте, при этом, странным образом, плохо понимает в другом [11].
Ион этого не знает и Сократ дружелюбно приходит ему на помощь, убеждая рапсода в том, что он на самом деле может толковать совершенно любого поэта. А раз так, то и, зная сюжеты Гомера, Иону можно с легкостью толковать и Гесиода [12]. Ион сам простодушно удивляется, почему же он на самом деле не трактует других авторов, кроме своего любимого Гомера, а хитрый Сократ тут же предлагает ему попытаться понять, есть ли во всем поэтическом искусстве нечто цельное, поэтическое, что характеризовало бы только эту профессию, или же нет.
«Ловушка самолюбия» Сократа срабатывает в этом случае примерно так же, как она срабатывает и в том случае, когда вояке Лахету предлагают порассуждать о мужестве, а прорицателю Евтифрону – о благочестиии. Сократ всегда играет на поле противника, там, где его собеседнику находиться проще всего, в той теме, где, как ему кажется, он наиболее компетентен. И вот тут–то все ошибаются…
В конечном итоге Ион полностью сдается Сократу, признает его разбирающимся в деле рапсодов лучше, чем сам Ион, а себя, увы, чересчур много о себе возомнившим [13].
Еще один пример – диалог Платона «Гиппий Больший». Встретив знаменитого софиста и своего давнего знакомого, Сократ очень правдоподобно жалуется ему, что недавно попал в трудное положение, так и не сумев объяснить своему собеседнику, что же такое «прекрасное», и просит Гиппия помочь ему в этом вопросе, уважительно подчеркивая, что этот вопрос – наверняка лишь малая часть знаний софиста. Гиппий чванливо замечает, что это даже не малая, а ничтожная часть его знаний, соглашается легко научить Сократа и незаметно для себя втягивается в такой разговор, в котором он запутывается. и с ужасом понимает, что он не только не специалист в прекрасном, но и вообще не может связно дать прекрасному даже самую общую дефиницию [14].
Или вот еще пример диалога с Алкивиадом, где Сократ демонстрирует свою привычку начинать вечный разговор о родовых и видовых понятиях на первый взгляд совсем уже бытовых вещей. Так, обращаясь к Алкивиаду, Сократ спрашивает его: «Считаешь ли ты любое воспаление глаз болезнью? Да! Но ведь ты не думаешь, что любая болезнь – это воспаление глаз?» [15].
Потрясенный таким парадоксальным началом, в дальнейшем Алкивиад готов общаться с Сократом уже совершенно на любую тему.
В разговоре с признанными специалистами Сократ использовал еще один свой излюбленный прием: поймать на противоречиях. Так, в «Горгии» Платона, Сократ сначала выясняет у своего собеседника – маститого софиста Горгия, что он учит людей красноречию, то есть способности выступать перед людьми на любую тему, даже не являясь специалистом по своему вопросу. Затем Сократ интересуется, надо ли быть человеку, овладевшему красноречием, справедливым. Узнав, что нужно быть справедливым, интересуется: может ли оратор, выучившийся справедливости, в дальнейшем пожелать совершить несправедливость? Выяснив, что нет, Сократ ловит Горгия на противоречии: выучившийся у софистов оратор, с одной стороны, знает, что такое справедливость, и не должен хотеть несправедливости, а вот при реальном общении с людьми может говорить о том, о чем он на самом деле не знает, и это – несправедливо. Следовательно, либо Горгий не знает, что же такое справедливость, либо сознательно учит людей плохому! [16]. Так, к своему вящему удивлению профессиональный софист втягивается в разговор о том, что же такое справедливое и справедливость, а в итоге оказывается посрамлен…
Выслушав позицию собеседника, мягко и очень корректно, с множеством извинений и оговорок Сократ неожиданно обрушивал его обыденные представления о предмете, добивался того, чтобы человек вдруг осознавал, что его обычные представления о жизни почему–то не срабатывают, а его собственные слова и выводы, к которым человек приходил в общении с Сократом, даже противоречат его собственному мировоззрению.
Например, в беседе с военными Лахетом и Никием, Сократ спрашивает их о том, о чем, казалось бы, бывалые солдаты не могут не знать: что же такое – мужество? Лахет уверенно говорит, что это добровольное нахождение солдата в строю, чтобы отразить нападение врага, а не бежать. Но Сократ обращает их внимание, что мужество можно проявлять и в конном строю, и в морском бою, и в болезнях, и в бедности, и в государственных делах, и при преодолении собственных страстей. И это примерно то же самое, как, говоря о скорости, следует учитывать не только скорость бега, но и скорость при игре на кифаре, при разговоре и обучении и т. д. И потому правильнее говорить о скорости как о способности достигать многого за очень короткий срок в любом деле [17].
Тогда Лахет говорит, что мужество – это стойкость души к различным тяготам. Но Сократ быстро доказывает ему, что не всякая стойкость – мужество и разумное поведение. И Ламах, по его собственным словам, негодует при мысли, что не может выразить в словах то, что у него на уме; ведь он внутри себя понимает, что такое мужество, а вот схватить его словом и определить у него не выходит и слова ускользают [18].
Присоединившись к беседе, афинянин Никий определяет мужество как знание того, чего стоит бояться, а чего не стоит. Но Сократ и Лахет быстро разбивают его доводы, показывая, что и врач, и кифарист, знающие, чего можно делать в их деле, а чего нельзя, вряд ли могут называться мужественными. Тогда Никий добавляет, что мужество – это разумное стойкое поведение. В итоге Сократ переводит разговор в плоскость того, что если мужество – это знание опасного и безопасного, то, по сути дела, мужество – это знание того, что в будущем будет добром и злом. Следовательно, мужество – это еще и наука о настоящем, прошлом и будущем. Но самое главное – это наука едва ли не обо всем на свете и особенно о добре и зле [19].
Ошарашенные этим, Никий и Лахет сдаются на милость Сократа. В итоге Лахет делает вывод о том, что раз ни он сам, ни образованный Никий так и не смогли сформулировать, что же такое мужество, то их следует отстранить от воспитания юношей и отдать их для воспитания Сократу [20].
Вообще, диалоги Платона и Ксенофонта содержат в себе описание десятков ситуаций, когда собеседники Сократа буквально впадали в шок, неожиданно понимая свое истинное незнание того, в чем они, казалось бы, были полностью уверены. Типичный пример такого разговора, это беседа Сократа с Евфидемом о том, справедливо или несправедливо обманывать людей. И вот, наконец, сбитый с толку юноша говорит: «Ах, Сократ, я уже не верю больше сам в свои ответы, потому что все то, что я раньше говорил, мне представляется теперь в другом свете, чем я тогда думал» [21].
Пообщавшись с Сократом, Алкивиад, в сердцах, высказался: «Клянусь богами, Сократ, я уже сам не понимаю, что именно я утверждаю; я оказался в нелепейшем положении: когда ты спрашиваешь, мне кажется верным то одно, то другое» [22]. Многоопытный софист Гиппий в платоновском диалоге «Гиппий Меньший» в итоге оказывается в точно таком же положении и сам отказывается принимать свои же собственные выводы [23]. Основатель эллинской софистики Протагор, которого Сократ подвел к выводу о том, что человек, творящий неправду, все равно может поступать рассудительно, был вынужден сказать: «Стыдно было бы мне, Сократ, признать это, хотя многие люди это и утверждают» [24].
И даже официальный афинский государственный прорицатель Евтифрон, сбитый с толку рассуждениями о тех самых олимпийских богах, о которых он, казалось бы, должен был знать абсолютно все, в итоге говорит: «Но, Сократ, я как–то не могу объяснить тебе, что именно я разумею. Наше предположение все блуждает вокруг да около и не желает закрепиться там, куда мы его водружаем» [25].
Окончание второго этапа являлось как бы лакмусовой бумажкой: вконец запутавшийся человек мог обидеться на себя и Сократа и в гневе уйти, а мог, напротив, проявить свою заинтересованность, и все–таки остаться с философом. (Причем, как показывает жизнь Алкивиада, Платона, Ксенофонта и многих других, иногда даже на годы и десятилетия, на всю жизнь…)
Первых, судя по всему, было довольно много, ведь Сократ даже не скрывал того, что он специально путал людей и подводил их к осознанию их незнания. Ведь, по его мнению, не зная, человек с удовольствием станет искать ответа, а раньше он, думая, что прекрасно все знает, не имел мотивов для поиска истины [26].
Свидетель множества таких вот диалогов Ксенофонт лаконично писал об этом так: «Многие, доведенные до такого состояния Сократом, больше к нему не подходили; Сократ считал их тупицами. Но, те, кто понимали, что им будет трудно стать известными, если они не будут пользоваться обществом Сократа, все–таки старались бывать с ним как можно чаще» [27]. И это неудивительно: глубина исследования и простота изложения Сократа производили на современников такое сильное впечатление, что они считали, что речи философа буквально проникают в душу! [28].
Были и такие собеседники, кто сражались до последнего, упорствуя даже в заведомо неправильных мнениях. Так, в платоновском диалоге «Хармид» Критий говорит: «Если ты считаешь, что из моих прежних утверждений необходимо следует такой вывод, то я скорее от них отступлюсь, и не стану стыдиться признания, что я был тогда не прав, чем соглашусь с тем, что рассудительный человек может не осозновать себя как такового. И настаивает на том, что он… явно когда–то унаследовал у самого Сократа: рассудительность – это производная дельфийского «Познай самого себя» [29].
Однако те, кто оставался с Сократом, становились уже более покорными к тому, что планировал проделывать с нами этот интеллектуальный искуситель. Афинянин Калликл, наблюдая за тем, как Сократ переспорил ученика Горгия Пола, сравнил это с тем, что Сократ встреножил и взнуздал молодого софиста, который, испугавшись открыть то, что у него на уме и подвергнуться новой критике со стороны Сократа, быстро замолчал и, наконец–то, начал внимать ему с максимальным уважением [30]. И если вконец сбитый с толку собеседник Сократа приходил к мысли о том, что продолжение диалога позволит узнать ему нечто совершенно новое и необычное, Сократ приступал к следующему, третьему, этапу своей маевтики.
На третьем этапе беседы Сократ очень ненавязчиво предлагал оставшемуся с ним собеседнику попытаться уже вместе пройти цепь рассуждений и прийти к какому–то якобы совместному выводу. Если собеседник был не против, то тем самым как бы начиналось совместное рождение мысли. При этом большая часть тех, с кем общался Сократ, поначалу были свято уверены, что философ уже имеет в своей голове правильный ответ. Однако сам Сократ никогда в этом не признавался и всегда утверждал, что он познает предмет рассмотрения только вместе с собеседником.
Опять передадим слово Ксенофонту: «Когда Сократ сам рассматривал какой–нибудь вопрос в своей беседе, он исходил всегда из общепризнанных истин, видя в этом надежный метод исследования. Поэтому при всех своих рассуждениях ему удавалось гораздо больше, чем кому–либо, доводить слушателей до соглашения с ним. Например, если кто возражал Сократу по поводу чего–либо и не мог сказать ничего определенного, а без доказательств утверждал, что тот, про кого он сам говорит, или умнее, или искуснее в государственных делах, или храбрее, или тому подобное, то Сократ обращал весь спор назад к основному положению приблизительно так:
«Ты утверждаешь, что тот, кого ты хвалишь, более достойный гражданин, чем тот, кого я хвалю? Так давай рассмотрим сперва вопрос о том, в чем состоят обязанности достойного гражданина.
Хорошо, так и сделаем.
Так, при управлении финансами выше оказывается тот, кто увеличивает доходы государства?
Конечно.
А на войне – кто доставляет ему перевес над противниками?
Так.
А при дипломатических сношениях – кто бывших врагов делает ему друзьями?
Надо думать, что так.
А при выступлении оратором в Народном собрании – кто прекращает борьбу партий и водворяет согласие?
Мне кажется, что да.
При таком обращении спора к основному положению самому противнику истина становилась ясной» [31].
Совместная работа Сократа и уже поддавшегося его чарам собеседника сначала как будто давала эффект, и у присутствующих слушателей иногда даже возникало ощущение, будто вот–вот сейчас они станут свидетелями какого–то важного открытия. Долгожданное определение какой–нибудь «лошадности», «справедливости» или «добродетели» было уже почти создано, но тут по маевтическому замыслу Сократа начинался следующий, четвертый, этап его мыслительного родовспоможения.
Оказав своими специальным образом направленными вопросами помощь собеседнику в совершении важных выводов, показав ему всю неожиданно выявленную сложность предмета исследования, создав иллюзию близости окончательного его понимания… Сократ неожиданно начинал углубляться в такие нюансы, что всем становилось понятно: данный вопрос можно
рассматривать еще очень и очень долго, а правильный ответ еще, на самом деле, вовсе не очевиден. Так, Сократ подводил людей к своей стержневой мысли: «Я знаю то, что ничего не знаю! И это незнание делает меня все–таки более знающим, чем тех, кто наивно думает, что они знают, – а на самом деле, совершенно ничего не знают, даже пределов собственного незнания».
Парадоксально, но факт: десятки дошедших до нас сократических диалогов Платона и Ксенофонта не содержат каких–то существенных выводов, Сократ к ним практически никогда не приходил. И если вдруг его собеседник пытался что–то четко зафиксировать, Сократ мягко его поправлял и говорил, что данный вывод не окончательный, лично сам он, Сократ, еще ни к чему не пришел, а всего–навсего исследует этот вопрос вместе со своим собеседником [32]. Но, что особенно психологически было тяжело для собеседников Сократа, когда он периодически отказывался от своего мнения и сформулированных выводов и наблюдений и принимался иссследовать предмет практически с нуля. А если его начинали за это критиковать, то, оценивая самого себя, Сократ скромно говорил о себе как о человеке довольно опытным в возражениях, а не в мыслях и выводах [33].
В связи с этим, следует сделать уместное замечание, что, судя по всему, собеседник являлся для Сократа неким катализаром мысли, а сам процесс поиска истины с новым собеседником не только давал возможность напрягать сознание его партнеров по диалогу, но и позволял находить все новые и новые логические ходы самому Сократу. А эти дополнительные боковые ходы логического анализа, судя по всему, иногда были для философа гораздо важнее достижения некоего итогового результата. Ведь, таким образом, в результате беседы находилось и обнаруживалось значительно большее – правильная методология научных поисков! И то, что его собеседники сами не всегда это понимали, Сократа совершенно не смущало: его вели по жизни указания внутреннего божественного голоса, принуждавшие его проверять людей и помогать им, познавая себя, тем самым высвобождать в себе возможный божественный потенциал.
И вот, когда все вокруг оказывались совершенно сбитыми с толку и уже начинали терять терпение, Сократ, якобы в поисках каких–то дополнительных аргументов, начинал расспрашивать своих собеседников о тех или иных ситуациях в их жизни, об их мнении по вопросам, не относящимся к теме обсуждения напрямую (хотя они у него на самом деле всегда к ним относились). И если у собеседника еще на это время и возникало жгучее любопытство – к чему же ведет этот хитрый сатир, начинался итоговый, пятый, этап родовспоможения: выявление способностей собеседника Сократа
производить на свет мудрые мысли, наличие или отсутствие у него божественного творческого дара.
Неожиданно для собеседника, оптимистично рассчитывающего получить от диалога с Сократом какой–то конкретный результат, показав всю сложность и по сути бесконечность цепи рассуждений и примеров, тем самым посеяв смятение и нередко даже панику в собеседнике, Сократ затем очень внимательно изучал его реакцию, пытаясь понять: смог ли данный разговор оказаться для него судьбоносным, пробудил ли он его сознание, стал ли тем важным толчком, после которого этот человек уже никогда не провалится в столь характерную для обывателя мыслительную дремоту, или же только вызовет раздражение и останется в его памяти как неприятный инцидент, когда все присутствующие увидели его мыслительную слабость.
И если Сократ видел, что его собеседник действительно начинал задумываться о том, что он до этого считал столь очевидным, и продолжал свой мыслительный процесс вполне самостоятельно уже после окончания диалога с Сократом, то тогда он считал свою маевтическую помощь при рождении новых мыслей и нового мыслителя (ведь на самом деле Сократ помогал родиться не столько мыслям, сколько мыслителям) действительно успешной. А если же собеседник с бранью (или пристыженный) уходил, то Сократ просто понимал: видимо, в этом человеке нет божественной творческой искры, и, значит, его судьба жить на земле, не используя всего того потенциала, что скрыт в человеческом сознании.
Говоря о пятом этапе диалога, этапе уже не поиска истины, а оценки и возможной переориентации, перепрограммирования жизненных целей собеседника, этапе планомерного создания Сократом мини–копии самого себя, следует подчеркнуть: те, кто вел диалог с Сократом, в этот момент неожиданно понимали, что в беседе на самом–то деле речь шла не столько о предмете разговора – какой–нибудь там «лошадности», «храбрости», «воспитании» или «прекрасном», сколько… о них самих!
И у нас есть понимание, что данная особенность конструирования и самой цели ведения сократовского диалога осозновалась уже его собеседниками. Так, в одном из диалогов Никий предупреждает своего друга Лахета, начавшего разговор с Сократом: «Мне кажется, что ты не знаешь, что тот, кто вступает с Сократом в тесное общение и начинает с ним доверительную беседу, бывает вынужден, даже если сначала разговор шел о чем–то другом, прекратить эту беседу не раньше, чем, приведенный к такой необходимости самим рассуждением, незаметно для самого себя отчитается в своем образе жизни как в нынешнее, так и в прежнее время. Когда же он оказывается в таком положении, Сократ отпускает его не прежде, чем допросит со всем пристрастием. Я уже давно понял, что в присутствии Сократа у нас пойдет разговор не о мальчиках (о воспитании – прим. автора), а о нас самих» [34].
Таким образом, под видимостью некоего обычного разговора, фактически проведя сеанс психодиагностики, проанализировав весь интеллектуальный и волевой потенциал собеседника, «перелопатив» его жизненный опыт, Сократ приходил к принципиальному для себя выводу: способен ли данный индивид, так же, как сам Сократ, потерять жизненный покой и заняться познанием всего вокруг, есть ли в нем божественная искра творчества, может ли он стать таким же Сократом? И если данные потенции Сократом в человеке обнаруживались, он делал все возможное, чтобы этот человек попадал в его круг, и в ходе дальнейших бесед постепенно его перепрограммировал, перенацеливал его жизненные ориентиры с бытовых целей на достижение чего–то действительно важного, уподоблял самому себе.
Теперь, высказавшись по поводу технической стороны маевтики Сократа, следует ознакомиться с тем ее анализом, что уже имеется в историографии. Причем, поскольку историография о Сократе исключительно велика и многообразна, позволим себе остановиться только на двух высказываниях, которые, на наш взгляд, наиболее точно описывают то, что скрывалось за его маевтикой.
Так, согласно известному специалисту творчества Сократа А. В. Подосинову, принципиально в сократовской маевтике было следующее: «До
Сократа мысли, идеи и концепции передавались, если можно так выразиться, поверхностно, формально: мысль или концепция облекалась в вербальные формы, так сказать упаковывалась и транслировалась другим людям, которые их затем как бы распечатывали, затем дешифровывали, переводили ее на тот свой собственный внутренний язык, который у каждого человека был свой. Собственно говоря, отсюда можно сделать вывод о том, что софисты, тот же Горгий, были в чем–то правы: каждый человек, усваивая чужие наблюдения и таким образом пресловутую истину, на самом деле усваивал не ее, а свое собственное понимание этой транслируемой ему истины. И это открытие субъективности истины, разумеется, логически вело к пониманию ее относительности, а раз относительности, то и ее отсутствия вообще.
Сократ же… постарался усовершенствовать, улучшить сам метод передачи мыслей и идей от одного индивида к другому. Платон многократно передает в своих работах мысль явно сократовскую о том, что знание не передается от одного к другому механически, путем прямого вкладывания мыслей одного человека в голову другого. «Мудрость не может перетекать из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой» [35]. Истина должна сама родиться в голове человека, человек должен сам из себя произвести необходимое знание, лишь тогда оно будет делом его истинной убежденности, частью его самосознания.
Знаменитый сократовский диалог, маевтика, мыслительное родовспоможение в этом смысле есть не что иное, как сознательное выращивание мысли в другом человеке, выращивание его при постоянном текущем контроле за самим процессом рождения мысли. «Не «пересаживать» мысль, истину, учение в голову собеседника, а «взращивать» ее из того, чем он сам располагает, пробуждать его творческие силы – такова суть маевтики» [36].
Близок по своим оценкам маевтики и английский иссследователь Дж. Г. Льюис: «Философия Сократа, не являющаяся сама по себе строгой
философской системой, представляла каждому серьезному мыслителю возможность самому вырабатывать на ее основе свое собственое учение. Она лишь сообщала умам толчок в определенном направлении, а также представляла им для руководства известный метод. Одни ученики Сократа усвоили его метод, другие же восприняли данный им толчок» [37].
Таким образом, читая Платона и Ксенофонта, мы видим: ведя
маевтический диалог со своим слушателем, Сократ не просто транслировал свои мысли, он как бы «доводил до нужной кондиции» своего собеседника, провоцировал его мышление в нужную сторону, как бы осуществлял управляемый взрыв мысли собеседника именно в том направлении, в котором это было нужно самому Учителю, терпеливо дожидался того, когда ответная мысль в сознании ученика не становилась аналогичной, аутентичной мысли учителя, воспроизводилась в его сознании уже без тех традиционных искажений, что характерны для обычного общения вербальным способом.
Можно не сомневаться, что данное мыслительно–ценностное сократовское программирование действительно «встряхивало» не только его учеников, но и даже его случайных собеседников, коренным образом меняло их мировоззрение, открывало им глаза на новый мир вокруг, создавало ощущение того, что они словно просыпались и вдруг начинали видеть истинное значение всего сущего вокруг них, а не те поверхностные тени бытия, что они наблюдали до этого. Именно такие оценки мы встречаем со стороны его непосредственных слушателей, причем, даже от таких, кто был к этому морально готов, уже знал об особенностях воздействия Сократа на собеседников.
Так, приехавший из далекой Фессалии Менон говорит после маевтической беседы: «Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по–моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове моей полная путаница. А еще, по–моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое – я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она такое. Ты, я думаю, прав, что никуда не выезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину: если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедленно схватили бы как колдуна» [38].
Это маевтическое прозрение, некое откровение, для античного человека казалось поистине бесовством, теми самыми пресловутыми «чарами Сократа», которые откровенно пугали афинскую общественность. Видя, как их дети преображались, становились поистине Другими, осознавая, что последствия воспитательного эффекта от бесед с Сократом явно совсем иные, нежели от посещения школы, многие родители попросту боялись потери управляемости над своими детьми, боялись обретения ими тех ценностей, что войдут в конфликт с теми традициями, что были для тогдашнего афинского общества по сути каноническими.
Однако до осуждения Сократа тогда, когда он начал широко применять свою маевтику, было еще далеко. Согласно Платону и Ксенофонту, Сократ начал применять свою маевтику тогда, когда ему было только за тридцать, и именно тогда он очаровал и притянул к себе Алкивиада, Крития и Хармида. И как и все, что делал Сократ, начал он применять ее явно сознательно. И теперь уже четко понимая механизм маевтического диалога, нам следует еще раз вернуться к сформулированному в начале главы вопросу, зачем же он это делал? Отвечая же на этот вопрос, хочется сказать о том, что процитированные нами выше А. В. Подосинов и Дж. Г. Льюис, очень точно передавая технику и механизм воздействия Сократа на собеседника, пусть и фиксируя на этом мысль, отмечают главное: целью этих диалогов являлось вовсе не познание, а передача от Сократа к собеседнику неких четко направленных мыслительных импульсов!
Почему не познание? Да хотя бы просто потому, что при анализе сократических текстов становится понятно: ничто не мешало Сократу
приходить к каким–то выводам и давать более или менее точные дефиниции тех или иных качеств, предметов или явлений. Однако он этого не просто не делал, но совершенно явственно, иногда попросту уходил от этого, вновь и вновь начиная кружить с собеседникам вокруг да около.
Что же хотел Сократ, если не поделиться и не навязать другим людям свои наблюдения? Судя по всему, другого: Его задачей было тестирование, проверка максимально большего числа окружающих его людей «на разумность», по сути, провоцирование собеседников на то, чтобы они так сильно удивились своему незнанию того, что они до этого считали очевидным, что после этого они уже не могли оставаться такими же обычными обывателями, какими они были до беседы с Сократом.
Взяв на себя функции быть одушевленным множителем того дельфийского призыва, что когда–то так потряс его самого («Познай самого себя!»), тем самым Сократ как рентгеном просвечивал людей, выявляя тех, в ком была скрыта божественная сила интеллектуального творчества, и как бы «вводя их в строй», увеличивая в обществе число тех людей, кто подобно ему самому, начинали усиленно анализровать то, что, по мнению большинства, вовсе не требовало анализа. А сам этот их анализ, равно как и анализ самого Сократа, вполне закономерно тут же приводил к обнаружению в обществе (в том числе конкретно в афинском) таких недостатков и откровенных изъянов, которые требовали немедленного исправления.
Итак, с нашей точки зрения, в своих маевтических беседах Сократ не обменивался мнениями и не старался найти единомышленников. Поскольку он старательно скрывал свои взгляды, то по сути у него не было единомышленников. А не приходил он (во всяком случае публично) к каким–то конкретным мыслям, видимо, потому, что для Сократа было важно не рождение какой–то мысли, важно было рождение мыслителя, важно было количественное увеличение тех людей, в ком обнаруживался божественный дар творчества, биение интеллекта.
Таким образом, подводя итоги данной главы, выделим специфику нашего собственного понимания сути (в том числе социальной) маевтики Сократа:
1. Сократовская маевтика на самом деле имела цель помочь родиться вовсе не правильной мысли, а правильному (с точки зрения Сократа) мыслителю.
2. Сократовская маевтика помогала Сократу преодолеть свое интеллектуальное одиночество, она производила на свет таких новых мыслителей, которые, взятые вместе, позволяли Сократу создавать уже целую интеллектуальную среду, творческое микросообщество в рамках афинского полиса.
3. Количественное увеличение интеллектуалов в духе Сократа объективно увеличивало количество недовольных неправильным устройством мира (ведь интеллектуалы всегда им недовольны), что превращало Сократа из просто интеллектуального индивида в некий центр интеллектуального уже сообщества. Причем такого сообщества, которое поскольку было творчески интеллектуальным, автоматически оказывалось идеологически активным.