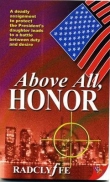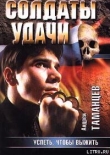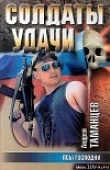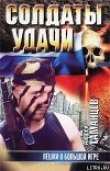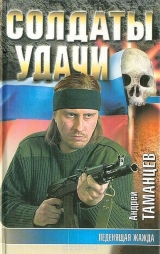
Текст книги "Леденящая жажда"
Автор книги: Андрей Таманцев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Ленинград
7 декабря 1979 года, 11.42
На следующее утро Соня помнила только то, что вчера стало понятно, что у них с Кукушкиным нет ничего. общего. Все. кончено, это ясно как божий день.
Вот и хорошо. Замечательно.
И прочь сомнения. Она одна среди трусов и безумных. И неизвестно, что хуже.
– Семенов! Какие у нас планы на завтра?
– Соня, ты о чем? Завтра нерабочий день.
– У всех рабочий, а у нас – выходной? Значит, все? Значит, мы уже никому не нужны?
– Соня, я же тебя просил!
– Да что, в конце концов, происходит?!
– Соня, успокойся! Я спокойна.
– Вижу, как ты спокойна.
– Ты не видишь! Ты ни черта не видишь, Семенов, вот я завтра соберу иностранных корреспондентов…
Семенов схватил ее огромными руками и зажал рот:
– Дура! Ты что?! Молчи! Жить надоело?! Она вырвалась:
– Надоело! Надоело врать. Вы все трусы!
– Прекрати! Прекрати, я тебя умоляю! Тебе наплевать на себя – пожалуйста, зови кого хочешь, хоть повесься! Но мы-то при чем?
– Вы ни при чем! Вы чистые ученые, вам наплевать, что бомбу сбросили на Хиросиму, что газом потравили тысячи солдат, что динамитом взрывают людей! Вы ни при чем!
– Болтовня! Псевдогуманистическая болтовня!
– Нет, Семенов, есть гуманизм и антигуманизм, а псевдо – не бывает! – Она немного успокоилась. Выплеснула обиду и успокоилась. – Кукушкина не видел?
– Нет, еще не приходил. А зачем он тебе? «Действительно, зачем? Нам уже никто не поможет…» Она подошла к окну и закурила. Та самая пепельница, которую ей предстояло забрать домой. Помнится, ее сделал одноклассник – в походе, из коряги.
Дверь скрипнула.
Соня обернулась.
На пороге стоял Кукушкин, но почему-то не в пальто, а в измятом лабораторном халате. Лицо совершенно заспанное.
– Привет, Леша! – на ходу бросил Семенов, не обратив внимания на странный вид своего коллеги. В этот момент он был слишком занят разбором отчетных документов.
– Привет, – буркнула Соня и отвернулась к окну. Минуту Кукушкин будто колебался, отвечать на приветствие или нет, потом медленно и членораздельно произнес:
– Здравствуйте.
Тут даже до Семенова дошло. Вежливостью и вниманием к окружающим Леша никогда не отличался. И вдруг такие церемонии… С чего бы это?
– Кукушкин, ты что, спал здесь?
– Да, заработался вчера и подумал, что ехать домой нет смысла.
– Интересно… А ты не хочешь помочь нам прибраться здесь?
– Нет.
– Что – нет???
– Не хочу.
– Откровенно. Ну ладно, на нет и суда нет.
Соня не выносила, когда в бытовую речь вставляют всякие пословицы или поговорки, а Семенов часто прибегал к неиссякаемым ресурсам народной мудрости. В любой другой момент она бы обязательно отпустила какую-нибудь колкость по этому поводу, но не сейчас, когда это ее особенно раздражало.
– Соня! – позвал вдруг Кукушкин.
– Да? – не оборачиваясь, ответила она.
– Ты вроде хотела со мной поговорить?
– Нет.
– Извини за вчерашнее. Может, все-таки поговорим?
– Не о чем, – сухо ответила Соня.
– Ну прости. Я просто был занят.
– Кукушкин, я не обижаюсь. Как я могу обижаться на погоду? На время? На отрицательно заряженные электроны? На бесконечность, на вакуум?..
– Так я для тебя пустое место?
– Нет, не пустое, а очень даже полное. Полное дерьма!
– Прости…
И Кукушкин ушел в другую комнату. Соня даже не обернулась.
Вокруг продолжали мельтешить люди, все носились с папками, кипами бумаг, со скрипом выдвигались ящики столов, позвякивали тщательно упаковываемые в стружку колбы и мензурки…
Вдруг крупная капля прочертила на стекле широкую дорожку, скатываясь вниз к подоконнику, затем еще одна и еще.
– Ты что делаешь, идиот?! Брось сейчас же! Ты что, с ума сошел?!
Этот крик Семенова оборвал все остальные звуки. Визгливый, испуганный, истеричный.
– Эй, кто-нибудь! Вызовите «скорую»! Господи! Помогите мне! И все вон из комнаты!!!
Соня метнулась на крик.
То, что она увидела, было похоже на страшный сон. Пол был усеян осколками стекла, повсюду брызги, и среди всего этого хаоса лежал Леша, тяжело дыша и корчась в судорогах. Он умирал.
Соня поняла это сразу, как только оказалась на пороге.
Все вокруг метались и суетились, Семенов орал как резаный. А ей вдруг стало смешно. Нет, даже не смешно, а как-то запредельно ужасно, когда только смехом и спасаешься.
Никто и ничто не могло остановить приступ заливистого смеха, тонкого и надрывного. Впрочем, всем было не до нее: кто-то хлопотал вокруг распростертого на полу Кукушкина, некоторые пытались убрать с пола осколки.
Кукушкин несколько раз дернул головой, потом рукой, правой – четко отпечаталось в сознании. Потом пришли в движение ноги – по телу проходила волна смерти. Не более чем минутные конвульсии превратились для нее в бесконечный страшный спектакль. И даже много лет спустя, закрывая глаза перед сном, она продолжала раз за разом проживать эту внезапную, страшную смерть.
Потом все кончилось – и наступила тишина. Все стояли вокруг того, что еще недавно звалось Кукушкиным, постоянно выпендривалось, то и дело демонстрировало свой мерзкий характер, а теперь стало всего лишь энным количеством килограммов отравленной плоти.
Соня тяжко икала, смех перешел в болезненные спазмы.
– Соня, что произошло? Зачем ты это сделала? Соня обернулась как от выстрела. Икота тут же прекратилась.
– Я? Что я сделала?!
– Ты его убила!
– Tы дурак, Семенов! Что ты несешь?! Меня тут и близко не было. Это ты здесь был! Ты же все видел!
– Да, я видел! Знаешь, что я видел? Когда я вошел в кабинет, он стоял над столом и, как всегда, возился с пробирками. И вдруг берет и подносит склянку к губам и… Он сказал: «Прости, Соня».
Соня почувствовала, как горло словно сдавила петля. Не вздохнуть. Только слезы из глаз.
Она не могла ответить, не могла выдавить из себя ни звука. Семенов обхватил ее, прижал к себе.
– Ну тихо, тихо…
И только после этих слов она упала на колени, завыла, закричала, забилась в истерике. Она плакала довольно долго.
– Это кто сделал? – Тихий голос прозвучал почему-то страшно громко.
Два человека, те самые консультанты в штатском, стояли на пороге.
– Кто его убил? – наклонившись к трупу и прощупав пульс, спросил угрюмый.
– Он сам себя убил, – сказал Семенов. – Он выпил отравляющее вещество.
– Ясно, – сказал тот, что с залысинами, – неврастеник. Где его документы?
– Паспорт? – спросил Семенов.
– Нет, результаты исследований.
– Здесь. – Семенов показал на сейф Кукушкина.
– Откройте.
– Но у меня нет ключей.
Угрюмый наклонился над трупом, обыскал его и выудил связку ключей.
– Эта?
– Наверное.
Угрюмый испробовал несколько ключей, пока нашел нужный, открыл сейф и замер. В железном ящике было пусто.
– Сволочь, – сказал угрюмый.
…Когда посиневшее тело Кукушкина оказалось на носилках, вокруг уже не оставалось следов недавнего «ядовитого погрома». Стерильная пустота. Безжизненный холод.
Труп накрыли простыней и понесли в машину.
Соня не стала провожать носилки, за мертвым телом вообще никто не шел.
Она увидела только, как носилки затолкали в труповозку. Машина отъехала от подъезда.
Соня кинула последний взгляд на руины того, что они все вместе строили, и очень пожалела, что яда больше не осталось.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Глазов
27 июня 200… года, 17.20
Отойдя от больницы на довольно приличное расстояние, Трубач опустился на скамейку. Небольшой скверик, здание больницы желтеет сквозь деревья, кажется, что оно далеко-далеко. Он отвернулся
Не было ни сил, ни слез, только какая-то темная, неизбывная злость.
К чему теперь кого-то спасать, если он не спас сестру? Светки больше нет. Он не успел, он не смог… Надо поехать домой, забрать оставшиеся там вещи и…
Может, снова поехать в Чечню? И бить врага на его территории? Он был уверен, что все произошедшее – дело рук чеченских бандитов. Нет, если уж мстить, то нужно начинать здесь… Но как же на них выйти?
Возникло дискомфортное и вместе с тем знакомое ощущение: как будто ему целятся в спину. Он быстро оглянулся – на скамейке неподалеку сидел странный тип и не сводил с него глаз.
Действительно странный: длинные седые волосы, черный берет, черный старомодный плащ (это летом-то!) и разноцветный женский зонтик-трость. В лице что-то отвратительное, птичье…
Вот нет никого сейчас на улице: все либо больны, либо ухаживают за больными. А этот сидит тут и смотрит. Может, догадывается даже, что у меня кто-то умер, и, кажется, наслаждается этим. Причем смотрит в упор, нисколько не смущаясь. Животные, кажется, так вызывают на бой.
Трубач, решив ответить на этот вызов, направил свой взгляд на противоположную скамейку. Странный тип засуетился, начал выписывать зонтиком какие-то кренделя в воздухе, – потом встал и пошел… в его сторону.
Так, вызов принят! Трубач встал и шагнул незнакомцу навстречу. Но странный тип остановился в трех метрах от него, снял берет и, склонив голову, пробормотал:
– Вечер добрый!
Трубач растерялся, не сразу сообразив, что на это можно ответить. Тип уселся на скамейку, с которой только что встал Трубач, и огорошил его вопросом:
– Что, плохо?
И Трубач вдруг ответил искренне:
– Плохо.
– Совсем плохо?
– Совсем.
– Летальный исход?
– Что?
– Смерть, спрашиваю?
– Откуда ты знаешь?
– По глазам вижу
– Издеваешься?
– Не издеваюсь ни капельки.
На указательном пальце татуировка. Какой-то странный рисунок, где-то Трубачом виденный. Но где? Нет, так с ходу не вспомнить.
– Сейчас у каждого человека в этом городе кто-то умер. И каждый по– своему оплакивает. Вы вот, например, очень красиво переживаете – смотреть любо-дорого, – отвратительно причмокивая на каждом слове, продолжал странный человек.
– Слушай ты, эстет! Сейчас ты у меня тоже будешь оплакивать – себя самого, погибшего не очень красивой смертью.
Трубач отвечал в сердцах, не замечая некой нелепицы в собственных словах.
– Ну-ну-ну… Не надо грубостей! Вы уцелели, я уцелел… Я же с добрыми намерениями подошел. Посочувствовать, так сказать. А вы…
– За такое сочувствие…
– Умоляю, только не по лицу… только не по лицу… мне им еще работать!
– На утренниках Бабу-ягу играть?
– И это тоже. А как вы догадались?
– А ты на другое не годишься.
– Нет, правда, неужели вы меня узнали? Вы были на моих спектаклях? Вот уж действительно сюрприз. Меня узнают на улицах! Наконец-то дожил до счастливого дня… Эх, мама, мама, совсем ты немного не успела, увидела бы, как твой сын известным артистом сделался…
«Нет, таких артистов не бывает! Он явно переигрывает! Но зачем? Что он тут вынюхивает? Что ему от меня нужно? Пока еще ничего определенного он от меня не услышал. Нет у них, что ли, кого-нибудь профессиональнее? Но просто так ты от меня не уйдешь…»
– А что с мамой?
– Да тоже вот скосила ее чума-то эта…
– Чума? – Трубач заметно вздрогнул. Этот тоже про чуму. Словно читает его мысли.
– Да-да. Конечно же чума. «Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой…» Вот лежит моя матушка на столе холодном, а я даже поплакать над ней не могу.
– Почему?
– Ну я же актер! Настоящие чувства испытывать не привык. Вроде бы сейчас и пострадать готов – ан нет, не могу: то монолог Лира на языке вертится, то слова Вальсингама… А оплакать мать по– настоящему, по– человечески – слабо.
«Что ж, что-то в этом артисте все-таки есть. Красиво придумал. Такие обычно и бывают маньяками. С виду мелюзга мелюзгой…»
– Даже посочувствовать тебе не могу.
– И не надо. А может, слушай: «…зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы И, закатив пиры да балы, восславим царствие чумы…»?
«Вот. Наступил момент. Это он специально меня провоцирует. Тем лучше!»
Трубач неторопливо встал. Спокойно, без лишних движений взял субъекта за шею:
– Я тебе восславлю!
Субъект не на шутку испугался, попытался вырваться – не получилось. Забегали глаза. Лицо покрылось красными пятнами. Скосил глаза направо, потом налево – помощи ждать было неоткуда.
– Но-но! Вы меня неправильно поняли… Это же Пушкин!
– Странное время для поэзии. – Трубач начал слегка сжимать руку; – Выкладывай. Что ты тут вынюхиваешь?
– Вынюхиваю? Странный вопрос! Ничего… Отпустите! Я задыхаюсь… Вы сумасшедший!
Но Трубач уже и так не держал его.
Почувствовав свободу, странный этот человек как ни в чем не бывало уселся снова на скамейку и с видом закиданного камнями, пророка нараспев продолжил:
– Для поэзии и вообще для искусства, брат, именно сейчас самое время. Именно в такое время и рождаются настоящие трагедии! «Все, все, что гибелью грозит, для сердца нашего таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог…» – И тут он вдруг сменил интонацию, как-то странно скосив глаза: – Да, а иначе можно мозгой тронуться…
– Ну тебе это уже не страшно. Терять нечего.
И тут на их скамейку приземлился еще один человек, по-видимому заинтересовавшийся сей нестандартной беседой. Он переводил взгляд с одного на другого и все пытался вставить хотя бы словечко. Для провинциала у него был довольно холеный вид.
– «Да, странен я… не странен кто ж?» – Актер стал в позу, красиво и по– детски обиженно завернулся в плащ.
– Тьфу. Иди, отец, другим песни пой…
– Ну что ж, простимся, так и быть…
– Иди-иди.
– «Да, я шут. Я циркач. Так что же!»
Холеный, видать, не способный распознать цитату, был не на шутку озадачен ее буквальным смыслом. Между тем разговор подходил к концу. Актер решительно встал и как будто между делом, стесняясь собственного голоса, спросил:
– А кто умер-то у вас?
– Сестра.
– Видите как, сами живы, а сестра ваша тю-тю… Сочувствую, поверьте, искренне сочувствую…
И вдруг он заплакал. Трубач даже растерялся.
– А у меня мама умерла, я говорил? – пробормотал сквозь слезы странный.
– Да.
– А вы знаете, где делают Луну? Не знаете…
Актер еще раз покачал головой и побрел в сторону улицы Ленина, на которой и стоял Городской драматический театр. Трубач недоуменно смотрел на его птичью походку. После разговора с этим безумным актером что-то сместилось в его голове. Будто у разочарованного зрителя: он пришел смотреть на трагедию, а ему вместо этого фарс показывают. Хочется поплакать, а тут перед тобой клоун искусственными слезами обливается. Черт знает что!
– Да, странные дела здесь творятся, – послышался голос справа. Трубач обернулся: рядом с ним продолжал сидеть все тот же холеный.
Трубач попытался хоть с этим человеком быть повежливей: вдруг у него тоже кто-то умер и ему хочется поделиться с кем-нибудь своим горем.
– Странные? По– моему, кошмарные.
– Да, я думаю, для вас именно – кошмарные. У вас, как я понял, умерла сестра?
– Да. А у вас?
– Нет. У меня нет. Я вообще сирота. Но мне всех жалко.
– Да… – тяжело согласился Трубач. – Всех.
– Тогда давайте устроим «минуту молчания» в память о погибших.
«Еще один ненормальный!» – подумал Трубач.
Вероятно, эта мысль отразилась на его лице, так как холеный сразу принялся оправдываться. Очень, проникновенным голосом.
– Я не иронизирую, не подумайте ничего такого. Мне хочется сделать что-то хорошее. Но я не знаю что. Я думаю, они, ну погибшие, будут благодарны за это молчание. Может быть, и ваша сестра ждет от вас чего-то такого…
– Ждет?
– Памяти.
– Хорошо. Давайте минуту помолчим. Вы последите за временем?
– Конечно.
И холеный отвернулся в сторону. Нет, надо просто встать и уйти, подумал Трубач. Зачем он вообще сел на эту скамейку? Зачем он разговаривает со странными посторонними людьми? Или это его собственное сумасшествие?
Трубач встряхнул толовой. Нет, морок не пропал. Но еще сильнее стала злость.
Светка, Саша, Сашкин отец, Настин папа, бедная мать этого безумного актера, мужик в автобусе, десятки, сотни людей, которые просили мертвой воды в коридорах больницы… Врачи, которые пытались спасать людей, но сами погибли…
– Минута прошла. Вам стало легче? – развернулся к нему холеный.
– Да, наверное, да.
– Как вы думаете, это дело рук одного человека или какой-нибудь организации?
Черт! Спокойно, Трубач, спокойно! И этот угадывает мысли.
– Ну я не знаю. Разве это не эпидемия?
– Вы же умный человек. Понимаете, что просто так эпидемия не возникает.
– А как она может возникнуть?
– Искусственно.
– Из пробирки, что ли?
И случайный собеседник с удвоенным интересом покосился на Трубача.
Так, этот явно не безумен, но тут что-то другое, куда более опасное.
И Трубач послал холеному встречный холодный взгляд. Глаза холеного тоже превратились в лед, а потом совсем окаменели. Они смотрели друг на друга долго, напряженно, профессионально. Лица были неподвижны, бесстрастны. Глаза тоже.
Этот немой диалог был похож на армрестлинг. На битву, в которой есть и своя тактика, и своя стратегия, свои законы и хитрости, но побеждает всегда сильнейший. Трубач признал, что противник не уступает ему.
Тот, должно быть, тоже осознал это. Поэтому оба одновременно отвели взгляд и расслабленно улыбнулись. Оба что-то поняли друг о друге.
– Откуда вы знаете, что это отравление? – спросил холеный. – Понимаете, какое дело, наука не знает такого сильнодействующего яда, который мог бы отравить весь город. Для этого пришлось бы сбросить на Глазов несколько десятков тонн отравы. И то она бы испарилась через два-три дня. А тут – чем дальше, тем больше. Фантастика.
– А я и не говорил об отравлении. Это была ваша версия.
– У меня пока нет никакой версии. Я только еще хочу понять, что это и зачем. И с какой стати в городе появился чуть ли не целый полк МЧС. Ведь, как вам, должно быть, известно, анализы воды не обнаружили никаких отравляющих веществ. Во всяком случае, известных отравляющих или бактериологически опасных веществ.
Слово «известных» холеный произнес с ударением.
– Я всего лишь пытался мыслить логически. И…
Пронзительный женский крик заставил Трубача обернуться; молодая женщина упала на газон и стала корчиться в судорогах. Кто-то пытался ее поднять. Уже бежали люди в белых халатах.
На скамейке рядом с ним уже никого не было. И в радиусе видимости тоже. Холеный испарился.
И только тут Трубачу пришло в голову, что оба эти странных субъекта были вполне здоровы, хотя вокруг болезнь косила и косила горожан одного за другим. Оба они разговаривали с ним так, будто знали, как уберечься от загадочной напасти, при этом явно считая его посвященным в ту же тайну. Он кинулся на улицу – искать холеного, обежал весь квартал, едва снова не попав в руки «санитаров», но странного собеседника, конечно, уже и след простыл.
Впрочем, это же было почти неважно. Во всяком случае, теперь Трубач, кажется, действительно знал, что должен делать…
Через полчаса Трубач трясся в полупустом автобусе, ехавшем в сторону его родного дома. Нужно забрать вещи, заколотить намертво двери, повесить замки и главное – проверить. Проверить то, что не удалось проверить городским врачам и эпидемиологам.
Когда он вышел из автобуса и добрался до дома, то прошедшие сутки, со всеми их ужасами и безумием, откатились куда-то за пелену тумана беспамятства. А пустой дом ничем не напоминал о недавних кошмарах. Вот только крысы…
Проверить версию отравления воды можно было лишь опытным путем. Трубач решил провести эксперимент именно там, где он столкнулся с этим впервые.
К эксперименту он подошел с дотошностью настоящего ученого. Нужно прокачать все варианты! Необходимо проверить воду: а) из водопровода, б) из колодца, в) из реки, г) минеральную (ту, которую он пил сам). Подопытных животных долго искать не пришлось. Когда он открыл дверь в сени, крысы отхлынули от нее омерзительной серой волной. Для опытов он довольно быстро поймал пять особей и посадил их в отдельные стеклянные трехлитровые банки, на которые наклеил таблички с именами подопытных (Басаев, Гитлер, Бен Ладен и Пол Пот). Пятую, контрольную, обозвал просто Крысом.
Крысы воду упорно не хотели пить, а ждать, когда их одолеет жажда, было некогда.
В местном медпункте, в котором уже никого не было, Трубач раздобыл одноразовые шприцы. Крысы сопротивлялись, но он был непреклонен. И каждую из них с помощью шприцев напоил полагающейся ей жидкостью, впрыснув ее прямо в пасть.
Результат не замедлил проявиться. Через полтора часа первая крыса (Басаев, ей он давал воду из водопровода) стала с жадностью пить. Причем в огромных количествах. Трубач даже не успевал подливать ей новые порции. Через час симптомы повторились с Гитлером (вода из реки). Еще через некоторое время крысы оставили попытки выбраться наружу, стали апатичными. Потом последовали судороги, потом одна за другой крысы сдохли. Бен Ладен, который пил воду из колодца, был подвижен дольше. Но и он в конце концов сдох. И только, как и предполагалось, счастливчик Пол Пот все продолжал озабоченно прыгать на стекло, находясь все в том же бодром состоянии.
Сомнений больше не было – город убивала не эпидемия, его убивали люди, если их можно было назвать людьми… И убивали ядом, которого нет в природе. Который невозможно обнаружить. Которого просто не может существовать.
Загадок стало не меньше, но Трубач теперь, помня о Сашином рассказе, точно знал, откуда все началось.
С набережной, с того самого места, которое в народе называли «три елки».
Трубач залез на чердак, достал из-за пыльной балки сверток с патронами; за балкой же у него с давних, еще чеченских времен хранился на всякий случай «Макаров». Он проверил в нем обойму, набил еще одну, потом зарядил барабан своего любимого кольта сорок четвертого калибра. Проверил, не забыли ли руки, как обращаться с этими замечательными машинками. Оружие привычно легло в ладони, готовое как бы само, без его участия, поймать цель.
Ну вот, теперь он действительно готов к встрече с любой сволочью.