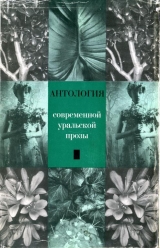
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Но наблюдая безостановочно – экспрессом – собственные экспрессии... тому ли я прихожусь зрителем? Или – за щепетильность: мне – воплощение, а...
Но в последний час меня выжимают лимоном из театрально-библиотечного зала, как из буфетной – из буферной между светом и тьмой просвещения – в изгнание: в свет... из коего ещё вычеркну мои отступления – эти длинноты! И Сизифом таская на себе барельеф, поилец... и помимо чёртовой тонны внося и другие жертвенные виды... на императора, но пространство и время – не самая материальная связь, чем дальше Великий – тем меньше и больше ко мне приближается... да, привязанность ко мне императора – во власти Моего Слова, а отнюдь не...
О, скучнейший черновик, очерняющий – густым мавританским стилем... где каждое ещё не просохшее слово треплет поручившийся за него предмет, придающий ему хоть какой-то вес! И манит войти в тело – всё обеляющее... реабилитирующее – как война... не потравленное – ни буквой... ни чертой! – постраничное порхалище, то есть – воздухоплавание...
Так что тяжесть главы «В изгнании из библиотечного зала» – вскользь...
И вдруг раздвижная страна на очередной вменённой мне карточке провисает трамвайной подножкой – и с грохотом растянувшееся море... или растянувшийся нудизм океана... И писанные на воде известия об императоре, разумеется, – в тот же день... все концы в воду!..
...когда увянув за инкогнито, как за полярным кругом, император дегустирует собственным сапожком – зашитую в метель варшавскую площадь, насмехаясь над слепотой спешащих мимо встречных...
Но, Сир, поверить – будто Бессмертный... голове, севшей в вашу треуголку, поплывшей на ней... – к тому же сменившая треуголку лиса отъела у императора пол-лица... Здесь я щиплю вас за ухо, маркиз, – где сей ламбрекен? – и вздыхаю: полно, я – как всегда – расхаживаю сверхрасхожим сюжетом: монарх, переодевшийся – в сиюминутность, непроницательность, спесь подданных... взгляните – на пресекших площадь половинчатых, дольчатых, заплатанных где попало – окнами... на каменных арлекинов в треуголках крыш!
И хотя летящие на пелеринах и снежных горжетках, на хрустких шарфах и расхлопанных складках встречные, несомненно, схватывают узор – с отвлечённой бархатной шубы с золотыми бранденбурами... театр!
Но моя неспособность – на сальто... неловкость примкнуть через голову – к плещущей полами стае, заполонившей площадь... к заполошной полонии, сточенной – белым, в час, когда император – без свиты, без славы... не вмещающейся в тесноту Варшавы...
И – замкнувшее меня в огненное кольцо – лето... головокружение перехода во времени, тошнота и удушливость деталей, жажда – символа, знака... Солнце – герб дня?.. Черновики на гербовой бумаге, нечистоты метафор... подтверждение адвентивности аллеи – с шепелявым, как Польша, красноречивым шиповником... алеющей, как европа, кустистой речью... И – солнечные золотые рога, вдруг выхватившие её – из окаменевших фаланг города... из финикийских ландшафтов, сидонских красот, бросившие аллею – allea jacta est – в небесно-морскую синь, не слетела б – с божественного быка... с быков, подпирающих начертания улиц...
Вдруг сверкнувший в книжной витрине горбоносый профиль с прищуром, цветущим – морем... нет, право, чей профиль – императора, Давида, Жана, Луи?
Или – выбивающийся из толпы прохожий, сигнально рыжий? Вызывающе – не он! Избитый, как атрибут огня... как маршал Ней...
И случайный всплеск беседы между стопочками – на пирсе письмовника: за крушение моего сочинения... за мое сокрушительное... Герой прошлого рассказа просил в больницу – книгу об отравлении императора... вернули с Того Света! Война назначила кровопускания... Вернули – кого? Кстати, прошлый тоже – горбонос... медонос... меринос... суть – звучность слова. И у всех, летящих за ним, – горбатый, птичий... теперь-то его профиль – плагиат!
Но если всё превращать в птиц, птице к лицу – всё!
Поджарые, гончие круги лета – по следу текущих – с потолка? напачкавших побелкой? – событий: наследников и предтеч... мнимая неразрывность – когда всё должно оборваться: и плоды, угодные для души моей... и всё тучное и блистательное... какой стиль, какая беспросветная явь...
Разорванная – фейерверками, пушками! 15 августа – день рождения императора. Раздача подарков, чудес... вакхических восклицаний и... мне?! Письменный знак – в двух блистательно тучных конвертах! Но – откуда... как?! Из-за моря... не всё ли равно? В день рождения императора.
Кто вам сказал, что море непрозрачно? И видел я стеклянное море... на десятой странице смешанное с огнем... И любимый литературный старик – во втором послании... роскошен – как Талейран – испепеляющий шутник: так безответственно – ничего в ответ, кроме... адресуете – мне? столь бытийственно-убийственные искания? – брезгливо опираясь на вопросительный знак. Особенно задаётесь сами – в шаге от меня, неужели вы не смешны... как прав император! От великого до смешного...
И полночь хлопушек – перед моим окном, золотое пустозвонство шутих, стозвонный салют – в честь... пока ничего не замечающий город – или незаметный сам...
Но на маленькой станции, польской, немецкой, сновиденной – император, инкогнито... сменить лошадей и оттаять... и – раздувающая в печи огонь – крошка-служанка с корзиночкой... в соломенной корзине на голове... И когда я растаю, – за глотком кофе, – эти несколько наполеондоров – ей на приданое... уже неприличный сюжет, как жаль, что великий человек столь дурно воспитан!
О, сказал император, играя в ящик... усаживаясь в санки, невзирая на вечный плагиат, как легко сделать счастливыми бедных людей. Этих бедных, бедных...
Но моё заморское письмо – слишком наспех... строка набегает на следующую – что, писали в порту? И второе – размыто, расплывчато... Но что и вовсе смущает меня в императоре... Всякий раз переписывает золотую жизнь – с набитой армейской затверженностью, когда очевидно – нужна другая композиция! Даже я могу перепутать... переставить случившиеся с ним события. И коль скоро его жизнь дискретна – временна, пока перевёртываем страницы... А он не смеет – перекроить! Или из новой последовательности не извлечётся нравоучение? И превратил великий текст... на бобах, как артиллерийский набоб. И мне не придётся воздеть в эпиграф Стендаля: Любовь к Наполеону – единственная страсть, сохранившаяся во мне...
Впрочем, я ещё не теряю надежду.
1992—1993
КОЗЛОВ Андрей Анатольевич
1956
СТОКГОЛЬМ
Якобы я в Стокгольме, якобы получаю Нобелевскую премию. Журналист из «Ньюсуик» спрашивает:
– Как Вам Стокгольм?
– Ничего, – отвечаю. – Нравится. Особенно меня поражает то, что вывески магазинов написаны латинскими буквами – чувствуется, что заграница. Когда гуляю по улице, то думаю: неужто я и впрямь в Стокгольме? Неужто Нобелевскую премию отхватил? Всегда мечтал, но всё равно не верится.
– Когда, мистер А..., Вы впервые ощутили в себе писательское дарование?
– В детстве, конечно. Бывало, играешь в войну, в капитана Тенкиша или в ковбоев, и всё это комментируешь. Получается текст. Например: я ранен, я истекаю кровью, но я ползу, я подползаю к Вовке, он тоже ранен, говорю Вовке: «Отходи, я тебя прикрою», Вовка отвечает: «Нет, я тебя одного не брошу», тогда я говорю: «Владимир! Выполняйте приказ!», Вовка говорит: «Ладно!». Но тут через забор перелазят бледнолицые Олежка, Багда и Чира. Вовка суёт за пояс гранату и, пошатываясь, идёт к ним навстречу. «Ну, что, взяли?!» – кричит Вовка и бросает им под ноги гранату. Бах! «Вы все убиты!» – «Нет, мы ранены!» – кричат Олежка, Багда, Чира и падают. И так далее. Вот тогда, наверное, у меня появилось Это.
– А что было вашим первым написанным произведением?
– Школьные сочинения. Вот такие: «Наступила осень. Листья опали. Колхозники убирают урожай с полей. Скворцы, грачи и лебеди улетели на юг, а голуби и воробьи остались.» Вот с тех пор и пишу.
– Над чем Вы сейчас работаете, мистер А...?
– Следующий мой роман будет называться «100 тысяч лет из жизни человечества».
– Ну, спасибо!
– Ну, пожалуйста, до новых встреч!
Шведское такси, шведские журналы, король, королева, рестораны, бары, кока-кола, кровли готических крыш, пароходы.
1983
ЦАЦА-УПАНИШАДА
Кто-то крикнул:
– Цыть, салажня! Цаца пришёл.
Цаца действительно зашёл и, сев на сундук, зевнул. В окне, куда он в тот момент посмотрел, в аккурат летели вороны. Цаца, позёвывая, всех их пересчитал и сказал:
– Ого-го! Ничего себе как много! – Потом посмотрел на разинувших рты людей и изрёк, воздымя палец кверху. – Такова есть данность!
– Да ну ты! Иди ты! Эвон как! – зашумели все вокруг разом.
– Цыть, салажня! – крикнул кто-то. – Цаца всё разъяснит.
Завернувшись поудобнее в свою козлиную шкуру, Цаца сказал:
– Воттаковость, она есть всякая, и, если она вам надо, вы её можете увидеть.
– Где же она? – спросили его.
– Она – вон она, – ответил Цаца и добавил. – Забейте болт! Не вздрагивайте, друга мои. Самособойность несебечевойна, воттаковость самособойна, вы же еси овцы подле меня.
– А какая она, эта самособойность? – спросили его.
– Ого-го какая она, – ответил Цаца и добавил:
– Если ля-ля, то фа-фа, други мои.
При этом он зарычал, завизжал и засветился, как галушка. Вот какой мудрый и страшный был Цаца.
1980
О ПРОДЕЛКАХ ХИТРОУМНОГО СТУДЕНТА ЛИ
Бабочки порхали па́рами среди тростника. Студент Ли глядел на них и восхищался. Не забывал он любоваться-таки и опавшими лепестками абрикоса. Уже к вечеру он направился к дому, проходя мимо озера, где плавали мандаринские утки, и увидел девушку, собиравшую жёлтые сливы.
Увидев красавицу, студент Ли подбежал к изгороди из бамбука. Сердце юноши затрепетало от радости, и он почувствовал, как тонкий аромат разливается повсюду. Студент Ли окликнул красавицу, которую звали Си. Девушка была из рода Чань, дочь Ван Ченя и У Син. Девушка обернулась, и юноша прочёл ей отрывок из «Лаосина».
Девушка улыбнулась, тогда Ли предложил ей предаться радости, но девушка отказалась, т. к. происходила из благородного рода и очень боялась родительского гнева.
Тогда студент Ли сказал:
– Давай предадимся радости так, как это делали Шунь-Лунь, живший в горах Айо, или Сяо Гун из Вэньчжао.
Девушка в своей жизни ничего кроме «Шуцзина» не читала и поэтому не слышала ни о Шунь-Луне, ни о Сяо Гуне. После того, как юноша рассказал ей о них, девушка согласилась.
Они вошли в дом и восторженно наслаждались друг другом до утра, причём так, что Си осталась девственницей.
Наутро Ли, взяв пригоршню розовых персиков, лежавших в вазе возле окна, вышел в изумрудный сад и направился к воротам.
– Приходите сегодня вечером, – сказала Си вслед студенту Ли. – И когда взойдёт луна, мы снова предадимся радости.
– Хорошо, – ответил студент Ли.
1985
СОЧИНИТЕЛЬСТВО
Ну, листья падают. Ну, ветерок подул. Ну, настроение плохое. Ну, скука. Ну, вообще жить неохота.
Ну, вот вам сермяжная правда. Ну, вот какие чудеса.
Ну, всё это с рифмой. Ну, поток-лепесток. Ну, домик-гномик. Ну, написал длинное-предлинное стихотворение и складно. И зачем всё это надо? Кому?
1980
0,06 ПРОЦЕНТА «БЕЗГЛАСНОСТИ»
Если у нас гласность есть и можно свободно высказываться, то я во всеуслышание заявляю: никакой гласности у нас нет!
Так. Но если такие вещи заявляются вслух, открыто, то, стало быть, некоторая гласность всё же есть. Видимо, на самом деле настало наше время! Что ж мы молчим? Что ж вы молчите? Давайте все хором, вместе, громко крикнем: нет гласности! Нет! Нет! Нет!
Видите, уже все массово говорят о том, о чем думают, – смело, не взирая на лица. Все! А раз все говорят – молчать уже нельзя! Раз уже точно, наверняка, как пить дать можно и даже нужно, то я вынужден высказать некоторые свои соображения насчет так называемой «гласности». Лично мне кажется, что всё-таки её как таковой пока ещё нет, но в то же время у нас кое-что сказать можно, а раз так, то позвольте мне высказаться и очистить душу: нету у нас гласности, не было и не будет!
Видите! Что говорят! Что пишут! Всё, что хотят! Всё говорят, никакой цензуры, во все стороны гласность! Так что, пользуясь тем, что гласность наконец-то настала, признаемся в конце концов, хотя бы друг другу, что нет у нас никакой гласности...
Но может быть, мы неправильно строим мысль? Если гласность есть, то надо так и говорить: есть гласность. А если нет гласности, то... да, тут, конечно, опять же надо говорить, что она есть. Значит, если мы говорим «гласность есть», из этого следует сразу два следствия: первое – что гласность есть, второе – что гласности нет. То есть, 50% гласности и 50% безгласности. Причём к началу следующей пятилетки безгласность у нас уже достигнет 0,07%, а в экспериментальных районах даже 0,06 процента, то есть это будет меньше, чем в развитых, развивающихся и неразвивающихся странах вместе взятых. И таким образом, к концу 20-го века мы достигнем всеобщей и полной гласности.
Но гласность не придёт сама собой по воле рока. Всеобщая гласность будет достигнута всеобщими усилиями. Ещё есть и в обозримом будущем будут сохраняться отдельные проявления безгласности. Мы должны в трудовых коллективах, на производственных собраниях пресекать попытки говорить неоткрыто, непрямо, без критики. Подрастающие поколения должны уже с пеленок знать: «Молчун – находка для шпиона». Молчание – нравственный СПИД. Одна паршивая молчащая овца портит бочку говорящего мёда. Кто не говорит, тот не ест. Век живи, век говори!
А зажимщики критики, если им не нравится, пусть убираются на все четыре стороны, хоть в Южную Корею, хоть куда, и пусть там молчат, молчат до блевотины, до посинения, пусть охрипнут от своей немоты. А мы будем совершенствовать гласность. От экспериментальной гласности перейдем к интенсивной, от переходной гласности – к развитой, от развитой – к развитой на новом качественном уровне, от гласности развитой на новом качественном уровне к гласности на основе самофинансирования, хозрасчёта, многомандатности. Так что пусть бюрократы, враги перестройки, скептики за рубежом не радуются и не надеются – впереди у нас много этапов.
1987
АЗБУКА ХОРОШЕГО ТОНА (Начальный курс)
Чтобы не попасть впросак и не закомплексовать в компании образованных и эрудированных людей, вы должны знать следующие вещи:
Рильке и Лорка – поэты.
Кафка и Хандке – прозаики.
Макс Фриш всё ещё жив, а лучшая его книга – «Назову себя Гантенбайн».
Слово «кофе» мужского рода, в слове «Пикассо» ударение на втором слоге, а в слове «Бальмонт» – на первом.
Достоевский, Тарковский и Кобо Абэ – амбивалентны и полифоничны. Значение этих слов следует посмотреть в БСЭ. Там же можно посмотреть значения слов: инфантилизм, катарсис, летальный, летаргический, медитация, сублимация, трансцендентализм.
Андрей Платонов работал одно время дворником.
Заратустра, который «так говорил», – это иранский пророк, который давно умер и никогда не был мусульманином.
Китайская поэзия много тоньше и глубже японской.
Проявляя восторг, следует говорить: «Сю-у-ур!» (это от иностранного слова «сюрреалистический», что означает «очень хороший»).
Сахар в чай не ложут, а кладут. Например: «Кладите, пожалуйста, сахар». Ответ: «Спасибо, я уже наклала».
Телепатия и телекинез – на самом деле существуют.
Летающую тарелку вы видели прошлым летом в два часа ночи на улице 8-го марта. Вместе с вами её видели ещё шесть человек, в том числе ваш дядя по маме, который нёс со стройки украденную им дверь.
Сальвадор Дали – это сю-у-ур.
Алла Пугачёва и Аркадий Райкин – точно миллионеры. Им всё можно.
Фрейда зовут Зигмунд.
Данте – это итальянец, он написал «Божественную комедию». Дантес – это француз, который стрелял в Пушкина.
Натали Саррот была француженка и русская одновременно.
Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.
Чюрленис болел шизофренией.
Иисуса Христа распяли в 33.
Соль и сахар – белые враги человека.
Тулуз-Лотрек был карлик, Бетховен был глухой, лорд Байрон – хромой, Гомер – слепой.
Выучив наизусть какое-нибудь стихотворение Мандельштама, прочтите его в удобный момент с выражением, глядя вверх под углом 45°.
На досуге набивайте рот морскими камушками, как это делал древний грек Демосфен, тренируйте дикцию, много раз повторяя: «Э-кзи-стен-ци-а-ли-зм».
Вы очень любите джаз, потому что там синкопа.
Гомосексуалисты и клептоманы такие же люди, как и мы, только больные.
Бах – великий композитор, но, к сожалению, его очень любят дилетанты. Бах и орган – совсем не одно и то же.
Все дело в нюансах!
Роман «Альтист Данилов» – это Булгаков для бедных, но забавно.
Энн Ветемаа – эстонский писатель-интеллектуал. Тоже забавно.
Индийские йоги могут умирать на время. Они среди нас, но мы их знаем только в лицо.
Психоделический рок мы встречаем уже у «Битлз».
«Аббы» – все миллионеры. Им всё можно.
Кандинский – отец абстракционизма. Кандинский – это надо видеть.
Казимир Малевич написал картину «Чёрный квадрат» ещё до революции.
Малевич – один из отцов абстракционизма. Это надо видеть.
Хлебников – «поэт для поэтов». Он синтезировал математику и поэзию, он почти никогда не умывался, был пророком, его боялся даже Маяковский.
Омар Хайам писал рубаи. Шекспир – сонеты. Басе – хокку. Исикава Такубоку – танки.
Классической и популярной музыки нет – есть только хорошая и плохая музыка.
Вы любите как Рахманинова, так и «Пинк Флойд». Вам также импонируют Стравинский и Вивальди.
«Машина времени» уже не та. «Литературная газета» уже не та. Никита Михалков – уже не тот.
Истина внутри нас, вас и их.
Антониони лучше Феллини, а Куросава лучше Антониони. Японцы вообще себе на уме.
Все мы немного гуманоиды, каждый чуть-чуть сумасшедший.
Зомби – это когда мёртвые ходят.
Сакэ – это рисовая водка, икебана – это букет цветов.
Слово «маразм» пишется с одной «р», в отличие от слова «сюрреализм», где их две.
Женщине бросить курить сложнее, чем мужчине.
Все философы обкакались.
В каждой консервной банке содержится рак.
От старых хрычей нету житья.
Босохождение укрепляет нервы.
В Тибете живут люди, которым исполнилось 500—600 лет.
1982
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ, ЗАГАДКИ И ПРИБАУТКИ
Все дороги ведут в Свердловск.
Говорят, в Свердловске кур доят.
Язык до Свердловска доведёт.
Свердловск слезам не верит.
В огороде бузина, в Свердловске дядька.
Ни в Свердловске Богдан, ни в Верхней Пышме Селифан.
Ах, Свердловск, жемчужина вдали от моря!
Бойся свердловчан, дары приносящих.
Незваный гость хуже свердловчанина.
Я свердловчанин, следовательно я существую.
Я свердловчанин, и ничто человеческое мне не чуждо.
За одного свердловчанина двух несвердловчанинов дают.
Бажов мне друг, но истина дороже.
Что позволено Бажову, то не позволено быку.
Или Бажов, или никто!
Мамин-Сибиряк у ворот.
До каких пор, Лев Сорокин, ты будешь испытывать наше терпение?
Нож в печень, свердловский рок-клуб вечен.
Урал – крыша мира.
Уральцы – весёлые ребята.
А что роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей!
Загадка: Зимой белый, весной серый, летом серо-зелёный.
( Свердловск)
Прибаутка: Свердловское радио спрашивают: «Какой город самый красивый в мире?» – «Свердловск», – отвечает радио. – «А на какой город направлены американские ядерные головки?» – «Челябинск тоже хороший город», – отвечает свердловское радио.
1986
ЁЛКА В ГОРКАХ
Мария Александровна очистила с яблок кожурки. Володя на них засмотрелся: такие кисленькие, зелёненькие, и сам не заметил, как все съел.
– Дети! – строго сказала Мария Александровна. – Кто съел кожурки? Это плохой поступок.
Володя покраснел и встал.
– Это я. Я больше никогда так не буду.
Мария Александровна решила Володю не наказывать, тем более, что во всём остальном он был совершенно примерным.
Так прошли детство, отрочество, юность, и уже спустя годы в Петербургской тюрьме Владимир Ильич размышлял над тем, хорошо ли обманывать тюремщика.
– Мента обмануть – святое дело, – подумал Ильич и обмакнул щепку в чернильницу из хлебной корки. – Будут знать, как нашего брата в кутузку!
Ильич записал молоком между строк в книге «легального марксиста» Струве: «Феликс! Яша и другие! Боритесь до конца! Я вас не выдам. Слава РСДРП(б)! Народ и РСДРП(б) едины! Решения Первого съезда РСДРП(б) выполним!» Написал, молоко выпил, корку съел, тюремщик так ничего и не понял.
Пролетели незаметно годы подпольной борьбы, ссылки, эмиграции. Владимир Ильич весело выглядывал из шалаша, переговаривался с Зиновьевым о партийных делах, отмахивался от слепней, писал приказы в Питер:
«Пусть пригонят «Аврору». Очень надо. Я кое-что придумал. Сходите на Путиловский. Передайте рабочим, чтоб винтовки не отдавали.
Чао-какао. Ваш Ильич».
Зиновьева совсем мухи облепили, он хлоп-хлоп себя по щекам:
– А в Питер Вам, Владимир Ильич, надо на паровозе. Самый лучший способ.
– Сам знаю, что на паровозе. Кхе-кхе! А ты что это, Зиновьев, весь в мухах, никак обделался! А? Мухи-то знают куда садиться! Ха-ха! Али шпиков напугался, весь обсерился.
– Всё вам, Владимир Ильич, шуточки.
Три месяца спустя Ильич в парике шёл с явочной квартиры в Смольный. Вдруг из-за угла высунулась сутулая в котелке фигура.
– Эй, Ульянов! Это ты? – спросил незнакомец.
– Шпик, шпик, шпик, – моментально сообразил Ильич, свернул в соседнюю улицу и припустил.
– Ульянов, стой! – крикнул шпик. – Я тебя узнал! Стой-стой! Немецкий шпион! – Тут-то и пригодились Ильичу занятия физкультурой, которые он не прекращал даже в камере-одиночке. Шпик не отставал, уже было чуть-чуть не схватил Ильича за фалду, но навстречу бегунам попались путиловские рабочие, которые сразу почуяли неладное и поставили на всякий случай шпику ножку. Хлобысь! Рылом в грязь!
– Что ж ты, антилигент! – засмеялись рабочие. – Под ноги-то не смотришь!
Шпик вскочил мигом, но Ильич уже прошмыгнул в Смольный.
– Угицкий! – с порога крикнул Ильич. – «Аврору» пгигнали?
– Так точно.
– Телеграфируй на богт. Пусть залпа дадут по Зимнему. Пусть Керенский обгсегется.
Ба-бах! Ильич бегом по кабинетам. Сначала к Кржижановскому:
– Давай, Жужжалка, пгидумывай ГОЭЛРО, лепестгичеством Госсию обмотаем.
Потом Дзержинскому:
– Создавай, Эдмундыч, Чеку, пегеловим пгоституток-эссегов.
Потом к Луначарскому:
– Ну, Лунатик, хочешь букваги печатать?
– Хочу.
– Давай-давай, теперь габочим букваги пгигодятся. Ой, как пгигодятся.
Прогромыхала гражданская война, давала о себе знать отравленная пуля эсерки Каплан, Владимира Ильича приковала постель, он коротал дни в Горках, окружённый заботами Надежды Константиновны.
Как-то раз заехал в Горки Сталин проверить, нет ли у Ленина радиоприёмника, и Владимир Ильич наткнулся на него возле кладовки.
– Вот тебе, вот тебе! Шлёп! Шлёп! А ещё сын сапожника! Как тебе, Сталин, не стыдно! Яков Свегдлов такого бы себе не позволил.
Сталин ретировался и осклабился, мол, ну, что вы, Владимир Ильич, режим, врачи, дисциплина.
– Нельзя вам волноваться. – Удалился Сталин восвояси.
Владимир Ильич разволновался.
– Надюшка! Этот Иоська ждёт не дождётся моей смегти, чтобы извгатить наше с Магсом учение.
– Не бери, Володя, в голову! Феликс Эдмундович не допустит.
– Скажешь! Все хогоши. Тгоцкий – евгей, Бухагин – газмазня, Иоська – газбойная гожа.
– Как ты, Володя, ругаешься. Нельзя тебе. Поехали-ка лучше к деткам в Горки на ёлку. Отвлечёмся.
– Детки-детки, – подобрел Ильич. – Люблю деток. Ха-ха. Счастливые они – будут жить при коммунизме.
Вся в шарах, игрушках, флажках новогодняя ёлка сверкала посреди избы.
– Дети! – спросила учительница. – Знаете, кто к нам сейчас придёт?
– Дедушка Мороз! – хором протянули дети.
– Нет, дети, вместо Дедушки Мороза к нам придёт сегодня Владимир Ильич.
– Ура! – обрадовались дети.
– А вместо снегурочки...
– Надежда Константиновна! – догадалась на сей раз малышня.
Распахнулись двери. Ильич и Надежда Константиновна, легки на помине, вошли в избу!
– С новым годом, детки! – снимая шубу, поздравил Ильич присутствующих. – Эхё-хе! Детоньки! Ского я к пгаотцу Магсу уйду, недолго осталось. Но вы наше с Магсом учение не забывайте потому, что оно вегно. А этот Иоська Виссагионович даст вам без меня пгосгаться. Помяните моё слово.
Дети скукожились, как воробьи.
– Ну что заггустили! Гасскажите-ка нам стишки. А, Надежда Константиновна! Давненько мы с тобою стишков не слушали.
– Ха-ха-ха, – засмеялась Надежда Константиновна, учительница, дети.
Прошло тридцать с небольшим лет. Подросли горкинские ребята и уже не кружились под Новый Год вокруг праздничной ёлки, а валили огромные ели на лесоповале возле Ивделя. В Кремль для наркомовских детей пилили ёлку Пётр и Василий.
– А ведь как в воду глядел Ильич, а?
– Не вякай ты! Ошибка вышла. Разберутся. Правда всё равно на свет выведет. Реабилитируют нас.
Посмертно всех горкинских ребят реабилитировали, назначили вдовам пенсии, зацвела на полях кукуруза, полетел в космос Юрий Гагарин, Фиделька прогнал с Кубы буржуев – совсем близко до коммунизма стало.
– Говна тебе, а не коммунизма, – подумал Лёнька и пнул Никитку под жопу. – Иди-ка, лысый, выращивай огурцы на огороде.
Наклеил «новый ильич» Лёнька себе мохнатые брови, навесил на грудь орденов и поехал в заграницу речи толкать.
– Разрядка, взаимопонимание, отдельные недостатки, развитой социализм, сиськи-масиськи.
– Что за сиськи-письки? – не может понять Вилли Брандт.
– Наверное, это он «систематически» произносит, – предположил Жискар д’Эстен.
– Так оно и есть, – заключила Индира Ганди. – Челюсть у него вставная.
Подразрядился Лёнька и влез в Афган, да и помер. Загудели ВИЗ, Уралмаш, БАМ, КамАЗ, Братская ГЭС. Мир праху твоему, генсек Лёнька.
Вытащил Андроп из стола досье на всех членов и хлоп по столу:
– Все вы тут у меня, все, засранцы. Устроили тут, понимаешь, блядство!
Забегался старый партизан Андропка, слёг – не помогла и интерпочка.
– Ну, теперь я, – сказал Чернявый.
– Да уж, – подумал Мишутка. – Посиди, старый пердун, маленько, повоняй напоследок.
И раз такая карма пошла, Чернявый тоже дубу дал. Громыко набрался духу и говорит:
– Ну всё, хватит! Пусть молодёжь погорбатится. Ты, Мишутка, антилигент, во лбу у тебя пометка, стало быть, неспроста, и жинка книжки читает – авось что у тебя и выйдет.
– Один не справлюсь, – заробел Мишутка.
– А ты не боись, чурок да черножопиков усатых мы того, приосадим. Рашидке с Кунявкой по сранделю отвесим, говноеды такие, а тебе пришлём крепких ребят с Урала.
– Вот это другое дело, тогда ладно, – согласился Мишутка.
Набрал Громыко телефон:
– Эй! Девушка! Сыверловск, пожалста! Ёлкин! Это ты? Давай, Ёлкин, езжай до Кремля. Живёхонько! А то передумаем.
Шмыг-шмыг, а Борька Ёлкин уже тут как тут.
– Давай, Николаевич, орудуй заместо Гришина, разгребай всю эту парашу.
Ёлкин засучил рукава:
– А щё! Ёлки, мол, палки! Мы это разом. Я это среднее звено вот как терпеть ненавижу!
И давай Ёлкин москитов шерстить, так что они запищали и к Лигачёву побежали стучать:
– Мать вашу, твой Борька нас затрахал. Пини его, Егорушка, под срандель, а мы уж за тебя горой.
Но Ёлкин всё прочухал и дожидаться не стал, пока его обсерют, и поднял бучу:
– Да я с такими, как Егорка и Щебриков, срать рядом не сяду. А Горбащёв Сергеищ уже на себя культ личности тянет – со всеми селуется. Опять, значит. Я с вас устал. Увольте в производство, пожалста.
– И пусть канает, оглобля такая, – раскричались москиты.
Ушёл Ёлкин в Госстрой простым министром. Сидит он дома, чай пьёт, яблоки чистит, кожурки грызёт, всё равно что Владимир Ильич, думу думает:
– Ну щё. Щас Горбащёв и без меня управится, коли так. Рыжик подсобит, коли щё. А Рябцев-то, какой иудушка, землящка обсерил, не застеснялся. Ай-ай!
А супружница ему говорит:
– Кончай, Борь, сам с собой бормотать, свихнёсся разом. Пошли-ка лучше на наутилусов, поглядим, как землящки наши твист лабают, все москиты их нахваливают.
– То, дурёха, не твист, а рок. Понимать надо. И не хвалят, стало быть, а тащатся – это тебе не симфония, где в ладоши хлопают да кемарят, это, бестолочь, вроде как бы битлы нашенские или ролинги. А москиты потому торчат, что сами кайфу придумать не умеют, обожрались нашими сосисками, вот их от этого дела и пучит. Кхе!
Шло время к Новому Году. С Урала Борьке телеграммы приходят: «Держи, мол, земеля, хвост морковкой. Хэппи, мол, нью ер!»
– И то веселей, – улыбается Борька. – Пусть себе Зайкин повертится, коли так, а мы ещё щайку позузеним, похлебам по-нашенскому. Куда спешить.
– Да уж, – согласилась супружница. – Без наших-то уральских их чурки да хохлы в два счёта обсосут, как липок обдерут, под нулёвку обкорнают.
– Вот увидишь, коли Зайкин не по-моему будет делать, обдрищутся они по-чёрному.
– Уже обдристались, – поддержала супружница.
– А! – отмахивался Борька. – Пускай дрищут. Наше дело – семент, бетон, кирпищи, куда нам, дурням, в их дела лезть! Сами кашу заварили, сами пусть и расхлёбывают. Ишь, не пондравилась критика! Как шикнул на них, так сразу обдристались. Ха-ха-ха!
– Полные штаны наложили! – рассмеялась супружница.
– А Щербаков-то чуть от злости не лопнул. Ай, кричит, фулюган какой. Долго наших помнить будут москиты гугнявые. Да же, Борь?! Толком говорить-то не могут: всё гекают да подныкивают, как цацы, как фифы. А лаются-то, лаются. Наш-то народ проще, душевней.
– Так оно и есть, – растрогался Борька вконец.
1987










