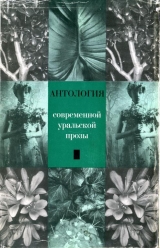
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Опять начался дождь, бабье лето шло псу под хвост. Мерно-равномерно. Зовите меня Онремонвар. Неужели Саша с Мариной и всем семейством всё же уедут в Бостон?
2
Он провожал ребят ранним утром, солнечным и безветренным. Машину загрузили вещами ещё с вечера, так что особых хлопот не было, разве что проверить, всё ли взяли, да пересчитать по головам: Саша, Марина, Маша, Маша, Марина, Саша, Марина, Саша, Маша и так далее. Ещё одна считалочка, что-то наподобие тип-топ и хлоп-хлоп. Посидим на дорожку, спросил он Александра Борисовича. Конечно, конечно, отсутствующим тоном ответил Ал. Бор. и продолжал заниматься своими делами. Николай Васильевич обнимал на прощание Марину и плакал не стесняясь. Хозяйка собирала на дорогу фрукты, чтобы сразу с дерева да в рот, остановят машину где-нибудь на обочине, перекусят и дальше. Машка уже забралась на заднее сиденье и махала ему рукой. – Всё, – сказал Саша, – вот теперь присядем. Они присели, помолчали. – Поехали, – сказал Ал. Бор.
Он обнялся с Александром Борисовичем, посмотрел, как тот садится в машину, и подошёл к Марине. – Ещё увидимся, – сказал он. – Если приедешь, – ответила она. – Я приеду вас провожать.
Марина хмыкнула и протянула ему руку. Он поцеловал её и улыбнулся. «Любви не вышло», – подумал про себя и добавил вслух: – До свидания. – Марина села в машину, хлопнула дверца, Саша дал газ.
Во дворе стало пусто. Николай Васильевич ушёл в дом, хозяйка понесла на базар то ли абрикосы, то ли персики. Ему оставалось пробыть здесь ещё пять дней, их надо было чем-то занять, а сюжет ускользал из рук. Любви не вышло, воспоминания надоели. Тип-топ, прямо в лоб, С утра болела голова – пришлось слишком рано встать, хотя ребята бы не обиделись, если бы он продолжал спать. Два «бы». Просто «бы» и «если бы». Предстоящий день представлялся бесконечным. Предстоящий представлялся, представление продолжается. Сплошное пр-пр, чем-то напоминающее пхырканье диких голубей. Пыр-пыр, пхыр. Он решил пойти позавтракать в кафе-закусочную, что минутах в пяти ходьбы от дома, а потом умотаться на пляж. Оставалось пять дней, и их надо использовать на всю катушку. Пятью пять – двадцать пять. Купаться, загорать и вести растительный образ жизни. Я буду растением. Какая разница, сорняком или рододендроном. Можно ещё испанским дроком, олеандром, магнолией и мушмулой. Или платаном. Или земляничным деревом. Или реликтовой крымской сосной. Он легко сбежал по ступенькам и вышел на уличную брусчатку, Заполошные утренние отдыхающие стремились поскорее добраться до своих райских мест. Длинные обороты со множеством придаточных сменились рубленым слогом. Пустота в груди, хотя заноза, спица, игла всё на том же месте. День обещает быть бесконечным и бесконечно солнечным. Начало августа, синее небо, синее море, жёлтый диск солнца. Точнее, бело-жёлтый. Ослепительный бело-жёлтый диск. Он подошёл к кафе и занял очередь в самом хвосте, тянувшемся в раздаточную. Полчаса, прикинул он, полчаса, не меньше, надо было всё же поесть у хозяйки. Впрочем, сейчас, когда ребята уехали, это не совсем удобно. Очередь состояла почти из одних хохлов, мощные мужчины и такие же высокие, сильные, мощные женщины. У раздаточной стойки кто-то требовал борща. Было утро, и борща не было. Плотный пупырчатый огурчик в не очень свежем белом халате замахал ему от стойки рукой. Вырисовывался новый поворот сюжета, точнее же говоря – маленькое ответвление. Очередная развилка на лесной дороге. Тип-топ, прямо в лоб, на лугу с тобой хлоп-хлоп. Уже две недели он не видел Томчика и даже не вспоминал о ней, незаконнорождённое дитя собственной фантазии, пасмурное видение с крымских гор. Уговор дороже денег, а потому места Томчику не было. Он покинул своё место в очереди и подошёл к раздаточной стойке. Томчик лихо накладывала и кидала голодным хохлам салаты. – Тебя покормить? – спросила она. Он кивнул головой. – Иди, сядь за столик.
Он покорно пошёл и сел за столик. Минут через пять (опять пятью пять – двадцать пять) Томчик принесла поднос, уставленный всякой кафе-закусочной снедью. Сколько с меня, спросил он. Рубль сорок, ответила Томчик и села рядом. – Что, Марина уехала? – Уехала, уехала, – ответил он с набитым ртом.
В сюжете вновь появилась пауза, надо набираться смелости и быстренько двигать его дальше, превращая в сюжетец. Видимо, на роду написано даже пять дней не быть одному. Никаких высоких размышлений, никакой поэзии. Мелкая, банальная кутерьма, частная жизнь частного лица. «Частное лицо, – подумал он, – неплохое название не только для стихов, но и для прозы, хотя прозу-то я и не пишу». Салат был пересоленным, о чём он и сказал Томчику. Сюжетец двинулся с места, чуть побуксовав на очередной колдобине. – Ты когда уежаешь? – спросила она. – Через пять дней, – ответил он. Томчик замолчала, ему явно предлагалось сделать встречный ход. «Мы так не договаривались, – подумал он, – ты не должна была возникать вновь, ты должна была появиться лишь раз-разочек, этакий символ здешних мест, символ-упоминание, и всё. А так мы не договаривались, но поделать сейчас с этим ничего нельзя». – Что ты здесь делаешь, – вздохнув, пошёл он конём. Томчик засмеялась: – А что, сам не видишь?
– Сегодня свободна? – сходил он пешкой, тщательно пережёвывая гуляш.
– После четырёх, – ответила Томчик, – я за тобой сама зайду, Её уже звали с раздаточной, и она убежала. Он выпил то, что в меню называлось кофе, и подумал, что дела складываются не так уж плохо. На какое-то время заноза, игла, спица перестала жечь сердце, да и новый сюжетец мало-мальски, но продолжал двигать частную жизнь частного лица, то есть оставшиеся пять дней пребывания здесь (таблицу умножения на этот раз оставим в покое) оказывались не столь пустыми, как мнилось ещё полчаса назад. Он вышел из кафе, зашёл за полотенцем и сменными плавками и поехал на пляж. Прочерк до четырёх часов местного времени, шахматные фигурки давно убраны в коробку. Он уже дома, уже пообедал, отдыхает, лёжа в гамаке.
(Единственное, что сейчас волнует меня, так это то, как продвигается возвращение ребят. Жаль, что под руками нет карты и нельзя прикинуть, докуда они добрались за это время. И ещё я волнуюсь персонально за Сашу, пусть это и покажется кое-кому странным. Но ведь, волнуясь за Сашу, я переживаю за Марину и их дочь, а ведёт Александр Борисович машину как оглашённый, и стоит ему не удержать руль, как... Да, финал ясен, вполне возможно, что дело обойдётся и без похорон, просто маленький насыпной холмик на обочине шоссе да воткнутый в него погнутый руль. Тип-топ, прямо в лоб, рефрен, лейтмотив, песенка-считалочка вместо печальных, изысканных стансов. Томчик придёт с минуты на минуту, интересно, почему, ещё недавно так сопротивляясь общению с ней, я согласился сегодня на это с такой радостью? Девочка-карацупочка, плотненький пупырчатый огурчик шоколадного цвета, стоило Марине хлопнуть за собой дверкой «Жигулей», как Томчик вновь возник на горизонте, впрочем, свято место пусто не бывает. Да и потом, это единственное, что всерьёз заполняет жизнь. Недаром врачиха постоянно долдонила на приёмах, что алкоголизм – лишь следствие. Всегда хотелось спросить: вот только чего? Чего-его, его-кого, кого-всего и прочая ерунда...)
– Куда пойдём? – спросил он Томчика, когда та радостно впорхнула в малуху. – В ресторан?
– Ты же не пьёшь, – ответила Томчик. – Марина говорила мне об этом.
– А что тебе ещё говорила Марина?
– Многое, – Томчик засмеялась. – Знаешь, мы ведь раньше были близкими подругами, хотя она лет на шесть старше.
– Вот как? – удивился он. – А мне так совсем не казалось. Слушай, а как она вышла замуж за Сашу?
(Шикарный ход, они должны сплетничать о тех, кого нет рядом. Но ведь должен он узнать то, как Марина и Александр Борисович оказались вместе? Ведь могла быть любовь, пусть не сложилось, не случилось, пусть всё тип-топ и прямо в лоб, но пусть хоть эта аппетитная, плотненькая, смуглая крымчаночка поведает ему неведомую историю, она-то, по всей видимости, в курсе.)
– Только не здесь, – со смехом говорит Томчик, – что толку дома сидеть, пойдём куда-нибудь.
Они уходят. Хозяйка встречает их во дворе и хитро подмигивает. Всё ясно, строил глазки её дочери, а как та уехала, сразу перекинулся на Томчика. Но можно объяснить: Томчик моложе и проще, да и свободна, нет рядом мужа Александра Борисовича, нет дочки Маши, не светят впереди Бостон, Брисбен и прочие «Б»-топонимы. Если бы десять лет назад Марина не вышла замуж за Александра Борисовича, то и она сейчас была бы таким же Томчиком, только в варианте постарше, уже хорошо пожившим Томчиком, много потаскавшимся Томчиком, слишком многое повидавшим Томчиком. И тоже, наверное, работала бы в кафе-закусочной на раздаче, хотя могла бы и в аптеке помощником фармацевта, сама хозяйка тридцать лет проработала фармацевтом, неужели бы не смогла дочь пристроить? А в девичестве Марина была красивой, честно говоря, намного красивее Томчика. Красивой и смешливой. Александр Борисович как увидел, так и втюрился, С первого взгляда. Совсем пацаном был, но уже таким пацаном – с хваткой и характером. Отдыхал по-соседству и всё на Марину глаза пялил. Хозяйка не раз ей тогда говорила: смотри, дочь, охомутает тебя этот еврей. Да что ты, мама, протяжно отвечала Марина и ускальзывала со двора. Со своей подругой Настюхой, с её младшей сестрой и был бедолага Роман, когда не справился с управлением, это всем известно. Бедная девка теперь в больнице, а Роман там, где будем все мы, только попозже. Да, а ведь тогда-то Сашка и охмурил Марину, как у них сладилось – кто знает, но через полгода к нему укатила, а теперь вот Бостон. Хозяйка зябко ёжится, хотя на улице двадцать восемь градусов (только что смотрела на термометр), небо ласковое, августовское, а всё равно зябко!
Они с Томчиком идут по набережной. После работы Томчик переоделась, славная такая, ладная, плотная девочка, никакой изысканности, но прорва провинциального обаяния. Пр-пр. Пхырканье голубей осталось там, на склоне. Я всегда завидовала Марине, говорит Томчик, Живёт в Москве, сейчас вот в Америку уезжает, а здесь... – Что здесь? – машинально переспрашивает он. – Тоска, – лакончиво отвечает Томчик и смотрит на него почти что преданными глазами.
Становится скучновато, сюжетец получается отнюдь не столь забавным, как то грезилось в начале дня. Обычная провинциальная девчонка, ожидающая своего прынца. Именно, что через «ы». Вот так: прынца. Но прынцы давно разобраны, год проходит за годом, а она всё работает на раздаточной в кафе-закусочной. Накладывает салаты голодным отдыхающим. Хохлам и русским, евреям и армянам, грузинам и азербайджанцам и прочему люду. Впрочем: в основном русским, хохлам и евреям, ибо армяне, грузины и азербайджанцы в подобные кафе не ходят, а там, куда они ходят, их обслуживают Томчики если и не моложе, то классом явно повыше. Ему становится жаль Томчика и внезапно хочется ей помочь. Конечно, он может сделать какое-нибудь доброе дело, например, предложить ей выйти за него замуж. Хотя, с другой стороны, на кой ляд ей это нужно? Да и ему в конце в концов. Ведь он явно не прынц, да и она давно уже не девочка. Тип-топ, прямо в лоб, по обочине хлоп-хлоп, опять заныла заноза. Спица, игла, заноза, вечно кровоточащее сердце. Каждый несёт свой крест. Жаль, что Марина уехала, с Мариной он так и не успел поговорить, не успел рассказать ей всего, что хотел. Но она уехала и сейчас уже во многих часах езды отсюда. Главное, чтобы Саша аккуратно вёл машину и не повторилось того, что случилось с Романом. Замкнутый круг, всё повторяется, но по-другому. Они должны ещё встретиться, оставили адрес и домашний телефон, осенью поедет в Москву, провожать их в Бостон. Бостон/Брисбен, Бостонобрисбен, топонимы на «Б». Стоило Марине уехать, как она занимает всё больше и больше места в сознании. – Ты меня совсем не слушаешь, – огорчённо говорит Томчик.
–Хочешь выпить? – спрашивает он.
– А ты?
– Я же не пью.
– А мне одной не хочется.
– Не ломайся, – грубо говорит он, – я же тебе от чистого сердца предлагаю.
У Томчика в глазах появляются слёзы. Она сейчас повернётся и уйдёт. Ну его к чёрту, этого пижона, будет она ещё пить за его счёт! – Прости, – говорит он,—я не хотел тебя обидеть. (Я не хотел тебя обидеть, да и не надо было мне вновь запускать тебя в сюжет. Но сделанного не воротишь, так что остаётся одно: свернуть с набережной и пойти вглубь улочек, поискать глазами заманчиво открытую дверь какой-нибудь распивочной и нырнуть туда. Слава Богу, на дворе 1981 год и подобных распивочных великое множество. А может, что и самому плюнуть на всё и вновь поднести к губам стакан с крепким, тягучим, чуть щекочущим горло вином? Выпить граммов четыреста сухой крымской мадеры и забыть про всё, что было. Старое, неоднократно испытанное лекарство. Опять страшно жить, небо над головой слишком безоблачно, но глаза так и шарят по нему в поисках вбитого крюка. Крюк-круг, револьвер, раскоряченной лягухой шмыгающий под кроватью. Прыг-скок, на лужок, а с лужка на бережок, с бережка на камушек, с камушка на другой камушек, а с другого ещё на один камушек, вот и снова бережок, вот идёт – другой – лужок, повторяется прыг-скок, разгорается восток, ок, ек, мужичок с ноготок, ищущий крюк, вбитый прямо посередине неба... Но ты-то тут при чём, плотный, пупырчатый, шоколадный огурчик в слегка шуршащем коротеньком платьице? Всё ищешь своего прынца и столько лет не можешь найти? Надо бежать, надо уносить ноги от этой безысходности, этой вековой тоски. Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря. Зря я затеял поворот сюжетца, слишком многое нас разделяет, Томчика и меня, чтобы с лёгкостью можно было предаться плотским утехам. Да и потом: игла, спица, заноза, вечно кровоточащее сердце...) – Ладно, – говорит Томчик, – так и быть, пойдём. Они сворачивают с набережной и идут по узкой, петляющей улочке пока, наконец, не видят широко распахнутую дверь с рюмкой, нарисованной на небольшой вывеске.
– Зайдём? – спрашивает он. Томчик покорно кивает головой. В маленьком и прокуренном зальчике одни мужчины. Стоит тихий гул голосов, кто-то матерится, кто-то просто бубнит что-то неразборчивое. Он берёт мадеры, это всё мне, удивляется Томчик, ведь много, а мы возьмём с собой, хорошо, говорит она, но можно было и в магазине, там нет мадеры, отвечает он. Томчик выпивает стакан, он с жадностью смотрит, как она это делает, ощущение такое, что это в его горло сейчас с приятным бульканьем вливается горьковато-терпкая жидкость. Как бы он хотел быть на её месте, пусть и знает, что это всё, конец, дважды вернуться с того света не дано никому, но слишком уж тоскливо, игла, заноза, спица, опять немыслимое жжение в сердце. Что, пойдём, спрашивает Томчик, вытерев губы аккуратненьким белым платочком, пойдём, только куда, поехали в Никиту, предлагает она, времени ещё много, погуляем по парку, искупнемся, отлично, отвечает он, три «о» растворяются в продымлённом воздухе забегаловки, бутылку возьмём с собой? Как и было обещано в самом начале абзаца, они берут бутылку с собой. Томчик плотно затыкает горлышко пробкой, свёрнутой из газеты («Крымская правда», номер от пятого августа 1981 года), он убирает её в пляжную сумку. Когда они вновь оказываются на набережной, то горизонт уже затянут сплошной чёрной полосой. Шторм идёт, говорит Томчик. Не поедем, спрашивает он. Отчего же, и она тянет его в сторону катеров. Шальное, дурашливое настроение, сюжетец надо вытягивать, хватит плутать по лесной дороге, тип-топ, прямо в лоб, чайки низко пролетают над волнами, серо-белые, драчливые черноморские чайки, так, значит, тебе здесь скучно, спрашивает он. Томчик смотрит на него в недоумении, а потом обиженно говорит: – А куда податься, здесь же выросла? – Катер начинает заваливаться на волнах, Томчика бросает на него, и он ощущает её молодое, податливое, разгорячённое стаканом мадеры тело. Всё идёт так, как и должно идти. Народу на катере почти никого, чёрная полоса мгновенно распугала отдыхающих, шторм ждут давно, несколько дней, правда, никто не знал, что сегодня, а впрочем, может ещё пронесёт, не так ли, Томчик, так, так, отвечает она, только что будем делать, если катера перестанут ходить? Останемся жить там, будем дикарями в Ботаническом саду. Ну уж, ворчливо отвечает она и позволяет себя поцеловать, губы толстые и влажные, липкие от мадеры, хотя и вытирала их платочком. Томчик, Томчик, ну зачем ты вновь возникла на этих страницах?
– Не знаю, – вполне серьёзно отвечает Томчик, облизывая губы после затяжного поцелуя. – Но кто же мог предположить, что ты именно сегодня придёшь завтракать в наше кафе?
Катер подходит к Никите, штормит уже не на шутку. Они поднимаются на палубу. Матрос, стоящий со швартовым в руках, печально смотрит на пляшущий пирс. – Идём обратно, – говорит в мегафон капитан, – а то потом можем и не отчалить. – Вот и съездили, – прыскает Томчик, – что, обратно в Ялту? – Очередной поворотец сюжетца, – отвечает он и предлагает Томчику спуститься в бар.
– Хочу шампанского, – говорит она, взгромоздясь на табурет у стойки.
– Шампанского нет, – отвечает бармен.
– Тогда коньяка.
– Коньяк кончился.
– А что есть? – сердито спрашивает Томчик.
– Портвейн, только ординарный. Ему этот разговор что-то мучительно напоминает, но он так и не может вспомнить, что. Томчик уже пьёт свой ординарный крымский белый портвейн, а ему приходится лезть в карман за деньгами. «Девчонка не дура выпить, – думает он, – вся-то её жизнь, выпить за счёт курортника да потрахаться». Катер швыряет по волнам, и портвейн из Томчикова стакана плещется на стойку. «... мать», матерится плотный, пупырчатый, шоколадный огурчик в слегка шуршащем коротеньком платьице. Он утомлённо закрывает глаза. Ещё седьмой час вечера, а день уже достал. Марина уехала, и день погас сразу же, как начался, не мог даже представить, что так будет. Любви не вышло, а Томчик пьёт прртвейн и матерится. – Подходим, говорит бармен, с ненавистью глядя на нашу парочку. Томчик ставит на стойку пустой стакан и идёт к выходу из бара. Он еле успевает подняться на палубу следом. Ветер бьёт в лицо, бьёт в затылок, ветер лупит со всех сторон, катер то возносится высоко-высоко, то с гулким урчанием проваливается вниз, почти уходя под воду. Они мокры с головы до ног. Прилипшее платье обрисовывает все Томчиковы прелести. Держи меня, просит она, и он крепко обнимает её за талию. Осталось немного, сейчас матрос кинет швартовый, они сойдут на берег, и можно будет выровнять сюжет. Сюжет-сюжетец. Взять резинку и стереть то, что не вписывается. Тип-топ, прямо в лоб. Матрос кидает канат (всё тот же матрос всё тот же канат), второй матрос, на пирсе, в мокром дождевике, вцепляется в него, как вратарь в сильно пущенный мяч. – Приехали, – говорит он Томчику, спрыгивая на пирс и подхватывая её на лету.
(Надо попрощаться. Ты что, не зайдёшь, спрашивает она, прибегая к опосредованно-прямой речи. Нет, отвечает он, этот шторм меня доконал, мадеру тебе оставить? Она смотрит на него презрительно и высокомерно, он видит, как яростно ходят под мокрым платьем её большие груди. «У Марины тоже большие груди, – думает он, – это, наверное, такая местная порода, у всех здешних девочек, девушек, девок, женщин и даже старух большие груди». Он протягивает Томчику недопитую бутылку мадеры. – Болван! – говорит она ему на прощание и хлопает дверью. Он улыбается, честь спасена, удалось отделаться затяжным поцелуем. Сюжетец окончательно сменяется сюжетом, ноги сами собой несут дальше по лесной дороге, оставив позади девочку-карацулочку, этот плотненький, пупырчатый, такой, по всей видимости, похрустывающий на зубах огурчик шоколадного цвета.
– Сама ты коза, – говорит он ей вслед и отправляется к себе в малуху, думая о том, что главное – это всегда уйти вовремя.)
3
Вот и библиотека, июньское солнце отмечает полдень, сердце отчаянно колотится в груди, он чувствует, что невидимая рука уже начала вгонять в его тело эту чёртову иглу, спицу, занозу, с треском прорвалась кожа, острие прошло сквозь жировой слой и потихоньку стало входить дальше. До середины ещё достаточно долго, может, час, может, два, но это всё равно случится, и тогда волна боли захлестнёт его с головой, и он погибнет, перестанет существовать как личность, как то самое «я», каким осознал себя совсем недавно, в ночь на Новый год, ещё полгода не минуло с тех пор. Ноги замирают перед выщербленной мраморной лестницей, надо сделать шаг, затем другой, но это практически невозможно, ведь главное сейчас – отсрочить замах руки с остро отточенным топором. Перевёл дух, рука вздрогнула, качнулась, дала момент передышки. Можно собраться с силами и проскользнуть под этой неумолимо падающей тенью. Мышкой, маленьким зверьком, беспорядочно перебирающим лапками. Шур-шур, шур-шур. Он проскальзывает к самым дверям, осталось немного – взяться за ручку и потянуть створку на себя. Опять тень топора, вновь жаркое и мстительное дыхание в затылок. Он распахивает дверь. Топор со стуком падает прямо за спиной, на первый раз пронесло, хотя игла, спица, заноза вонзается в тело всё глубже, не мытьём – так катаньем, не так ли?
Абонементный зал тих и залит безмятежным июньским светом. Он со свистом вдыхает и выдыхает воздух: паровоз, трактор, бульдозер, атомный реактор за несколько секунд до взрыва. Её коллега, пожилая, интеллигентного вида женщина с возмущением смотрит на него: надо же, какой невоспитанный. Да, он невоспитан, он это прекрасно знает, но ведь на границе жизни и смерти не до правил приличия, и плевать ему сейчас на эту книжную даму. – Что вам угодно? недовольно спрашивает дама, глядя на то, как он яростно и потерянно обшаривает зал глазами. – Где Нэля? – Вопрос, не нуждающийся в комментариях, – Пройдите в ту дверь, – смилостившись, говорит дама и показывает рукой в светлый прямоугольник на задней стенке. Он превращается в стадо бешеных буйволов, топот множества ног, всё сносящих на своём пути. Пот и бешенство застилают глаза. Дверь открывается наружу, и он едва успевает притормозить, поняв это. Опять замаячила палаческая рука с остро отточенным топором. Теперь её можно рассмотреть и заметить, что она загорелая, потная и волосатая, потная, волосатая, загорелая, мускулистая рука с едва видимой заколкой у запястья. Топор тяжёлый, и рука подрагивает, удерживая его в воздухе. Он рывком открывает дверь на себя, топор снова падает вниз, опять мимо, в спину раздаётся безразличное ругательство.
– Ты откуда такой взмыленный? – спрашивает Нэля, прижимая рукой к уху телефонную трубку. Она сидит на столе, волосы небрежно повязаны платком, вокруг беспорядочно разложены высокие и низенькие стопки книг. Ему нечего ответить, и он смотрит на неё, пот заливает глаза ещё больше, она начинает двоиться, троиться, вот её уже четыре. Четыре Нэли на него одного, слишком много. Он переводит дух и тихо закрывает за собой дверь, скучающий палач остаётся ждать его с той стороны, готовый в любой момент вновь взмахнуть топором. – У меня была Галина, – говорит он, наступая на неё. – Я перезвоню, – спокойно произносит она в трубку и кладёт её на рычаг. Поворачивается к нему: – Ну и что? – Она сказала, что ты выходишь замуж.
– Да? – И Нэля начинает смеяться. Она делает это задорно и очень легко, закидывая голову так, что платок сваливается с волос и они небрежно рассыпаются по плечам. – Ну и что, – продолжает она, отсмеявшись, – даже если и так, то отчего трагедия?
Он смотрит на неё и понимает, что сейчас начнёт её убивать. Возьмёт за горло и сдавит, оно хрустнет, изо рта вывалится язык, а глаза выскочат из орбит. Он хорошо знает этот язык и эти глаза, эту шею и эти волосы, этот лоб и этот подбородок, что, впрочем, не помешает ему сейчас сделать шаг вперёд и сдавить горло этой хрупкой женщины так, что из неё выйдет дух. Впрочем, если он в ней есть, сейчас он сомневается в этом, ибо убийца не он – она, она убила и его, и свою подругу, жаль, что он так обошёлся с Галиной, она ни при чём, она сама страдает не меньше его, за ней тоже маячит тень палача с огромным топором в руках.
– Ты обалдел? – испуганно спрашивает Нэля, соскальзывая со стола и пятясь к окну. А потом кричит на него в полный голос: – Сядь на стул!
Он чувствует, как тело его обмякает, голову захлёстывает отвратительно жаркая волна красного цвета, и он мешком падает на стоящий возле стола некрашеный деревянный стул. Нэля идёт к двери и выглядывает в зал, а потом, удостоверившись, что коллега спокойно маячит в дальнем углу, ничего не подозревая, закрывает дверь и поворачивает в ней ключ.
– Ты дурак, – говорит она ему, – знать бы мне только это раньше. Неужели ты думаешь, что я должна всё время якшаться только с тобой, не думая о том, как мне жить? Видишь ли, – продолжает она более мягким тоном, – между нами слишком большая разница в возрасте, если бы она была меньше, ну, хотя бы пять лет, то я, вполне возможно, могла бы выйти за тебя замуж, а что? – И она подмигивает ему, волна вновь накатывает, красный, отвратительный, кровяной жар, палач начинает колотить в дверь, намекая, что пора бы и честь знать, негоже топору так долго оставаться без работы.
– Ты ведь пока даже не зарабатываешь, – продолжает Нэля, вставляя сигаретку в мундштук и подходя к открытому окну. – И ещё будешь лет пять учиться, а я к тому времени стану совсем старая. Мне уже будет тридцать один, ты понимаешь, – кричит она, повернувшись к нему, – тридцать один! – Ему хочется заткнуть уши и исчезнуть, раствориться, стать воздухом, забиться в щель между половыми досками. – Да и потом, – начинает говорить она вновь тихим, спокойным тоном, – у тебя всё это пройдёт, ты просто любишь меня как свою первую женщину, не больше. Но ведь это невозможно: постоянно любить женщину на десять лет старше, ведь так? – И она вновь подмигивает ему.
Он ничего не соображает, сидит и смотрит на неё, не понимая, что эта женщина говорит ему. Красивая женщина, в его понимании даже очень красивая женщина. Она ему хорошо знакома, она бреет подмышки и чуть подбривает лобок, и сзади на шее у неё большая и, к сожалению, неопрятная родинка. Глаза же чуть косят, особенно это видно, когда она сердится. Сейчас она не просто сердится, сейчас она в ярости, и ему хочется сказать что-то утешительное, чтобы она успокоилась, и он снова вспомнил, кто она и как её зовут, хотя они знакомы, да, они очень хорошо знакомы!
– Не расстраивайся, – говорит Нэля, – мы ведь всё равно останемся друзьями, не правда ли?
Долгожданная фраза, во всех книжках она звучит обязательно. Часть героев после этого идёт и стреляется. Пиф-паф, ой-е-ей, умирает наш герой. Игла, спица, заноза окончательно устраивается в сердце. Первый, ещё робкий фонтанчик крови. Чтобы застрелиться, нужен револьвер. Пистолет, наган, на худой конец винтовка или охотничье ружьё. Засовываешь дуло в рот и босым пальцем правой (почему так лучше, чтобы правой?) ноги нажимаешь на курок. Если патрон заряжен крупной дробью, то можно представить, что будет с головой. У его отца есть ружьё, даже целых два. Одно шестнадцатого калибра, ижевская двустволка, другое – двенадцатого, бельгийское, «зауэр три кольца», Пишется, наверное, вот так: «Зауэр о-о-о». Он знает, что у отца есть и патроны. Но это всё не здесь, так что он не может среагировать на фразу так, как положено, то есть встать и пойти стреляться. Да и потом: стоит ли? Палач всё равно сделает своё дело, голова откатится от тела, палач возьмёт её за волосы и пристально всмотрится в оскаленный, помертвевший рот. Видимо, позавидует тому, какие у него были зубы. Белые и крепкие, совсем не то, что у палача – жёлтые, прокуренные, гнилые, да и то немного, остальные давно покоятся в мусорном баке зубоврачебного кабинета.
– А что? – удивлённо спрашивает Нэля. – Ты разве против того, чтобы мы и впредь оставались друзьями? – Она продувает мундштук, перед этим тщательно затушив окурок и завернув его в чистую белую бумажку. Он не будет её убивать, но не будет убивать и себя. Убивать её так же не за что, как и её бывшую (ну, в этом ещё надо разобраться) подругу. Просто они такие и другими быть не могут. Банальная мудрость, осенившая его залитую кровавым жаром голову. А себя убивать жалко. – Ну что, – обращается к нему Нэля, – мир? – Зачем ты мне врала? – спрашивает он, вставая со стула, – В чём? – очень удивлённо и искренне. – У тебя с Галиной была не просто дружба.
– Боже! – и она опять начинает смеяться. Он чувствует, что она расслабилась, что напряжение оставило её, самый подходящий момент для того, чтобы всё же сжать эту гордую шейку своими грубыми лапами и дождаться тихого, сдавленного, последнего всхрипа. – А тебе не кажется, что я просто жалела её, это чудовище? – И она в отчаянии роняет голову на грудь, как бы подавая знак, чтобы он подошёл и утешил её. Стоит не двигаясь, ожидая начала и конца легенды. Так и есть, не дождавшись утешения, вновь поднимает голову и начинает говорить сладким, вкрадчивым, как и положено в таких случаях, голосом.
Они познакомились год назад, как раз тогда, когда она разводилась с мужем. Да (вздыхает), это было страшное для неё время, она даже подумывала о самоубийстве, но, конечно, не решилась (снова вздыхает). Галина работала на её прежней работе фотографом. Они общались. Сначала на службе, потом – домами. Месяца два всё шло нормально (к этому времени она уже развелась). Но потом как-то раз засиделась у неё в гостях, было поздно, а идти ночью домой страшновато, пусть и живут, как он знает, поблизости. Галина предложила остаться, они ещё долго сидели, пили кофе, распили на двоих бутылочку сухого вина, потом стали ложиться спать. Галина постелила ей вместе с собой на диване, она легла и сразу заснула, а проснулась от того, что её кто-то целует. Ну и... Да, она не устояла, но ведь её просто совратили, он-то должен понимать, что она абсолютно нормальная женщина, а такое может случиться с каждым, неужели он никогда не грешил с мальчиками?
– Пока ещё не успел, – ответил он, и это была чистая правда. А потом добавил: но ведь ты-то не девочка!
– В этом всё дело, – грустно ответила Нэля, – Галина просто воспользовалась тем, что я осталась одна, без мужа и ласки, подкралась ко мне как змея и обвила своими кольцами...
Он видел, что ей самой стало себя жалко. Сейчас заплачет, решил он. Так и есть. Несколько раз она плакала при нём, и это всегда вызывало и жалость, и нежность, и какую-то странную грусть. Так случилось и сейчас. Он провёл рукой по шее: всё на месте, голова пока что не отделена от туловища, но палач ждёт за дверью. Да и игла уже прошла сквозь сердце и вот-вот да выйдет со стороны груди. – Врёшь ты всё, – бесстрастно заметил он.








