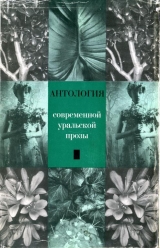
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Но из разверстой души барышни уже порядочно бежало тело, вскипевшее молоко с земляникой, и весьма унеслось, эй, ловите мою фигуру умолчания! – и гонит, и гонит по ветру пяту, но одежды – и те льнут не к ней, а к ветру.
Её знает весь представившийся ей круглым город – она из тех сумасшедших тружеников, что до темноты вьют из улиц корзины странствий, вплетая в улицы небылицы, как розы в конские гривы, или клеят кульки, коробки – с важностью, будто – дворцы, и, должно, настряпали целый город, каковой вам клянётся – у ней не больше сыночка, чем в ридикюле, а согласно иным натуралистам – уже и... сынок, недоступный взорам толпы, как император! И с кем в подручных его осветить? Вприглядку с пролетающим виночерпием Ганимедом? С золотым дождём? С ёлочными игрушками? И её зовут... разумеется, несущественно – Коломбина или какая-нибудь Жозефина в локонах из перезревшей подушки... Или – положив руку на пустейшую голубую птицу, как на свой ридикюль, божатся, что их имя – Мария. Или – Магда? Правда, утром её соловей – язычок-синеуст – клеит стол, и ему недосуг – поддерживать жизнь сыночка, но уж вечером она – непременно: скок в барабанные башмаки, шмыг на улицу... но этой птице, бегущей за языком, гоните вместо сынка – золотую внучку! Гоните, гоните – у-лю-лю! – косматая Магда, метущая по сусекам улицы – золото... и прибавьте к находкам анютины глазки, что видят тако-о-е... и волшебную палочку. Добрый вечер, добрые дети! Вы, как всегда, не видели мою путешественницу? Я-то несомненно найду, а вы найдите, что ваши цветущие лица стремительно заглушает школьный урок, скорей выпалывайте – веселитесь, веселитесь!
Этот ускользающий сюжет...
Почему, чёрт возьми, в любом обществе я вечно пристроюсь к меньшинству? – Магда, вдруг, случайному гостю на террасе. Между волосных, как танцульки, детей – к парочке непочатых рохлей, о, я уж после выпустила пар. От патроната усов над пластронами и иконостасами – над апломбами! – занесёт в рост на дамскую половину, похеренную всеми отцами! От мужних пав – в неразобранные, а то, как Ганновер, перехожу из рук в руки. Разумеется, императорские. Я существую на чужом слове. Или чужое скорей вам удостоверит, что я есть и влачу?.. Да ниспошлёт Господь всем, кому не дал детей, – хоть внуков!.. Что – война, в которую вы ввязались, вам тоже свидетельствует ваше абсолютное участие в деле?..
И рассеянно – гость: – Уместней мир? Который из пойманных – амьенский, тильзитский? Вертящийся меж двух огней: жизнь и смерть – всего двусмысленный, внятный? – как ваш слащавый жасмин, чьи неверные выкресты при напустившемся солнце ходят в красных, а с морем гусарят в голубых. Или мир, что вертится меж огней, горящих – в каждой божьей безделице? И настичь бы – хоть на сейчас – хоть этот сад... в коем я собираюсь за море. Я привык обращаться не к минутному саду, но – в будущее и прошлое, посему – напыщенно... И вам кажется естественным, а не кажущимся – мир? Слепящий, ускользающий, лгущий – сюжетом... в который так метим попасть – хоть шутихой жизни. Или – сберечь жизнь? Что касается меня, господин главнокомандующий, то если предложение, которое я имею честь вам сделать, может спасти жизнь только одного человека, я буду больше гордиться заслуженными таким образом мирными лаврами, чем печальной славой военных успехов, – как писал Наполеон эрцгерцогу Карлу... – и длинный вздох – по саду, тряхнув из зелёного миллиона ушей закатившиеся капли солнца. Я желал блеснуть моим трудом. Моей блестящей запальчивостью – дотла... до последнего слова, чьё сожжение тоже превращается в слово... вечное – Предпоследнее.
И Магда опять – в растрёпанном томе на перилах, даже буквы им выстроены – в каре! Преувеличенные южные дали – инакомыслящие, другие, где – слепым пятном... неужели он – в самом деле..? Слова! Но гротескная представительность детали – вещной обшивки – сверкнувшего штыком и ускользнувшего главного... ястребиная чёткость окраин – достоинство не Магды, но чужого ока, скажите-ка, все – под его присмотром – как под Создателем! Но вытягивающийся оттуда – манией преследования – сквознячок, несущий золотую копоть со светилен-цитрусов... Но – эпитеты, тропы, что от собственной необязательности – царапаются и кусаются: маскерадный мелочный рост гостя, нечто вроде – пять футов два дюйма, или шитая белыми нитками бледность... тщедушие, положенное широким мазком под скулу... И в пику саду – каштановый, спутавшийся с павшим солнцем начёс – на стойкий ворот: собачьи уши – в пику испанским собакам... Или неукротимые пальцы, шатающиеся по столу – оттрепать ухо чашке, как рубаке-ветерану... рубаке-ложке... и горб на среднем – неисправимая наклонность к перу... по имени Эспадон... и править, и отличить на полях итальянской бранью, а в строчку влепить аттицизм – или вымарать из истории... – бессмертные изваяния букв – и колченоги-граффити с чужих перил...
Кстати, на этой странице: последней... на сегодня? – гость – золотая сердцевина жизни, от тридцати, вдруг приснилась мне – сном! Я рассчитывал пустить её цыганкой-каруселью – по свету, как по базарной площади... Или – блестяще накручиваться Одеоном на свои всем известные представления... а пробудиться – в том мёрзлом задворке – деревне Мизерово... но – мимолётная ночь!
И у Магды – подозрение, что царишь не в собственной жизни, но служишь – в чьей-то: нищим смотрителем... и – за голову: ч-чёртов аккордный труд! – бьют расстроенный свадебный рояль – в вороньи щепки! И, взвившись пронзительным трауром – над киверами сада, бросаются чёрной оспой на потёкшее в аут солнце. Аут Цезарь, аут...
И – налегке – теперь же даруем всем снисходительность: – и в тридцать пять ещё можно, – щедро: почему нет? А что вы затевали? Разнузданный Карфаген, Персию, Индию... Или в Индию снарядим казачков?..
Но клянусь вашими драгоценностями, мне – тридцать, а не... у вас нет, а у меня есть – тридцать!..
Нашли себе возраст – тридцать пять и... не смущайтесь, – наполеоновские планы? – под реплику гостя: вулюар с’э пувуар, – продувая папиросу смехом и не интересуясь, что он успел, а кого, жаль, не вздёрнул на карусели, как дерьмо в шёлковых чулках... но – нападение мелочи... почему всегда – мелочь?! Кружение окраин... Хотя, узнав впоследствии сюжет, конечно, спохватится – распахнуть взоры, чёрт с вами, скорей швыряйте – до последнего чеканного профиля! – на память, что живём... (Вариант: неужели ваше прекрасное величество не подарит мне свой портрет? – Ну разумеется, ловите! Говорят, я чертовски похож на эту золотую миниатюру: на этот наполеондор...)
И рассеянно – гость: – То-то кому-нибудь хлопот, наваляв стишок – в поэты! Так поминутно втаскивать себя за волосы в Судьбу? И откуда ни возьмись – новая Прекрасная Елена, хоть трижды святая... А если здесь и сейчас я – проездом: на войну, за море – значит...
И в том же стиле – пора, пора!Возможно, настигшая пальцы гостя – на чашке. Или – затянувший хрупкое тремоло шантажа предмет наконец вычёркивает из неопределённости, как из угла, свою ломоту в чужих суставах – и страсть хлопушки к повторению оглушительных эффектов – до эффекта вечности, и к правке (генеральской выправке) Слова...
( Оторвавшись от завтрака: – О, великий мсье Гёте, я так рыдал над вашим романом, что утопил его в слезах, это бессмертная утопия! Жаль, что не ознакомлюсь с «Фаустом». Вы медлительны! – он поболтал со мной о том, о сём – о любви, о роке, об Истории,как вы находите, мсье Гётт, мсье Бог? – повторяя мои ответы в выражениях более неустрашимых, чем позволил бы себе я...)
И – о претворяющих тот и этот божественный образ – в отрезанный ломоть своей плоти, запуская по водам – к далеким от нас святошам, воссиявшим с сервиза островов... верней – чем пускать по водам сервиз (по скончании завтрака... по истечении кофе...) – не лучше ли...
В общем, ради лучшего мира – от паломников: об пол – и вдребезги!
Поклон.
И синий, складчатый занавес моря.
С блеском преломиться – в повторении... и пуститься – солнцем – в новый заход: все пути ведут – к бывшему! И склонность солнца – к найденной однажды красной линии... и южный город, повисший в стихийном соответствии веток – лекалу пропащей улицы (отметка, крап досужего прохожего... прошедшего!)... мелькнувший в разрезе двора, татуированного синими голубками, в цейтноте набережной, оторвавшейся осенним этюдом – от неповоротливого камня домов и приблизившийся к ускользанию... и в прочей детали, раскатившейся по миру, как хохотом по базару – четвертные-чеширские пасти тыкв... Южный город существует – в повторениях.
И белокурая мадам на террасе, одна, завивая в дым – ожидание кого-то с войны, скорее занята – сверкой, нащупыванием сулящей правдоподобие мелочи – измельчанием текста...
Но раз будущее – душой давно в нас (отстав от плоти и наращивая – за наш счёт), как мы в душе – давно в будущем (тоже – в одной душе!)... Так Ожидаемый, собственно – перед ней... если найдется вовремя и вообще возвратиться – à propos, как герой беспроволочного романа, а не как военный герой того еврейского анекдота, звавшийся... так же несущественно, например – Яков Первый, явившийся – мимо ждущих: в историю гостя и Магды, отступающей – перед прозреньем героя, чтоб наслаивать пирамиды претендующей на героя мелочи, полагая, что сокращаешь... героя? Ах, наслоения пирамид, отступающих в эмпиреи от битвы при пирамидах...
Что удивляться, что мы увлечёмся мелкой правдоподобностью Якова? Их мелким Пре... Правдоподобием.
Вперёд – за Якобы Первым, Отступающим – от Настоящей Войны – в пустыню Ожидания, распалённую побитой изюмом мамочкой, отёкшей мешком на слепом окошечке... за вечно якающим голубчиком с южными, как пропащий город, глазами, всё-то им не с руки – вечно тыкающее ими, как тыква, тело, сомневающееся в золотой середине: то обложится авторитетом напусков, прибрав излишки пространства – или мелко утрясётся в иллюзию, таки в дым! – но штаны, плещущие отрешённо от игольного ушка лодыжек (продёрнуть – дорогу), выдадут – по стылую шею! – сожравшего себя до песочного Я: не война ли кормит себя сама?За ним, за скачущим задом наперёд с отрешёнными от песков глазами (Я только дунул на пустыню – и она перестала существовать!..), верней – передом назад: к мамочке.
А мамуля, выплывающая под копчёным парусом на качелях окошечка, скрипящего птичьим криком, вверх – к Мысу Немыслимых Надежд, и вниз – к источнику: к весне – виноградник капелей, бьющий, как в барабан – лотерейным аллегри в поплывшую голову: веселитесь, надейтесь!.. – приподняв бумазейные маркизы век на последнего – Якова, Якова Последнего, выеденного, ай, вы или я слезли с ума, фыркнула вдруг мамуля, судя по вашим отсутствующим глазам? Сейчас я поверю им – это наш герой Яша! Уже сядьте с дороги – за победную капельку, здесь один виноград, вы забыли, что вы не очень мальчик? Где пустая коробка? Он думает – покушать сейчас, так назавтра его не потянет снова! В этом пергаменте я ввернула фаршированной рыбы, а здесь тейглах, что такого, если вы похрустите в пути со скуки? Даже Яша любит! Яша – там, в окне, ай, опять он не видит?! Этот тип Яша возвращается в час по ложке, он же тихоня! – и наддав пару марселю-брамселю на разрюмившемся окошечке – на капитанских подмостках: вверх, навстречу... но вы хоть слышите, как поют?..
Так я вам не видя скажу, кому приспичило петь – как не Петечке? Он такой Яша, как кто-то проклюнулся – или вылупился – из реверса окошечка. Там поет гуляка-Петечка, эх, по Галерной улице гуляли юнкера, гарцевали-топали, опухали хохотом, как тополи, набивали в медные гильзы кудрей толчённый толчеёй ветер, будущий пепел – перепел краснозобый Петечка... Околпаченный базарный Петрушка, без ног от гулянки.
Куль с отрубями на колёсах...
Принц на горошинах.
А буланая неподкованная дамочка, что катит его по улицам, называется Катечка – с заплетённой в гриву блесткой дождя над прядким ухом... в прядке над ухом, родящим остекленевшую ягодку, и с оловянными плошками глаз, не отмытыми от небесных сладостей – взбитых облаков. И гулять бы ему так с Катечкой – как с весёлой вдовицей Войной, так оглушительно – чтоб себя не помнить! А вспомнить – едва наполовину, а свои скороходы в напомаженном сапожке так и забыть, то-то встало раз в жизни веселье – факельцуг в небеса! Как с шального везения по улицам и дальше не гулять и не петь?
А наскучит ревнивице-Катечке тягать его, закусив удила, и трепать о погоды до обносков – и обносит толпу, испещряет Петечкой уличные поля – полевой птицей перепелом, выставляет на травку, как на продажу – срезанные под корень пучки петрушки, и – подломив кринолины и оглобли в чёрной обмотке, в ботах – при Петечке: на бордюре, на листке мать-и-мачехи – падчерицей, на конце папиросы – бабочкой на булавке, и насиживают прогулки, листая, как календарь, прохожие ножки, тц-ц, писанные тушью нотки, высыпавшие на параллели улиц – третьи, пятые... экое конское туше! – и стреноженные, и балетные восьмые, вычерченные бицепсом... и едва коснувшиеся земли шестнадцатые – в кавалерийских бриджах, чудо-партитура! Раз свои отломили – от души, хоть в чужих погулять... вот – под шляпкой-тучкой, небесной странницей, поливающей патлами ёлочного дождя – Катечка на пыльной рисованной бровке, а свои соболиные – тоже, видать... мотовка! А вот – раскутывая горло от песен, взяв себя под козырёк, скатив кепи с огненного затылка – до горизонта отбритых в струнку усов, до непризнания... так и не глядя, истинно говорю вам: Петечка! – я говорю, прикорните уже на якорь. Яков!
Ах, занятые-преважные птицы, всё им некогда, и пока справляли неотложные службы – мамочка качалась в окошечке, а Петечка гулял по течению, надставляя нос козырьком, утекая из перепелов – в дятлы, и стучался на мели – в землю: эй, Аид твою... заперся? Ну, где надо – расколют, знать – не здесь... что уставился-то, аид? Подпевай!.. – разливаясь в устье – соловьями, как Нерон с постамента... превратившись – в одни уста, голосистые – той и этой птицей, голосящие – за всю стаю, и крошился гуляниями...
А гуляка-Петечка, превратившись в пол-Петечки, в бесполую удалую головушку, как раскрошенный вакханками...
Пока Катечка накатывала им затёртые улицы... а горбуны на охотной террасе развлекались пустельгой ожиданий... а белобока-сорока, любительница блестящего, с треском натянув хвост-дудочку, уводила за собой играючи анютины глазки, полные блестящих видений... пока дятел нянчил красный парик с милостыней – собственной головой...
А чей-нибудь племянник, махнув орлом на котурны, множил свою натуру на хитоны и тоги с атласной каймой, на мундиры, визитки и фраки, и прочие подгузники, пеленая в них сокрушительные монологи – и, хохоча от скуки, превращался в бурю и срывал с себя те и эти свои тела, как пигмеев, обобщая в братских страницах с сабельными ранами по углам...
Nota-bene: альбом!..
А мамочка плыла на плакетке окошечка, чир-р, чурр, втягивая к себе тихоню Якова Первого – до пяти футов двух дюймов, а Последний – Яков, хрустя печеньем...
Альбом, летящий (на воздушных поцелуях... на воздушных портретах?) – за сорокой и блестящими планами у неё на хвосте... зашкаленный – портретами, что посажены на альбом – в мундиры, где посеяны красные, как менялы-синонимы, ордена гвоздик и чешуйчатая медаль настурций и рассеян крестный ход жасмина...
Да, пока перелетаем райскую пропасть цветов и поющих птиц, и хрустящего печенья, не назначить ли время (Час Сороки) – найти блеск в присутствующих вещах – или в их присутствии? Или их блистающую плоскость, нарастающую с каждым днем – и перехватить у великой равнины, как Яков Последний – у орла – перевод действительности в плоскость альбома.
И – как я – выжимает из альбома тётушек и дядюшек, засидевших его страницы, – мамочкиных сестер и братьев, и не видит нужды им там сидеть – да только и сидят!
Поначалу облепили тёплое польское местечко, прижались спинкой, поднялись, зарумянились, а с фасаду выплеснули манишки, гимназические фартучки и цукаты пуговиц на курточки, запалили гербы на вздыбленных фуражках, сами им – фураж, и запутались в занавесе зыбучих-сыпучих шуб. А один юный дядя – гарда усиков над клинком языка – выставил на плечо, как фонарь – эту клетку с канарейкой – календарь с тринадцатым годом.
А потом, потом... и подмигивают последнему – Якову, и меняются красивыми позами – помнишь, Соня, мамин кот? Соня, ау!.. Так вы угадали: потом – суп с котом. Отчего нам не посидеть хоть на фотографиях в ускользнувшем городе Белостоке? У нас здесь меньше фотографий, чем наших углов за угольную жизнь! А Белостока – меньше фотографий. А пора и честь знать, подмигнул Яков Последний. Высыпались австрийской картечью!
И, устроив вам смотр, сокращаю до дяди Лёвы – и садится за всех: под будёновский колпак, тпру-у! – остановите ему глаза, не то прожгут йодом! И запишем в назидание каким-нибудь троюродным внукам: военврач, майор дядя Лёва, падкий до каждой войны, а съев очередную отставку – муж чернокудрой красавицы тети Сонечки в листопаде солнца по идущему контрагалсом лицу... Вариант: можете его встретить на Ленских приисках, даёт барону Гинзбургу массаж на десять рублей, чтоб взмахнуть баронскими червонцами – и обернуться доктором... и посыплются на него червонцами войны – одна червонней другой.
А между войнами стащит горячий сапог и насадит утром на шею кофейник, пересядет в иностранную библиотеку и тоже – переводит, перевозит... неважно кого, за обол или драхму... и, не расположась к противному бережку, разворачивает обратно. Но случись ужин – всегда назначит пассажиру и себе непереводимый портвейн, раз уж гукаем жизнь по порту, а наскучит – оттянет за ухо свой широколобый, под козьей проплешиной, глиняный кратер: да не соблазним христолюбивое воинство!.. – и уволит портвейн в буфет, авось займётся новый ужин... дядя Лев с танцующими, трясущимися руками, как сморозила ему в веселье Война, отвалила богатства – виртуозы-пальцы, отписывающие рецепты бустрофедоном, и танцорку-жену, величавшую благодетельницу девкойи танцующую вокруг палки – в капкане протезной туфельки... в привитой к ножке тремя ремешками колоде – чтоб воображали: непреклонны! – а танцует вокруг них мир... любимая красавица-тётка – Софи, расчехлившая мир, как Наполеон, пятнадцатого августа, ну и львица! – или Бонапарт, как тетя Соня? – коей тайне, проступившей под проливным четвергом – в зазеленевшем, как кладбище, картуше – сообщает фундаментальность и вся недоразвёрнутая глиптотека, развернувшаяся лишь Харибдой и Сциллой – сцапать уплывающее время...
А сама тетя Соня летит в гран-па уж лет тридцать – тридцать лет, как не удержалась в неуступчивом местном троллейбусе и вылетела на палке вон – во-о-он...
Ай-яй-яй, вздохнул дядя Лёва, отвернув глазурованный глаз от законченной головоломки, утопил свой зольный горшок в пойме плеч, запустил по всплывшему днищу десять плясунов-трясунов – засадил портовым матросским яблочком – яй-и что я ни навязывал себе на шею за кровные восемьдесят с гаком? Ай, вот что яй-яй не навязывал! – дожевал мышиные хвосты дождя и навязал свои восемьдесят на гак – плетёным шейным шнурочком. Ну и софист...
Это старое, как счета, заседание почтенным семейством – в тёртых креслах, юлящих от одного к другому... Этот считанный и преувеличенный Белосток, гиперболоид, пущенный вкруг семицветной юлы, имеющей оборот – преувеличение семейства, чья почтенность – семейное преувеличение...
Эти южные насаждения-наваждения – семь синих цветов: Берта, Сонечка, Ева, Лиза, Гриша, Володя, Юлик, августейшие соломоновы дети, процветающие – ночью: в сновидениях, как в фабльо... И осыпаться мне заплатами лун и солнц, как цвели и осыпались мои дяди и тети!..
И в рединготе длинного луча из окна – тот последний за фортепьянами, под самолётным следом пробора – взлётно-посадочное чело, и рвущиеся вверх чёрные крылья, и готовые к небу глаза... И в длинном солнце окна – цезарь за фортепьянами, и когда, сверкнув профилем, разворачивает по течению чёрную ладью с музыкой, вдруг сливается на повороте с этрусской канопой... и смеётся над смещением в мои деды, проиграв эту шуточку – этот бах – на слух, уступая бакшиш с клавиш – моей юной бабушке, а мне – золотой редингот и цезарево имя, а впрочем – пришлю вам после... света, с бегущей за пороги клавиш ночной реки, как выяснитесь мне – Незнакомкой... как цвели!
Но прорвавшись сквозь сон, настигну – отставших троих, чтоб рассыпали – менуэтом или колодой карт – заносчивые раскланивания, и летящий на свет рой поцелуев, раздробили каблучок-яблочко и каблук-колоду в рассыпчатых бубнах, распушили на шее пеньковый бант... бросьте вашу грибницу пейзанских чепчиков, я отправлюсь в тот высший свет в моей высшей шляпе! Настаиваете? Тогда – Bonnets de la révolte! – Революционный чепец. Ранняя Мария-Антуанетта. И похоже – не улежаться с мизера бубновой подушки с настурциями, гвоздичками и прочими бантиками, стоит их кантовать? Распустите банту стан – да разлетятся сами... И хочу другие музыки, задайте иных аонид! Снимите ваш вечный Альбинони, здесь моих – суточные... семь сорок!
И подмахнули мне веером своих образов – и с треском сомкнулись.
Но, подозреваю, одностороннее шествие под золотым зонтом, и что ни день – под новым, чему-то наследует или предшествует? К чему танцует эта нарядная су-е-та, затянувшаяся, как горизонт, от восхода до заката, от мамочки – до ангелов-горлохватов, салютуя в суете – бобами, исторгая (изгоняя) райские музыки из медных морковных дудок и скрипичных тушек с фаршированным благозвучиями пупком? Из тёрок-цимбал, кастрюльных литавр, звонких черепов ороговевших чайников – и фронтонных тимпанов ударных лбов? Эта сорока, наступающая – свиньёй, волоча сверкнувший линзами окон и серьгой, вдетой в дверь, соломенный Ад, изгоняя (извлекая) из него – Рай?
Шествие сквозь платья... Что-то вы засижены платьями?... Вам показалось! Мой девиз – преодоление всё налетающих новых... В преисподнюю – в исподнем! Или марафон Талейрана – на Венский конгресс, почитающий себя в жизни персоны – главным. Путь в Ад – как возвращение с конгресса, о чёрт, я забыл там – raison d’être! – это золото! Скорее – назад...
...к венским стульям – в смеркающемся окне, куда взираю из улицы, как в телескоп, рискнув звёздами – за астериски, за сноску кадящих синью оконных фиалок и подожжённых кармином и падающих в горшок самолётиков, где выступают, отбивая ритм палкой, тетя Соня с девкойв шоколадном глазу, заточённая в крендель танца, и плешивый лев, её переводчик от войны до войны, от огня до огня забывающий огненную гриву, избывающий балаганную гирю головы, полную – притяжением облаков... красавица-баядера и её старый напарник с десятью плясунами по веревочке.
Но – главное?
Дорожные кренделя, одни, как жизнь, и колец не хватит, или мировой номер – перелёт из троллейбуса в небо? (Дан 7-го января шестьдесят восьмого)...
Виртуозное исполнение единственной мёртвой петли (января 19-го того же)?
Или нарастающие птичьи фокусы деда: дым...и голубиная шелуха-синюха – уже благородный небесный отлив. Оп! – поселяем в груди мамзель Жабу, не расстёгивая редингота! Ах, травести-мамзель, вечно играющая вечно зелёных – траву... И – три-четыре! – слетев с жиличкой, как Петечка с Катечкой, на скат московской улицы – на траву (марта 44-го, ДВАДЦАТОГО), располагаемся, как за фортепьянами: заглушить мощным форте бегущей рекорды реки – милицейские трели: загорание ваше здесь не положено! – с переплавом на фортепьянной ладье в участок, вот уж где загорим! И в дверях – самый пьяный фокус: рраз! – и вместо деда – сыплющий перья ослепительный огненный журавль. Взяли цезаря?
Ведь существует, я по привычке подозреваю, оставшееся. То есть остается – тоже по привычке? – существенное: Тулоны, Маренго, Аустерлицы... золотые конгрессы... И длинноклювые, как трава, листокрылые парии, воспарившие – белошвейными южными садами, затмившими город... или – ускользнувшую жизнь...
Вернее, их жизнь, просочившаяся сквозь свет – в сны, просквозившая спящих петрушками тайн, как петрушек, смущает меня – как временная... брульон! Сущее (и пересортица, перезвон, благовест синонимов) – не ускользнёт! И если их жизнь – такова, чему я – временная порука... она, как всякое настоящее, – в будущем!
Вариант: истинное не бывает прошлым, особенно – минутным, как прихоть, настоящим, оно – всегда...не меньше, чем сейчас... сейчас – равно всегда?..Ergo: мои тетки процветают! Вариант: настоящие – сейчас.
А если и от меня – вдруг? – часть речи вообще... часть речи:невыкупленный залог, и сады, и танцульки по семь сорок за штуку, и штуки огненных птиц, и часть речи – слова... в чужом тексте, вразброс – подайте им чужое! – но вами читаются сейчас?И возможно, я ещё вымараю бессрочные отступления – заносы между моими словами...
Или – настоящие: семь цветов, вставшие в тонущем слове – Иридой, спасут и слово, и меня?
Как настоящий Орфей – Петечка безоглядно везёт за собой подругу – зажигательную шутницу-Войну.
Как Яков Милостивый спасает шинель – в пару к докторской, порыжевшей – львиной, настигает – в беженцах из альбома, ловкачах, размноживших лица до безликости кули – побольше утащить на спине до темноты запечатанного в овалы-сердечки Белостока. А в шинели – не фунт изюма, а кто? Мамочка – на ременной шлейке через плечо утянувшая военный гошпиталь. Да зачем вам этот гиньоль?! Чтоб мелкий лист ракит с седых кариатид слетал на сырость плит осенних госпиталей.И отозвана – в страницу, где скучает суконная майорша – шинель с дядей Лёвой, итого: гардероб... выеден, как распоследний Яков! И, взметнув клейкую кисть (Гро – ко мне!), бросается, как на Аркольский мост, умножать себя на доломаны, колеты, кителя и прочие клумбы. И грести, как на галере, скорбь... то есть – скарб: плечики под мундиры.
Тут – в великих, крушащихся, как цивилизации, монологах – картавая отсебятина красавца на жёлтом глазу: орла, племянника, выхлопывающего крылья на пути из тоги-претексты – в красные шаровары, и зависшего – над мелкими летунами на выкромсанных из Белостока дельтапланах: Белосток? Хо-хо... И как мы имеем просторы России?
Как! Вы припозднились допросить дядю Гришу, кто сорвался в Сибирь и сманил всех?
Дядя-рвач. А почему не сиделось в другую сторону? Мы могли жить во Франции, а?
Так с той же стороны палили, как идиоты!..
Но – грассируя, насморочно – я спррашиваю, почему мы не во Франции? По мудрости небес – и в этом нет сомнений – народу каждому присущ особый гений, но также верно то, что место или век меняют всё, что мог замыслить человек!
Он не слышит кроме себя, что стреляли? Кто! Кому так по-немецки приспичило? Четырнадцатый год... шестнадцатый – я знаю, пока меня не было? – застыв посреди альбома с охапкой плечиков – под летучие эполеты – под ветром в раскрытой раме: Яков Первый и рыцари-госпитальеры – в голубых лентах бинтов.
Какая б только кисть изобразить могла...да, кистью, вмазанной вами в клей, я изображаю художества ...кровавый этот мир и гнусные дела!..М-мм... погубленных, чей дух равенствует богам, кто дерзостным клинком сражён у входа в храм!Кор-рр-нель... кар-рр, карр! Но хотя бы – в Польше?
В Поольше?! Полезай в печь – получишь себе Польшу... – разбивая альбом на новые бивуаки... разбивая священную империю мундирной нации... Эй, баталисты, расписывающие жизнь – настоящей Войной, или войну – Настоящей Жизнью? – сядьте, Мидасы, от золотых художеств – к пакле нашего костерка, чья сфера беспредельна – окружности ноль, а президиум – на каждой странице! Парламентёры Войны – или Сферы? – с выбеленной головой на древке шеи – в геройском поезде страниц, в странствиях по временам – из первого ряда в третий, и – в первый, скакуны-кентавры, нализавшиеся с лекарств – с Неем, Мюратом, Данном... Или: насекомоядные, объевшиеся с летающих и жужжащих, и чем фиктивнее круп – тем скрупулёзней уточняют новой диакритической гвоздикой, тем шире пудрят седин и закладывают блеск в вершины – тем Невидимкой...
И, разохотясь до цветника и теплых местечек, желают бред на старость лет – южный сад! И террасу... И закладывают в рядах зазоры, окаймляя себя – ускользнувшим садом... и, углубившись в невидимое – в самом деле...
Этот мелькнувший одесский платан, объявивший обмен – в малокоммунальной квартире...
И когда крупнокоммунальные страницы выщипаны, наконец – да, в зазорные... тут в картонном прецеденте лицемера-племянника – по скончании примеренных лиц – рассыпается в похвалы газетная вырезка. А у Якова – сияют непробиваемостью, как строй щитов, рескрипты на целлофане – широколиственный сад, где посажены пышущие весельем зубки, и перелетают стайкой в октябре и в мае с листка на листок, подхватив чернильного червячка – именную сладость: Якову – яково! Яков алексин – на цветущие выселки, какие ни пожелай! А мамулины-тетины сладкие имена – фьюить из окошечка! – и распались... и расхватаны прохожими – и носят как имена собственные.
Но Кое-Кого – вокруг пальца, Яково – Поднебесной: Я! Вокруг этого кадуцея! – нанизывая на облизанный заячьи-мозаичьи крошки печенья. Зазевался – и я не вижу, если вообще Его не вижу? Так я вижу – Он обо мне думает! Это Их Невидаль зрят меня дуплистым раззявой-деревом – бортью для жужжащих... или – растопкой для Польши? А ваши продувные деревья с их размахом – многорукой лестью небу – не винтовые лестницы в Иерусалим? Не догадались – так они туго закручены или я произнёс слишком гарно, но не всем – в дёгтемазы?
Я завел на нас значительное дело – целый альбом! Эй, красотки, цирлих-манирлих... спешите на ярмарку великих мужей! Кому их отбритые арбузы и дыни? Ишь, раскатились... их сливы и ушлые вишни? Вот корзины с грудами гвоздик и настурций – грудные корзины! Яблочки-сердечки с пулями косточек – пирамиды, напирай! Вылетай из обломавших зубки пергол-фотографий – засидевшиеся в белостоках фотограции, посиневшие от цветения... и чернявые-картавые гимназистики – пожелтевшие пане-марципане, лучшие в мире отопленцы! Знайте, я сам пускал пчёлки, я сам топил Польшу! Чем... в чём... раздвоенный язык, так трещал и треснул... ах, тритон – то плавает в человечьем молчаньи, то гонит волну рыбьих речей... речную волну... Ну-ка, взопревшие в ваших шубах меховщики, обозная фронда, выпьем за нас с Войной по маленькой – из ваших аптечных склянок!
И ликуют – маленькие человеки, белый сток, всплеснувший фуражки с крабами – с фаршированными рыбами, промокают батистами свои капельницы: ваши сто миль пардонов – наши будьте веселы: тот последний, которого из нас скроили, – беспардонный герой!
И – в южный охотный сад на краю света... в жасминно-трефовый, трефной, возвеличенный туманом – до острова, где на портрете, как на террасе – или наоборот... белокурая мадам – за пяльцами ожидания: пялясь в пустоту и день за днем удлиняя – её видимость... ибо пустота шале равна ошалевшей от неё Магде – и не более постоянна... И события – счастливые заимствования и цитаты, чья счастливая жизнь – несущая в небо конструкция.








