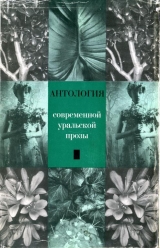
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
А объявись в непересказуемый дом Война, так мы и ждали очередную цитату – шутница Талия рюмочкой! – и примут на славу... пропущенную Магдой – верно, у Войны и без нас – полные ободья глаз, и высматривает из тех и этих имен, цветов, черт... словом, непрерывность видимости ей обеспечена. Посему – безмерно скучна... о, убийственна! Хотя, как всякое клише – безударна... И особенно защищена и крылата – за плечом горбоносого кавалера с неподвижным, как вечность, лицом...
«Когда верховный главнокомандующий французской армией прибыл в свой дом в ал-Азбакийе, там собрались актеры, акробаты, фокусники, дрессировщики обезьян, танцовщицы и шуты. Были сооружены качели подобно тому, как это делают в праздничные дни на ярмарках. Все это продолжалось три дня. Ежедневно происходили народные гуляния, иллюминации, фейерверки и производилась стрельба из пушек. В пятницу, после того, как верховный главнокомандующий роздал жителям деньги и подарки, праздник окончился». (Ал-Джабарти. Египет в период экспедиции Бонапарта.)
Вариант: «Восьмёрка коней медленно везла Александра, который беспрерывно, днем и ночью, пировал с ближайшими друзьями, восседая на своего рода сцене, утверждённой на высоком, отовсюду видном помосте. Затем следовало множество колесниц, защищенных от лучей солнца пурпурными и пёстрыми коврами или же зелёными, постоянно свежими ветвями, на этих колесницах сидели остальные друзья и полководцы, украшенные венками и весело пирующие... на всем пути воины чашами, кружками и кубками черпали вино из пифосов и кратеров и пили за здоровье друг друга, одни при этом продолжали идти вперёд, а другие падали наземь. Повсюду раздавались звуки свирелей и флейт, звенели песни, слышались вакхические восклицания женщин... царило такое необузданное веселье, как будто сам Вакх присутствовал тут же и участвовал в этом радостном шествии...» (Плутарх. Александр).
Отступитесь от вечных отступлений, вот – настоящий сюжет... настоящая Война! И блеснувший слогом – как солнце на глазах... как нищий лейтенантик, вышутивший в жену австрийскую принцессу... И герой, импровизирующий Историю – на наших блестящих глазах, или – историю литературы... золотую цитату – за опус собственной жизни, гомерический экспромт, или свою разночинку-жизнь – за вакхическую цитату, не всё равно? Ведь если – вы всерьёз... обезоруживающе! Считайте – сразили. И счастливая жизнь равна – сражению. Так проморгать сюжет... иллюминации, фейерверки... И пока Великий Импровизатор – с нами... пока базарная площадь – с ним и, превратясь в карусель, плещет цыганским прибоем юбок – многослойными вёснами... пускает жизнь на ослепительную скорость, скорей торгуй её в три дня, подумаешь – так вечно... Но разумеется! – смотри навязчивый образ круга, колеса... – в этой ли золотой околесице?..
А за оградой пустоты – чужой сад, туманный – но для Магды прозрачен, как зеркало... зеркало – как воплощённое мародёрство... Туманное, молочное, сбежавшее изображение, где прошлое – будущее, а святое ожидание обращает тот сад – в приход гостей, и вымышленную пустоту – в настоящий пир! Сад, заглушённый вьюнами голосов, колоколами, опылённый смехом... дом-альбом весь – раскрытые рамы: портреты, раскрытые в натюрмортах – под хрустальный перезвон посуды – перебой её хрустальных синонимов – в честь метеорного ливня плодов и великого перелёта баранчиков... мёртвой натуры, вымышленной в тьме безвидной и пустой – в празднество яви, в живые персоны. И прочие музыки и благоухания молоком и мёдом... пуншиком, фригийским колпаком с петрушкой, сдобной птичкой с изюмом... и багровые от правды жизни перцы, пряности, травы... деревья... И на деревьях с заплетёнными в гривы синими лентами, с травяной бахромой в хвостах – все, как в зеркале: даром! – катаются с хохотом вокруг дома – чёртовым колесом – в погреб, в эреб, и – в небо...
...пока мадам в битых молью драконах сандалит маршрут из комнаты на террасу, прихватывая шотландку потолка... шатаясь из угла в угол – астролябией, с наскоком на стену, как на кокотку – царап с нее паутинку, выдирает локон пыли – и тоже в хохот... И из книг навытяжку – голубой том, первый... ах, разве может он – последним?! И раскрыв на террасе – на перила, в забвения... а взамен – подножный папирус, но тоже не развит в новые похождения. К коим лучше – папироса, драконовы веяния... а ну, огнедышащие, несите меня, как огонь – к другим людям... на юг, к морю! И с досадой вычеркнув гул и плеск из-за дома – опять у перил, вылавливая пир из чужого сада, восхищаясь его неотступностью... подражательством... чему?
Будь мне пусто – пиру!
И немеркнущей мелкосидящей за пиром птице – вот-вот вспорхнёт! Поднимают за надкусительницу пунши – в гром! И разбросив ломти улыбок, выторговывают тот и этот мёд – и медовый месяц, и миндальный орех – в аргусовы глазницы небесной посудины.
А медовая-бедовая белокурая кума заливает, как девка, заливаясь над повадившейся к ней речью – вкрадчивым черепашьим черпачком к чистокровной реке, ах, ваша земноводная, приземистая... над миндальничающими небесами, будто так ей, хозяйке, – тьфу! – подпустив дымком, покрыть с пригарью то и это – и явить время-пир, время-мёд... золотистого мёда струя... так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...что и мечет с искрой – щедроты: из ниоткуда, из садов души!
А на пинту воображения – едкую, как луковица часов, террасу: куковать... и стрельчатый, как часы, душный сад, уносящийся стрелой – от случайного гостя к мелкой землемерше-кукушке. И, вслушавшись в зуммер, в оракул – сколько осталось земли? – помечают: серый шестистопный амфибрахий. И, суммируя образ часов: лук, стрелы, ветреность и летучесть... навиваются из кольца в кольцо, бьют навылет... – попутно доказывают: часы – несомненно, Амур.
Там, за туманными амфибрахиями, – и пропащий город или сюжет... не оттого ли пропащий, что – иллюминации, фейерверки? И воспламеняем города, как сердца, – один от другого – в факелы!
Ку де метр! – да, французское наблюдение, в этой их ослепительной карусели... каковую навечно запишет тот французский маркиз благородной души, надушенный счастливчик, летящий с Гостем из одного конца мира, то есть войны – в другое её начало, стремглав – сквозь метели страниц, лавируя санным полозом меж качающихся государств – на дальнее пламя кульминации, Франции... Тот счастливчик-маркиз – в дезабилье... в мёрзлых клочьях с тиснением Смоленской дороги, обмороженный мим... постригшись в мимолётность – увернувшись от пущенной часами стрелы, пролетая с Гостем по пламени – то есть по свету: из одного дня – в другой, на вспыхнувшее светило... оттаивая, растаяв... от застольной грации – или Талии? – глазурованной под ведущие блюда...
«Я заметил одну даму из Эйзенаха, сидевшую близ примаса. При обращении к ней её называли не иначе, как именем какой-нибудь музы. «Клио, передать ли вам то-то», – спрашивал её примас, на что она просто отвечала да или нет, – Талейран. – На земле она звалась...»
Так о застолье, ваша светлость маркиз, ваше коленкоровое почтовое ухо для наших крылатых реплик – лучше я до конца кампании буду есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой! – некто N...ах, маркиз, от крыла до крыла унизанный пишущим инструментом, но не пронзающий высочайшего убранства огня, его возрастных метаний...
В этой чёртовой карусели... О, чёрт! – в этой чёртовой неразберихе мы никак не могли узреть поджигателей – кто эксцентрики? – начисляя ведомство пиротехникой – неразберихе. С вами Бог, неужели... верить – ибо абсурдно? Эй, скорей потушите свои горящие головы, господа, нынче в моде не петухи, а шляпы! Вы нас так поразили, золотые лисы, что наше поражение...
Императорский комментарий: на балагане военных действий. Браво! К чему ж вы сжигаете ваши дороги?! Что сиим разухабистым предрешениям – Великая Армия, из дьявола выколотят всю коллизию! Выбросьте пламя из головы, мсье... или – головы из пламени. Да хоть в корзину!
«Из поджигателей, которых предали суду, одни были казнены, а другие оставлены в тюрьме, по выражению императора – как несчастные жертвы своего повиновения начальникам и приказам взбесившегося безумца...» «Этот пожар, – прибавил он, – безумие, которым безумец мог хвастать в тот день, когда он зажёг огонь, но в котором он назавтра раскаялся...»
Вариант: «Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь... – единственный раз я слышал, чтобы император отдавал подобные приказы.» (Коленкур. Мемуары).
И – пирующий сад: вы переборщили борщ петухами! Перепетушили осень и надставили её золотыми охотными лисами – до ноября... Вот Немезида-зима, которой меня пугали! Чьи изуверства в меня вбивали наглухо... – и глядя в солнечное око под ломкой вздёрнутой ветвью на лисьем меху: будут заклинать огнем, что это Москва! Есть землю! Оставьте горелую краюху – где жить... ваши бородатые анекдоты – брадобреям с национальной бритвой... Москва. Это Фонтенбло! Осень хороша – доминантой неба, а материальность душеполезно убывает. Вдруг – всё прозрачно! Вышелушиваются знаки – иного, стигмы: его господство! Осень – прозрачный намёк на другую реальность... На Фонтенбло?
Вариант: осень как всё преходящее есть только символ...Ваша материя – наше шитьё заматерелого умозрения... Не поджечь ли пуншик – несравненной меткостью пламени? Меткое, как нонсенс... как время... его меткое воплощение. И города, один от другого, занимаются бушующим временем. Эй, зачем вы раздуваете в городах время? – и вспыхивают пылкими его языками, арками, мостами, пролётами – вечными переходами в будущее... или вечной отсылкой в прошлое... Зачем вы раздуваете в городах нонсенс?
И с вашей кремлёвской колоколенки, околачивающейся на нашем бивуаке, достукалась... длинные голоса в пиру: срываю трефовый стоп-кран – крестовый трофей! А вы – крестовый поход?! Вечно вы... уксусник. Мм, туз... гениальный ходок, но дорожки – таки избиты... гениальный эпигон! Пуншу – бочку, трирему, меня першит с ваших слов! Если я увлёкся Шутницей и разорвал мир темнотами маскерадов... возвращаю ему прелестную ясность – Моим Словом!.. Но ваше пламенное – опять побьют на цитаты! Речь великого космополита – как речь посполита – обречена на расчленение...
И каким чёртовым колесом ни катит туманный сад, и какие ни проигрывает пиры... с соседней террасы видно – только следствие, результат: Вечная Победа... о, конечно – вечная! – неважно, чья...
Но пред падающей башней вечернего света мадам осеняет: моя потребность в видимом... но в прочих пейзажах не меньше видимости и без моих взысканий. Вариант: спешу одарить их видимостью (как тот щедрый маркиз, перистый архиплут... плутарх, увитый вашей великолепной витой)... Особенно – остров в чёртовом полушарии... самый святой.
Вы правы, генерал... пардон, Сир, лишь пером завоюешь мир! Но как ввернул один толерантный хромой – блестящий расстрига: на перьях не усидишь, желчно переострили... ваш остров! Отвергаю, как ордалию. И чтобы достойно осветить его, Ваша Тень, нужен свет... и, ваша верная тень, отлетаю на свет... что так насыщает тени – грешен, гелиофит!
И ничто их так не чернит, мой перелётный! Кстати, наша высокопоставленная ля ви ещё не закрыта...
Увы, мой бедный маленький кумир сошел с пьедестала, – как заметил тот блестящий хромой – романтическая душа: князь... лорд? Всё кончено! Вчера венчанный владыка, страх царей земных, ты нынче – облик безымянный! Так низко пасть – и быть в живых!..Виноват, Сир, не тот пассаж – пассаты... но больше с вами не случится Истории – увожу... а, вот: это выжмет слезы расплавленного металла из глаз Сатаны! Славный вождь! Прощай, прощай...Разве ваша э-э... что, заметил наш хромающий шутник, уже не событие – так, новость... vixerunt! Но клянусь, вы бессмертны – как одический жанр... как арлекинское солнце, выкроенное поэтом из вашей пурпурной мантии...
Спаси вас Бог, если вы – о терновом венце, до сих пор недостающем моему урожаю... он стоит Парижа! Ветер вывернул наизнанку и полушария – и одические страницы сбившихся с ноги острословов... сбившихся с ног слепцов, повязанных не убывающей материальностью, а... сын мой, да не обуревает вас море!..
Но, маэстро, какие бури кроме славы – если я везу жизнь Цезаря и его фортуну?!
Наконец-то мадам выносит соломенную обузу из сада, непродуманного – до города, редуцированного – в остров... чья пустота отныне представляется – мне, а некто, обнаруживший пропавший город Шлиман... и всё, что пропало, конечно, обнаруживает, что – всё пропало!
Во всяком случае – сад, и немедленно наполняет несуществующий – рассыпным строем деревьев, взметнувших фанфары и зазеленевшие сабли – гренадерами, егерями, ах, вольтижёрами... Возвращение из реальности блудных деревьев, высоких, как видимые в южном саду события – гиперболические и стремительные... как колоннада на взморье, осыпающаяся сквозь зеро мгновения – в прошлое, осыпанная взмахами шёлковых маков... да, за домом – конечно, постфактум – море, и в подержанной солнцем перспективе – заморыши мачт...
И мадам следует пристрастию: к морю! – сквозь открывшийся город на водице, как акварель, перкутируя каблуками улицы, скрытные и сквозные, как намёк, мотив – тоже наигранные и фальшивые, пожелтевшие, как старые фотографии или пустыня – тоже полные миражей... или – мелочно детальные, как упущения главного, тесные и случайные, как газетный набор, и набитые, как скупка – бывшим вчера... всё то же!
И угловая клетка с пощипанной канарейкой-старухой, заклёванной пулями или изюмом – чья-то прекрасная незнакомка, но виданная-перевиданная – то-то вид наш так стар... или зрите в ежедневных уличных незнакомцах – новых, а вчерашние не могут войти в тот же город – относит?
Из бывших – и те, и эти... и уже выставлялись в окнах – вдаль... так что старуха, сбросившая с себя, как со счёт, простейшие действия, – совокупность, символ... застывший памятник, и её глаза отражают не вас, но даль... или дело в ожидании – в вечности, а сиюминутное зеркало – вы, и теперь вы – жёлтая птица.
Где я видела старуху с изюмом? Я уже шла этим городом к морю? Совершенно от меня ускользнуло... и потому он – ускользнувший? В отличие от террасы, коей стойкое ожидание сообщает устойчивость. Как и старухиной клетке. Уж я не такая соломенная, как ваш охваченный временем город! Вариант: возможно, именно я – та соломинка, за которую стоит ему ухватиться! Просто ей недосуг отразить меня – парочка её бесцветных хрустальщиков шлифует себе перспективы. А я вышагиваю – из прошлого...
И подхватываем – удостоверением, что город существовал, – брошенное старухой в форточку: – Оставьте. Он будет! Он обещал... – с чайной мелочью для правдоподобия: – Первого. Он сказал – первого марта,а сегодня ещё... – остальное мимо.
И мадам, спеша к морю: а сегодня ещё июнь, июль... во всяком случае – суббота! Поставьте старухе трема глаз над толстым стволом её носа, её пестротканным платаном, чтоб сместилась во времени – точки над i!.. – пока ножницы детских качелей прорезают в уличном гуле картавую птицу... полёт орла. И с площади – стрелы часов, прожужжавшие у самого уха мадам...
И приморский бульвар вдруг срывается из местных божков – в бездну падения, отменно вздутый – над водой, над бездной – ядовитыми струями, грянувшими из медных замысловатых жужелиц – раструбивший о себе оркестр, полный замыслов, сорный полувальс-полуфальшь – на нижайшей палубе юта, пристани... каковую дробят танцующие – в неделимое: суббота, флотский оркестр, танцы... (Вариант: Франция, армия, Жозефина...) Море слизывает – гениальный эпигон! – а город наносит новейшие субботы, итого: палимпсест... сущий Ад infinitum в наносном стиле...
Там юные амурчики на часах – на циферблате танцплощадки, фарфоровые юнги в синих лепестках по плечам, прозрачные – до адмиральских жезлов в ранцах... до инкубов... выдувая ускользающие от прочтения шестёрки и двойки труб, валторн, саксофонов – между чёрных комендантских часов-гобоев... кларнетов... и прочие раздутые пузыри свободных ассоциаций... превращения духового ордена – в извлечённые из фотографий солнечные, трубящие белостокские улицы, заплетённые в клубки – нашими блужданиями... вены листьев, лес венских сказок – в листах с провинциальным южным пейзажем – бесплодное кружение: вальс...
Ах, эта старая Австрия... эта старая служанка, привыкшая, что все её насилуют, и хочет, чтоб я дал ей пощечину? Я вхож в Историю не жен-премьером, а солдафоном – и обречён побить Австрию палкой!
Впрочем, видимая временность циферблата... и всё ускользающее... такая же фальшь – как венский вальс, переигранный в пользу южной провинции... как и то, что фальшь ускользает... Скорей – настоящий город, нарвавшись на чёрные списки ночи...
Но – его фантастические адреса на летящем от тьмы на крылатых фонариках танц-циферблате... но танцующие – плод фонарных желтков и черной шерсти... В общем, правда жизни коротка, а фальшь – вечна...
И отметим – бегло: закрывающего приморский бульвар, открывающего танцы кавалера красотки-войны, что захвачен её жаром и вознёсся, отточив сапожок... и захвачен кавалерией среднего копытца, гарцующей на скамейках, заминированных щекастыми минами южных роз.
Но когда в город вступает оркестр, под высоким сапожком расплывается маслянистая пауза... и посматривают через поток машин, гружённых разбитым солнцем, на пристань – на младых неслыханных трубачей... И, сговорившись, ускользают парами – к трубачам...
И затянется тьма, и субботние перебежчики – уже все на стороне трубачей, подхваченные жёлтыми, золотыми фальшивками-птицами... на стороне наполненной гулом и глубиной колоннады, кротко пасущей мраморных львов, нацепивших на лысины клочья пены... Там, в колоннаде, сплошной непрочитываемый текст на другом языке, и вдали, в небе – колонтитулы: начертанные огнями иероглифы кораблей...
И мадам бродит в танцующей, неустойчивой толчее и ловит, как петуха, нечто необязательное – мимолётную аферу, но – неопровержимую, пробуждающую... попадание в петушье мгновение... в настоящее время, кто его ни завёл. И заглядывает во вьющиеся лица, и уверена: по чужим лицам можно прочесть – возвратится ли тот, кого она ждёт.
Или – вариант: Магда, поджигая папиросу лисьим хвостом кружащего сада... Но издалека – с приморского бульвара? – вдруг: другие голоса и репетиры, промозглый вентилятор крыльев, раскаты пушек или тыкв... А, этот мистраль уже для меня!.. – выскальзывая из парфорса сада, и – сквозь хлынувшие улицы, тянущиеся к горлу, – на приморский, где замешивается столпотворение, пасхальный кулич, пересыпанный маком глаз... где закручивается праздничная толпа, – к пристани, растворившейся в блеске глаз...
Скорей, скорей... за ним! – бросают Магде.
Ну, ещё бы, я с вами, простоволосые птицы-путеводницы!
И та зоркая птица, не простая – с изюмом, в распахнувшем угловатые створки пыльнике, старая прачка, что полощет и синит перспективы – с нами, к морю, откуда палят – точно, пушки-вострушки.
И перманентная барышня в хламиде, с рассечённым ленточкой лбом, с вечным подскоком – и ридикюль, фаршированный шестипалыми золотыми купюрами Осени...
И медноголовый кавалер Дятел, стук-постук, срезанный, как его бульварный кумир – постаментом, он же – принц Соловей с адамовым яблочком вставших в горле песен, и Перепел – и тот, и этот... ни тот, ни этот – с подругой: карусельная пристяжная – в песнях, в яблоках, в картофельных лепешках щёк на ёлочном серебре, в вечном уличном загуле – с нами, рвущая его вперёд вакханка и швыряющая – в волну времени!
И шествующие под балдахином альбома крендельные танцовщицы, ведущие на верёвочке львов с навьюченной пламенем головой – с головой, брошенной в пламя...
И длинный фокусник со взмывшим в небо лицом, отлучённый в солнечный редингот, с трепетуньей-жабой в грудном кармане, облачённой в зелёный рахит-букле – с нами!
И полусъеденный як, доверявший фотографам горбушку спины – прячущийся в фас в песке веснушек, в золотых пчёлках, в эту борть – подбирающий рассыпчатое печенье лаковых открыточек, вариант: опыляющий... подстилающий соломкой вздохи – не последний.
А за ним – высоко взлетевшая над битым башмаком старуха в одышке, в сосульках немецких глаголов – с нами! В порочное сердце веселящей толпы, срывающей розы с бульвара – с бульваром!
Вы, конечно, не видали здесь ученицы в очках? – и приставив к Магде каолиновое ухо: я заплетаю её корзиночкой – для прилёта цветов и плодов!..
И рассеченная барышня: – Я, конечно, тоже плету из улиц корзины. Для прилёта сыночка. И тоже – вечно ищу... Тс-с! Все нити заговора сходятся в одной точке! Канители, бусы, мониста...
А не я ли, барышня, розмаринчик, тот завидный сын, кого ты ищешь? – вдруг горчичное око на чёрной дыре оси, накатившее из-под гнилой надстройки шляпы, плавающий шлюп под тинным бортом, или не слыхали? Великий усыновил нас, его современников – веселитесь!..
Но я вовсе её не ищу, – сквозь немецкую сосульку под языком: мы условились встречаться во сне – к чему тратиться на паузы в путешествиях дважды... в часы для добавочных маршрутов. Заверяю штампом Плутарха: И сейчас показывают источник, возле которого Александр в сновидении гонялся за сатиром.А я показываю площадь, где мы с ней гуляли нынче под утро – и она ещё не остыла... – площадь накануне моря, обрастающая схолиями всё новых охотников.
Что, что происходит? Стрельба из пушек, иллюминации, фейерверки? Здесь гуляют маковые красотки и гарцуют на верблюдах и яках такие летучие амазонки-шляпки!.. У нас составился заговор, имеющий блестящий сюжет! Не жмите мне на ногу – вычлените опору из общего дела... Ха, блестящий заговор, что существует – сюжет! И куда вы спешите с ним на руках?
Значит, чью-то физиономию обкорнала сорока, чьи-то радужные медали – с его профилем, раз не видите – кто впереди! Могли догадаться – мы идём брать Париж! Почему бы нам не взять его без единого выстрела?
О, это шествие – китайская стена глупости!..
Так у вас ксантопсия – вы все видите в жёлтом свете...
Но к чему вам – этот сборчатый, завитый, весенний Париж? Этот фривольный, напудренный солнцем... Слушайте сюда – о великом любителе прихватить знаменитые города – молниеносно, как в зеркале: одним орлиным профилем! Так он тоже назначил свою клептоманию бессмертным сюжетом – и сразил этой шуткой тысячи...
Пока не попался ему городок на помочах высохших водостоков, полыхающий жёлтыми, как египет, глазами – там проживали исключительно петухи, не расклюнувшие его тонкой шутки... и не сразишь ни сорок, ни дорог: времена петухов, и в воздухе – драные перья их наседки-Осени... да, оставили его с петушьим носом...
Так потому мы и идем брать Париж! А ваше излишество чем скорей ускользнет...
Император старше меня на 184 карусельных круга, арендованных прогрессистами – для официального торжества... Впрочем, Карусельщик, для кого дневной сбор кругов... дневное развеяние... возможно, гиппарх лишь час назад простился с императором в егерском гвардейском мундире, с почётной протокой ленты, – разорвавшим заезженный сюжет и поднявшимся – над черновиком сего подсолнечного выпаса... а в полдень очередной виток сюжета уже подхватываю я.
«Император – так и сказано – тебе одному, ничтожнейшему из его подданных, жалкой, прячущейся перед императорским солнечным ликом в бесконечной дали тени, именно тебе со своего смертного одра направил послание», – так и сказано мне Кафкой.
Все назначенные на мое имя и на это лето известия об императоре подбрасывались в главную городскую библиотеку – плывущую на всех витражах, надутых над длинными взлетами лестниц, пока четыре зала на квадриге этажей настигают – друг друга, день, собственный исход? – странствуя, как часы... крутясь – между всесторонним, как геометрия, светом – и потусторонним хранилищем, посаженным на вестфальское королевство, о-оо – на ось! – осенённым тайнами! – впрочем, отпускающим их на сторону, заложив в печатные сэндвичи... напружинив отчёркнутые от зал бреши – фюзеляжами этажей в крикливом оперении блудящих сюжетов, и сквозя из чёрных брешей строк – пламенем... и сшивая распахнутые в пламя страницы – чёрной строчкой...
Но мое промежуточное положение в зале, настигающем зелёными луковыми стрелами окон – запад, юг и прочие неожиданности... или – слюдяные двустворчатые мотыльки, разлетевшиеся на бьющий свет? – шаткость моей позиции вынуждает меня ухватиться за противоположное площадное зло – скрытное книжное пространство: хранилище, крепость! – и наплывающий оттуда перезвон чайных приборов... или – такой же камуфляж, что и ветер страниц в переходе зала – сквозь налет мотыльков – к наглядно-реальным пособиям: развесистым бронхам деревьев... бельведерам застеклённых облачком черепов – и прочим конькам... шпицам, левреткам... финалам и завершениям, озвученным творящейся в них волынкой?
Для полного извлечения уложений я разгрызаю сэндвичи – непременно – у окна с синим фитилем в многожильных, красных, базарных ладонях, выперших из балахона горшка...
На входе в библиотеку меня метили контрольной карточкой, износившей свою независимость – наизнанку... на изнанке – до лоскутьев некоей настоящей карты, до моря безотносительных подробностей, и как ни просеивай латинские имена – местность ускользает! И голубые плети, рассекшие ей телеса за привязанность к морю – или к отцу его Океану, и горы драных лисьих хребтов у ней на плечах, и мерцающая под ними нищенская штопка железных дорог... И наступающие, как ночь, города, укрывшие жизнь во тьму моего невежества... и полезно-ископаемая выморочная морковь – как вымпел на пепелищах великих армий, побитых пробелами моего знания... да, день за днём, карта за картой – я бью всю страну!
Но – варианты: сначала – война, война! – набрасываюсь на известия, отвоёвывая у них преувеличенный плац, значительно ими преуменьшенный, и лишь в тоске, что больше не отскребёшь, принимаюсь за карту – но уже попала в область пустот...
Или: ускользает – непобедимой, как глупость, занесённой переносными именами, засвеченной зияющими метафорами, не имеющими почвы... тьфу, карта!
Суть – в раздирающей замкнутости пространства, замкнувшего – императора, и хотя – со вкусом размазано на пропасть земель и времён, откуда и докрикиваются до меня персонажи, но – пред страной, нарастающей с каждой контрольной карточкой, и особенно бесконтрольно – между... одно утешение – в спёртом избранничестве между светом и тьмой, как между этой и той сторонами – зеркало, или – в матроске стволов – терраса, сияя параллелями дней – из транспаранта с определяющей линией ночи... как сад, разрастающийся – в будущее и прошлое: в глубь страницы, оставив настоящее – за чугунной строкой, сейчас и здесь обернувшийся – флорой речей...
В общем, мои адресанты, выписывающие всё новые геркулесовы столбцы, не расширяют пространностью – обетованных пространств, но запираются – на уже бывшем... ни разу не сбившись!
И чем больше я получаю известий, тем они – меньше... тем мельче в правдоподобиях, будто к мясу император предпочитает бобы или чечевицу (как бобовый король и гороховый шут), его повинная обыденщина – шамбертен... и вечный кофе... что колёсный апартамент «Из России во Францию» – околев на зимнем склоне дня в пунцовом околыше... навертев такие вьюки сугробов, навьючив такие вьюги...
Но из мелкой станции вытянулся ящик на полозьях, в каковой императору не удалось привнести ни несессера – только шубы и револьверы, саблю – и ту под полой... усидеть же в сем мизере – немыслимо, как босяку на троне, – так освистан, что император, заложив свою южную натуру – за медвежью полость, за сапог на меху, пробует на зуб марши, и на императора набрасывается половина маркиза: шуба, половина коей – подельщик-маркиз – всю дорогу сметает с сидений снег – не оказаться б сидящими в луже!
Ящик, полоз, змея, съевшая полководца, съевшего великую армию – ибо: ne quid nimis – так что и корабли уже сожжены... Верней, потоплены несколькими годами прежде, а сожжены города! – императорская прибавка ледяного смеха – к обледеневшему от дыхания потолку, сжечь дома, чтоб не дать нам разок переночевать... керосинки! Вы, надеюсь, разборчивы, маркиз? В записях? Никому не приходилось так долго находиться с глазу на глаз со своим государем. Это путешествие будет историческим воспоминанием в вашей семье.В семье народов, к каковой вы принадлежите.
Огонь – если ваши надежды зовутся Зима? И похоже, у вас сколотилась армия? Эта драчунья... эти дьяволы-казачки, самовары, вскипающие на шишках и тумаках... и – жечь?! Наскрести больше зла, чем сможете унести от расщедрившегося колосса, неприятеля яви... à propos: не забудьте меня – с полными слёз глазами!
Но не компрометирую ли я императора, рассучая вокруг – хвосты мелочи? Мелкие, как ящик, беседы во Французском посольстве – в мимолётной Варшаве – между ящиковым маркизом и послом... цитирую:
Наша армия удостоена Вечности! Отныне – пометьте – синонимы!.. О да, речи герцога Бассано выкованы из одних побед!.. Мы и разбили русских во всех сражениях! Даже напоследок – перешагивая Березину, уже из любви к искусству... тысяча шестьсот пленных! Да я сам их пересчитал!.. Вы слишком сдержанны, герцог Бассано не сдержал сей цифры до шести тысяч... Пустите на волю число, экий пифагореец, чтоб вас пиф-паф! С собой-то ни тех и ни этих не уведёшь... А велики ли м-мм... наши потери?.. Безмерны! Таковы, чтобы быть достойными великого вдохновителя этой войны!
И пока император вычитывает... отчитывает лахудру Зиму, явившуюся к маскераду его очей – овечкой в золотом руне Осени, и от льдов – уже в собственной гортани... о-о! – пошаливая с лексиконом и глубже ускользая в мех, – я сгораю от зависти к главным участникам представления – к зрителям, без которых – всё прах... герой – свидетель! И избираю ведущую роль с точки зрения не толпы, но – героя, кто, в сущности – как в нынешнем маскераде Зимы император – секретари своего секретаря. Я – героический зритель, ибо ратные подвиги... и вообще рыси...
Путешествовать – как император, углубившийся в горностаев и в прочих недопёсков – инкогнито, не слишком вдаваясь во внешний мир – из собственных мыслей... незначительным барельефом. Но по ту сторону пребывая – императором!
И если, встретив иных знакомых, я забываю приветствия и ни в чём не иду им навстречу – право, не потому что... Но – лицемерным именем Сцены – зрителя нет!И отправляю – лишь мои чувства, не смея связывать чью-то выходку... выход – и мой полёт, подчёркнутый императорским театральным креслом, напрочь упуская из вида – свой барельеф... из чужого вида... выпирающий если не с той же приятностью, возможно – с близкой достоверностью?








