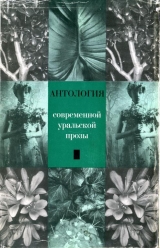
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
(Н. Г.,1992 г.)
– На выпускном Капа вдруг говорит Бобу: «Видела на днях Лариску с Димочкой – он вылитый ты!» Боб голову повесил, а Капа захохотала: «В суп?» Она любила напоминать, что Боб похож на петуха, пойманного хозяином для супа. Сидит петушок в корзинке и голову повесил: в суп. А кругом солнышко, курочки, он встряхнулся, закукарекал, но вспомнил: в суп... Хозяин, ловивший Боба в суп, оказывался то Лариской, то КГБ, то Евкой, но каждый раз Боб встряхнётся: солнышко, курочки... закукарекает...
(Сон-Обломов, 1992 г.)
– Ну и зачем она его раздразнила? Римма говорила речь, и сразу после её последних слов: «Будьте в первую очередь хорошими людьми!» – Боб вскочил:
– Тут все преподаватели говорили, что мы самые-самые, а вот на будущий год на выпускном они то же самое и другим выпускникам... И я призываю вас, друзья мои, не верить всем этим словам наших старших товарищей...
Что тут началось: кто-то утверждал, что какой палец на руке ни обрежь – все родные, все жаль... Кто-то громко заметил Бобу, что так и не облагородила его филология...
– Идите вы со своей хренологией знаете куда!..
– Чисто русская картина: папироса в салате, – сказал Бобу спокойно муж Риммы, и началось прежнее веселье...
(Грёзка, 1992 г.)
– А зря мы Римме верили: она нас всех предала и свои идеи предала! Потом говорила, что Солженицын всех их подвёл. Да кто она такая, чтоб Солженицын её подводил...
(Царёв, 1992 г.)
– Но храм разрушенный – всё храм, но Бог поверженный – всё Бог... Кстати, где она была во время путча? В отпуске? Вот и хорошо. Я так бы не хотела, чтоб Римме пришлось ещё раз себя скомпрометировать. Жизнь столько раз её испытывала.
– Нет, жизнь подсовывала ей случаи возвысить себя устойчивостью.
– Ну, раз она выстояла, два, а потом сломалась... А жизнь всё нагло подсовывает и подсовывает ей случаи.
– Просто жизнь оптимистичнее нас: она всё верит, что человек станет лучше...
(Разговор после победы над путчистами)
– Царёв женился, когда борьбу со вторым подбородком он уже проиграл. Но зато тут же объявил войну третьему подбородку. Его невеста Флюра была копия Гали Гринблат, только отличалась от неё, как негатив отличается от фотографии. Впрочем, возможно, белый цвет волос был это... от краски. Боб пришел простуженный, а Флюра интимно положила ему руку на мочевыводящие пути:
– Ингаляцию нужно: соду, кипяток...
– А ингаляцию из дыхания юных дев? – привычно завёлся Боб.
– Игорь не приехал, он вчера защитился, – завистливо сообщал всем гостям Царёв.
– От чего защитился?
– От жизни. Щитом таким. В виде кандидатской...
Я для чего это рассказываю? Жена Царёва, не Пенелопа, так сказать, в коридоре шепчет Бобу потом: «Мы с тобой Евке изменим так годика через два?» А он ей: «Это моя мечта, но... Царёв – мой друг, дружбе-то я не могу изменить!» Потом, когда Флюра ко мне свои губы протянула с тем же предложением измены, я уж урок Боба получил, повторил...
(Сон-Обломов, 1980 г.)
– Заметил, с каким удовольствием Сон-Обломов говорит о втором подбородке Царева? Эх...
(Капа, 1980 г.)
«На втором курсе в Новый год, помню, гадали: бумажки скрученные – все о наших детях. И Царев из шапки вытянул: «Твой сын будет похож на соседа!» Точно ведь будет? Вчера Флюра сказала моему мужу: мол, через годик-другой мы с тобой Дунечке изменим, а? И мой Пьер так по-анатолькурагински браво: «Почему через год, а не завтра? Но Царёв – мой друг, как нам быть? Я должен беречь его честь!»
(Из дневника Дунечки, 1979 г.)
«Человек попадает после женитьбы либо в объятия, либо в руки, так вот Боб попал в руки...»
(Из письма Капы Четверпалне, 1975 г.)
– Самое сильное впечатление на меня произвело то, из-за чего Капа развелась с Трахтингерцем! Он защитился рано, и его в деканы прочили. А он не хотел. Так Капа расскандалила с ним:
– Я бы могла всех держать в страхе, как некогда наша деканша! А он, негодяй, не хочет быть деканом!
(Н. Г., 1992 г.)
– Выходи, Люська, замуж, мы тебе проигрыватель подарим! Там две части: одна мужская – которая крутит, другая женская, которая воспроизводит... Я буду вручать одну часть тебе, другую – мужу, – говорил Боб.
– А я уже его любила. Меня Бог наказал за то, что я Капе помогала оженить бедного...
(Грёзка, 1980 г.)
– После Сон-Обломов волок пьяного Боба домой. Они шли под бормотание Боба: «Вы знаете, что такое СПД? Нет, вы не знаете, что такое СПД! СПД не имеет никакого отношения к КПД...» Тут он роскошно падал в снег, продолжая: «КПД – это коэффициент полезного действия, а СПД – это стихи о Прекрасной даме, сокращение в академическом издании Блока. Игорь принимал там участие...» Показалась милицейская машина. Сон-Обломов решил сделать вид, что Боб лежащий – это чемодан, а Сон-Обломов в нем роется, ищет сигареты... Машина приостановилась, но поехала дальше... Возле дома Капы Боб упал на занесённую скамейку и вдруг говорит: мол, когда-то на этом месте он сделал Капе предложенье, а потом не повторил его...
– Зачем! Зачем ты это сделал, Боб? – заплакал пьяными слезами Сон-Обломов.
– А, хотелось её сломать, очень уж она была сильная. А сильные люди ведь опасны... Вот посмотри: коммунисты были сильными людьми, а что они сделали...
(Н. Г., 1992 г.)
– Царёв мне тоже говорил: не пей, Грёзка, замуж выходи! Я, мол, тебе сделаю самый ценный подарок: верну томик Кафки, который у тебя взял на четвёртом курсе, помнишь?
(Грёзка, 1992 г.)
– Ваши мальчики не готовы были платить во время процесса, а теперь, в 1992 году, они, видите ли, готовы получить денежки, награду? Слышали? Туристический маршрут хотят сделать по зоне № 53! Где я страдал и горлом кровь хлебал, то есть она шла, а я её обратно глотал, чтоб сильно не пачкать всё... Ты что – газет не читаешь? Уже повсюду в Москве об этом пишут. Нью-Васюки, понимаешь? Валюту они грести будут лопатой... Да-да, Царёв и Боб...
(Рома Ведунов, 1992 г.)
– Когда я вижу во сне детство, вместо мамы – Римма почему-то... С точки зрения фрейдизма это что значит?
(Грёзка, 1980 г.)
– Мы страдаем беспамятством... (у Царева даже появились на лице мышцы, которые могут изображать искренность!) Эту зону нужно сохранить для потомства, а на какие деньги её сохранить? Вот на деньги от туризма...
(Царёв, 1992 г.)
– Вдруг письмо от Игоря: мол, Люд, я тут совершенно случайно делал книгу видному онкологу, он во всём мире котируется. Сама знаешь, в каком мире мы живем, на всякий случай я напишу тебе адрес и номер телефона... А я вообще от рака никогда не умру. Да выключите вы этого Неврозова! Опять он про морги... За что выпьем? За капитализм, за то, что дожили, могли б и не дожить, если б не Горбачёв... Социализм но пассаран!.. Мне пора вообще бросать это дело...
– Мы тебя на раскладушку в кладовке положим, Грёзка...
– Вы уже многим это обещали – у вас там сколько лежит? Может, с прошлого праздника ещё кто-то есть уже фосфоресцирующий, руку протягивает – обнять новичка... Раньше в моргах были колокольчики – если кто оживал, мог позвонить.
– Но большей частью шутили сами покойники. А то и руки, закинутые в банки с формалином. Сторож прибежит: видит – круги расходятся. Он в бешенстве хватает провинившуюся руку – и вон её из банки!..
(1 мая 1992 года, у Грёзки на щеке уже царапины, словно кто-то уже начал приватизацию пространства, начал его делить на участки, но на полпути бросил.)
– Слушайте, но ведь вся редакция знала, что Боб женился на Евке, потому что её отец – полковник КГБ в отставке! Он учил Боба отвечать на процессе «не», «нет», «не читал», «не знаю». А что делать, если покраснеешь? Это в протокол не заносится. Он обещал поговорить одновременно в КГБ с бывшими коллегами – как не помочь будущему родственнику, повторял он при этом.
(Посторонняя, 1992 г.)
– Ну да, это нам Горбачёв сказал, что есть общечеловеческие ценности и семья не менее ценна, чем государство! А в КГБ это и тогда знали, но держали в секрете!
(Н. Г, 1992 г.)
– Евку я недавно встретил. Спрашиваю: ты всё ещё демонстрируешь моды? Нельзя ли туда мою племянницу устроить? Нет, отвечает, мне уж теперь разве что слуховые аппараты демонстрировать!
(Сон-Обломов)
– Значит, Капа тут ни при чём? Боб сам женился? Из-за КГБ... Ну, ребята, спасибо! Сняли грех с моей души... Он ведь никого не заложил... разве что свою душу, это дело личное. Почти подвиг... по тем временам. Нет, Боб – великий человек...
(Грёзка, 1992 г.)
– У Риммы Викторовны был юбилей – 70 лет, кстати. Она показала тот сборник со статьей о Солже – мол, кое-что мы тогда правильно, значит, делали. Ну, я выступала с восторженной речью, от которой все в зале никли и никли. Потом оказалось, что я 18 раз назвала Римму Викторовну Риммой Николаевной. Просто у дочери учительницу зовут Римма Николаевна... правда... я не виновата...
(Н. Г.)
– Вот статья Флюры о сочувствии к малоимущим. Бред нашей жизни продолжается. Есть ей дело до малоимущих, как ты думаешь?
(Дунечка, 1992 г.)
– На презентации Лариску видел. Она меня узнала, подошла, я ей наливаю бокал вина. Раз! – получаю по физиономии! Она, кажется, в феминистки записалась, они во всём видят оскорбление женщины. Но я совершенно... я был рад её встретить...
(Царёв, 1992 г.)
Дети! Философы! Помогите мне!
«ДОРОГАЯ, ТЫ БУДЕШЬ СМЕЯТЬСЯ НО ПОЖАТЬ КОПЫТА МЕДНОМУ ВСАДНИКУ ЕДЕТ НАШ СЫН С ДРУГОМ-ФАНТАСТОМ БРИТЫЕ ТРЕЗВЫЕ ХОЛОСТЫЕ»
Телеграмма должна быть в стиле дружеской попойки, а у меня выходит в стиле «чей там голос из помойки». Спазм мирового общения прямо. Ма, говорит сын, бритый, трезвый, холостой, не обобщай, вон в кабинке междугородной Царёв – общается же он! Но Царёв выходит – лицо его растеклось резиново от обиды. До «Апреля» не может дозвониться! Я и говорю: спазм мирового общения. Ма, так сейчас май, конечно, до апреля уже не дозвониться, комментирует сын – он карнавален в духе своего времени, а мне нужно – в духе шестидесятых...
На телеграфе всюду валяются мёртвые мыши. Надо ли объяснять, что прошумела кампания с вёдрами и криками: «Дезинфекция – мать порядка»?
Вот у Бунина в одном рассказе пчёлы... Надо ли описывать, почему у кота сейчас здесь лицо человека, потерявшего смысл жизни?
Недавно включили телевизор: Четверпална! «Господа, как вы думаете, почему цензура могла запретить «Бориса Годунова» на Таганке?» Ученикам, значит, в школе, выходит, она такие вопросики... А сын наш сразу: в Питере, получается, есть у кого остановиться!
– Представляешь: замочил в «Био» рубашку, и пятно исчезло! – сообщает муж.
– Вот так и наша жизнь, – заныла я.
– Пришла юность и куда-то делась, – издевается он.
– Куда? (В самом деле, журнал «Юность» он ищет, оказывается.)
Ма, твердит сын, пойдем дадим телеграмму в Питер! Пойдем, сын, но карнавального во мне на самом донышке, не похвалит меня она за такую унылость...
И через день уже из Питера телеграмма: «СРОЧНО! ПОЗВОНИ НОМЕР...» Что-то с сыном? В комнатных тапочках я ринулась на почту, муж с девочками следом появились – благо почта рядом. Деньги-то я не взяла? И дочери суют мне свои бумажки: «700 рублей. Точно! Не больше и не меньше». Наконец дали Питер: Четверпална, что случилось?
– А я тебя хотела спросить: что за телеграмма? Трезвые – значит, не угощать их? А холостые – познакомить с девушками из семей?
– Ни боже мой!
– А что?
– Элементарно, Ватсон. Телеграмма в духе эпохи... дань эпохе.
– Эпоха сейчас какая – все практичны, и я подумала: «У неё есть ближние и дальние цели».
Римма Викторовна, милая, родная! Вы нам всегда говорили: не доверяйте отличникам! Вот и Четверпална была почти отличницей...
– ...часами лежу на иголках иппликатора Кузнецова! Да ты меня слышишь?
– Слышу, конечно. Мы тебя по ящику видели.
– Ну, ты заметила?
– Что?
– Как это что? Ты даешь...
Опять спазм мирового общения? Дочери с отцом играют в «живое – неживое», никакого у них спазма. «А Кощей Бессмертный – живой?» «Папа, так нечестно – задавать трудные вопросы!»
– Четверпална, так нечестно – задавать трудные вопросы! У нас питерская программа не очень уж чётко...
– Я ж родинку свела!
Она свела родинку с кончика носа, но в моём-то сознании эта родинка осталась навеки – её уже не выведешь ничем. О чём она?.. Что прислать? Вот что: сигарет!
– Курить становится не по карману – надо бросать!
– Четверпална, но и жить не по карману – тоже бросать? А похороны, знаешь, какие дорогие...
– Если серьезно оголодаете, ты мне пиши... звони...
– Ладно, если голос пропадет, ослабну так, то буду ногтем царапать мембрану – ты поймёшь?
– Хорошо. С кем встречаетесь – с Бобом?
– Скорее не встречаюсь. В последний раз я с ним не встретилась на панихиде по Сахарову.
– Он не пришёл? Узнаю Боба.
– Я не пришла. Холод-то был какой, а у меня пальто проношено...
Если б Римма Викторовна не уверяла нас, что Наташа Ростова не опустилась в конце – она возвысилась до ПОНИМАНИЯ Пьера, декабристов, – разве б я дошла до проношенного пальто? Да я б разбилась, сшила своими руками, как делала это в юности, с помощью Евки, правда, зато у Боба был повод гулять с ней по магазинам в поисках лисьего воротника для моего пальто. Воротник Боб так и не купил, но искал же...
– Ну какая пермская самая яркая новость? Скажи!
– Грёзка вот легла лечиться от алкоголизма...
– Ладно, я тебе напишу! Держись!
Номер московский у меня есть – Игоря? Раз уж я здесь, на телеграфе. Номер можно вспомнить, как говорит муж, телефон для дебилов: сплошные девятки... Алло, можно Игоря? – А он уехал. – Надолго? – Навсегда. – Что-о, на кладбище? – Нет, в Израиль... пи-пи-пи...
Кажется, он по матери еврей, наш Игорь, но мы же не думали на эти темы никогда... Точно, ещё говорил, что из Подмосковья трудно евреям в вуз пробиться, вот он и поехал в Пермь...
Сын из Питера привёз письмо от Четверпалны: «Боба я однажды встретила на Невском, он бывает здесь по делам фирмы. Как назло, я только что купила мороженое в стаканчике – оно таяло. Есть при нём я не могла. А когда мороженое растаяло, мне необходимо было – значит – искать урну... Вот и мало поговорили. Так, одни междометия. В основном стояли и обменивались с ним биополями – со скоростью таяния снега...»
– Антон, как сына Четверпалны зовут? – кричу я сыну.
– Могла бы не спрашивать... Борис... На первом курсе консервы...
– Чего?
– Консерватории.
Дети! Философы! Помогите мне! (Жди – помогут, сказала бы Грёзка.) Какой же выход из всего этого? Дети смотрят мультфильмы про пчелу Майю. «Прощай, маленькая личинка!» – говорит кто-то там. Прощай, наше личиночное состояние! Всё не так уж плохо! Коммунистическая идеология, начиная от Чернышевского и кончая нашими днями, родила не только Рахметова, но и вот – иппликатор Кузнецова! Он не мог бы появиться, не будь Рахметова с его привычкой спать на гвоздях! На иголках иппликатора Кузнецова часами лежат бывшие комсомольские лидеры, но никто не запрещает не бывшим тоже лечиться... Всё не так уж плохо. Грёзка вылечится от алкоголизма... Дети наши вырастут. Только вот на улицах совсем нет беременных женщин, а так бы всё не совсем плохо...
(Н. Г.)
1993
КОКОШКО Юлия Михайловна
1953
Военный базар с исчезающим полководцем
Вариации
Его прекрасное лицо, измождённое и бледное, напоминало бессмертного Бонапарта. Волнение охватило всё мое существо, ибо я обожаю Наполеона I.
Сара Бернар. «Моя двойная жизнь».
Коринна чем-то походила на Тассо...
Жермена де Сталь. «Коринна».
Император, вполне доверявший мне в этот период, велел мне прочесть ему его корреспонденцию. Мы начали с дешифрованных писем иностранных послов в Париже; они мало интересовали его, потому что все земные новости сосредоточивались вокруг него.
Ш.-М. Талейран. Мемуары.
Свидетельствуют, что в вечной уличной лотерее весна распространяет пропасть зелёных билетов – и пропасть беспроигрышная, и по осени окажется золотой... если не жёлтым билетом... И мои эпитеты тоже стремятся – в золотые и вечные: столь щедро аттестуют – все! Мимикрия? Слова или предмета? Но вкравшийся в текст зелёный как атрибут весны необратим – и золотым посулам девичества неверен и весьма переменчив. Особенно – вечнозелёный, как золотая молодёжь. И всё равно, чья неверность (зелень) реалистичней и гуще: весны? Войны? Или тоски, что застопорила мне вход в тетрадь – ударной стопой Музы: куда вы? Во все тяжкие метафоры (тяжкие инверсии инвентаря)! Но лёгкость перевоплощений... хм, уже за холмом? И вещь, посаженная на моё перо – на час, как на кол – отпавший от мира фрукт, засвеченный на базаре мокрой тряпицей – и вся вещая новость... именительный падеж вещи – в братские пирамидки, единственно раскрывшаяся мне механика.
Однако произнесена лотерея...но приканчивать фразы – дешёвые жертвы! И за всеми метафорами (метанием вещи, помётом слов) видится одно – вокруг процветает заговор! И всплески неверности, то есть зелени в окнах – не знаки ли процветания? И уже найден корень – мета... Найдена мета!
Далее – по черновику, с середины – с ускользающей сути, ведь с чего начинается нагромождение слов – не суть...
...войти в заговор, как в стремительно зреющий южный сад – вечнозелёный? – приголубивший ослепительную перспективу моря... на агору заговора, магически превращенного устами-базарищами – в полный базар, в дым сигарных баклажанов в клацающих золотых морковинах, в меты огуречной рюхой – для затравки пряностью, в цапкие-пунцовые перцы-мизинцы, начинающие с бубновой козы – в солнечное сплетение словес: пожалте в мои базаросли, я не знаю, что есть искус, мне есть – мой надкус!
Так разливается заговорщик-Базар – пуншем в пылких посудинах: в сердцах и в рогатых чашах с заткнутыми орехом глазницами-блазницами, выкатив волоокие сливы и стреляющие ушлые вишни, обнажив чудовищную репу – свободой на баррикадах, и вбивая пороховые кувшины промежутков в раздвижную империю – продажная Краснозобая Бестия, сортирующая на плахах потерянные париками персики и гегемонов от бахчи, позеленевших в собственных прутьях... постригшихся в нули и начиняющих распадом разъедающий их мир. А свински пьяные свиные головы во фригийских колпаках плюхнулись в застолья – сонно сквернохрюкать силософские хрюктаты... а над ними заточенные карандашиком ножки, тоже в красных чулочках и на красном каблучке, пишут историю свободы свободным канканом.
Эй, непрозрачный, пышнотелый, запотелый, как капуста в трёхстах серебряных жилетах (как серебряный поэт в трёхстах жилетах), не казним ли кого ещё, чтоб уже не казниться? Так Базар или Заговор?
Дело вкуса, темнит Краснозобый и мерцает абрикосовой половинкой пенсне со скользкой косточкой навыкате, отражая, между прочим, пламя – что отсутствует между прочим отражённым... экие невидные прогнозы... Как же-с без Императора – в потусторонней композиции, куда завёл вас крайний пассеизм? – подмигивает с огоньком Краснозобый. Морт-натюр, Тот Свет – он же базар. Или – заговор, что заговор – базар. Вариант: свободный пересказ базара. Или вам за императора – рядовые формы мёртвой натуры, что катились к совершенству роковой дорожкой стебля, но едва нашарили – и... эти шаромыги? – угрызая персь от персии, как от австрии – итальянским походом... от военной славы пруссии – одной иеной с ауэрштедтом... Наш император, – размахнувшись площадным нещадным солнцем: – Ого-о-онь!.. – второе, что опять бросается в глаза, пока подбрасывает искры йен – во вспыхнувшие там и тут золотые клакерские ухмылки четвертованных тыкв.
Но первым застит взор – Свободой и выпячивает навынос её красные нарезы – потому и краснозобый. Свобода цвета! Свобода слова – и написания, и прочтения! То-то резчик слов и свобод, гражданин краснозобый фрюктидор, так неоднозначен. Или однозначен – но не единственный, у него завелась сестра-Свобода и – как ближняя – очень недалека...
Я не страж сестрице, – режет Краснозобый баранью холку винограда.
Но раз вы, Сир, не сир на свете – вдруг дурная бесконечность выжала из вас по капле историческую нужду? И – с высот искусства Слова – в корзину! И базарные ряды продуктивных синонимов: баранья холка – барахолка – свальный грех... Или: ярмарка – пир – щир – убещур... и мой замысел – синоним тыквенной ухмылки, расплывающейся вширь... на ветер! На сквозной гуляющий сюжет... на прецедент, позволяющий бросить сюжет – в любое время и в любое место...
Тут как тут – война, и сквозь её дымный налет на сад уже не так рассмотреть террасу – и беспредметный сюжет, предметно подхваченный волнами, но – не промахи Марса, а ничто так не исчезает из глаз, как южный город, падкий на прилежание моря, его взволнованные наставления улиц и удвоенные садовые головы, поплывшие по небрежности поплёвывающего прилежащего, переписывающего с временного – на вечное, мир ему скрипторий, мир и пригоршня плодов с голову – голубейшим его садам, вечно подсадным, и наставнику улиц – переводчику времени на высокий штиль моря, голубок-городок неотступней и совершенней – на штильном праздничном языке... да упразднится!
Так сад и терраса... и прочерк перил, подчеркнувших отступление от пролитого света террасы, и там – тень, и об руку с тенью – мадам с лицом темнее бури соломенных волос, а китайские голодранцы-драконы, огнедышащие как шёлковые с её соплодий, ещё темнее происхождением. И плужками пальчиков распахивает пасьянс: расколитесь, атласные, есть ли загробная жизнь? – и наводит сквозь сад прищур на жизнь соседей (вариант сюжета: пир в соседнем саду)... И кого-то бессменно поджидает с войны, под шумок ристалищ запуская – свой дымок.
А за войной проливается – тот свет, но сквозь террасу – в ветвистых трещинах сада, и сквозь обтекаемые длинноты моря... сквозь такое словоблудие Свет Тот точно не высмотришь.
Просмотреть бы и ту светлейшую улицу-ветреницу, сбить, как башмаки, сносить несносную – выпростала столетние наглядности, растянулась вендеттой: солнце за солнце! – рокадой вдоль фронтального стихосложения этажей с типажами... там, в последней стопе нижней строчки, притаилась ударная старуха-немка, высочайшая Магда Альбертовна, вожатая форточки. И выменивает поутру, по свету, по имени унаследовавшие её драгоценнности – немые-немецкие имена и глаголы... и нащёлкивает соловьем упражнения-упразднения... И мена – на имена – старая, как нагоняй, и костлявая – голенастый стол, нагоняй-ка меня, ку-ку! – хоть сметаемый ветром – да вечно накрытый.
И юная фрейляйн – в рогатках уличных курсантов: отглагольная-именная внучка, в чьей соломенной, расплетающейся на плечи корзине – на донышке, ах... второгодница – проливной плетень, слалом зашибающихся ошибок между красными тетрадными колышками, учительствующими в гусиные клювы, в лопнувшие перцы – сушит скошенные ливнем глазки: тот – на Рейне, этот – на ревене, сводит их к миру выигранными в войну очками, загоняет взашей в подбитый портфель – второгодники-учебники, веснушчатые кляксой, и свою обрусевшую драгоценность: мыльницу-лягушку – ворону, каркнувшую на асфальт золотые ломтики осени и анютин глаз, пересохший от жажды зрелищ, с воспалившимся зрачком... портфельчик, слетевший с ума – сума, и – посошок, кустарный огрызок: сейчас же верните мою волшебную палочку! – магический жезл, кустарный.
Эй, проходящие непроходимую улицу, не задерживать экспедиции! Пропустить кляйне-дурочку – из отечества, выложившего дорожку – пряником, сахарной бабушкиной Сибирью, и отечески высматривает – парой глаз адмиралов Абукира и Трафальгара: прощай, там-та-там, мой зачёркнутый флот... пешком – по водам! – и собрав в дорогу мыльницу и зацветший посох – нам на бис: мы спешим за великим героем – в середину жизни! Ослов и учёных – в середину...У отечества уменьшаются башенки – в наши зубчики, м-м, хоть облизнуть лягушку-путешественницу!
А не прослышит повышенная гросс-муттер, нагоняйка Магда Альбертовна, когда вечер зашнурует её в одышку, в затянутый поиск внучки? Ау, нам пора ужинать, мы сидим за крах... ах... мальной меной на три наших прошлых: плюсквам... и плюс к ним – будущие, наш стол очень глубок! – барабаня по рокаде битым башмаком, пронося над нами заглохшую голову, реющую – на снежных косматых крыльях, выдувающую бутыли горних далей меж тромбозно трубящими пеанами этажей...
Да читай на её лотерейном челе: аллегри,будьте веселы! Сто лет ей не догадаться, что мы и не унываем, слизывая с улиц целые экспедиции – за лягушку на палочке! – как вышныривают в дыру меж поводырями-ослами – с запасными глазами-сизоворонками в мыльницах, с патрицами сыпных листьев – тиснуть фамильную осень в козлищах ошибок: в пропущенных ливнях и удвоенных гелиосах и фебах... Или лакомки-котомки уже отужинали, вычерпали стол – до завтрака? И опять накрывают – своим невозвратным залогом и вечным предлогом – служеньем жить в новые пределы... улепётывают от ползущей секвенции-времени, машут машуками салфеток с орлиными крыльями, ловят веслами ложек горелый горох прощальных салютов...
Но пока у Магды Альбертовны нет (es gibt nicht) внучки, эту временность и непрочность заменяем синонимом: Южный Город, где снежные головы тают – в соломенные, как прижимистое на молодость лето – в прижимистую на молодость лета жимолость... как крестный ход – в долгополую огородную стражу. Словом – соломенная мадам, белокурая Магда, несущая крест – в драконском наряде, в саду, он скрипично фальшивит на сотни проросших смычков, и теневые их двойники с разветвлённым жалом заползают в террариум, как в террасу, и в прилежащее море за предстоящим садом, добавляющее – соль...
И кто-то ожидаем Магдой... папиросная пауза, пока наставляет Магду рогами – с ловчей шалавой-Войной, раскатившей, как Краснозобый, стреляющие, перезрячие вишенки... как глазастый Ангел – сверкающие-всенастигающие... пока браво выскакивает – в герои (Войны, Магды...), чтоб представиться к медальону.
И Магда – пред военным переворотом пасьянса: воцарившиеся под львиные гривы весны воинственная молодость, зелень, вероломство – рвались разлистать эквилибристку: то Весна, то Война! – в табак... новые Мидасы, что защупали бойкую стреляную Весну – и превратили в Осень... осенённые вдовушкой Клио тузы, проигравшиеся от усов и мундиров – до рубашки, до ангелов, порхнувших с добычей – из грудной клети лифта, как из пищали, и остались – в одной бессчётной, жёлтозубой, неплатёжеспособной медали. Ныне – плоские пилигримы из карточного дома-альбома, растворенного настежь, как даль... Уж на то мы и Мидасы – озолотившие этот дольчатый из миров... Впрочем, растворившиеся страницы с венчанными на альбом насупленниками ещё подойдут под мой непрозрачный текст: под мои ауспиции – как под Аустерлиц...
Но – Магда, что меняла одышку на папиросы – и торопит тонкошеий, бодливый сад к ограде, где – доннер-веттер! – ветер, протянувшийся за весной зелёный шлейф – не красотка Война ли вдруг сейчас и прошлась по адресу Магды... сверкнула сходством – меж Весной и текущей Летой... меж учёными и ослами... И услышав: скатертью дорога! – расстелилась дорожкой-самобранкой – от садов со скуластым румяным плодом – до недописанных листьев, до чернолесья версификаций – всей полнокровной подробностью... Не привиделся ли Магде в её витой свите – за раздутой шумихой сада над барахолкой Яви, подвирающей натурализмом, набивающей золотыми кольцами чёрные чулки деревьев... за морем, расхристанным и залатанным облаками... да, из моря или из облаков – кто-то, вечно кем-нибудь ожидаем? Разминулись – или разменялись – на маскерады, на подхваченное из чьих-то ручек и надетое набекрень возлюбленное лицо, свежевыбеленное мелкими – от мела? – и пачкающими надеждами, и в накате из поцелуев?..
И в последних числах деревьев, в разбежавшихся отпрысках сада Магда – на агоре, сто почтении на ветер!.. – спешно упечь передравшуюся у ней на плечах драконью нечисть – в мантильи, и к чёрту с ноги – падучие... туфли, ко мне! – два копытца или набросим оптом? – привязчивые слагаемые, слагающие – призрак... наседающие на вольность тела – длиннорукавой, мышьячной Святой Еленой или иной наседкой... чтоб сальдировали на взморье, как армии, штуки шагов... шпалы волн... и подрост ступеней...
Тут – высокое, как яблоня, садовое видение кошки в шесть крыл пера хаки... в дюжины чернокостных ветвей: воспарившая на монгольфьере-ранете кошка магнетизирует Магду незабудковым глазом. У соседей кошек, как у Магды туфель – пара, правый – кот Шаровая Молния, так вышаривает орбиты, а левая пария столуется у крыльца и влачит прыть снаружи. Я подозреваю, – Магда, рассеянно, – соседская фрау так вербует для рыжего голубоглазку Кис, как заботливые мамаши – распушенную вербочкой, примой, прислугу – не гулять бы недорослям к публичным девкам. Но пользуясь случаем, Кис когтит и шерстит устои густой двусмысленностью, фрейляйн фраппирует историческим переходом сиамских пашей – через местных зевак, нагревших чернь – на хвост и уши, площадь шкуры Кис переменна – то растянется арктикой, то даст рыжего петуха. Паршивка – то в одном выходном, то в другом. Или созерцателя шатает из стороны в сторону света, но везде он – временно. Или Кис и здесь и там – одновременно.
Но, конечно, охотники выместят на мне местность: что за отечество предано мною войне, кто назвал незваную, каким именем? Не её ли именем – Магде... и размашисто раздраконят из нарядов, разрядят стволы, соломенной голове – мягко падать... именно: немке? – болтаться в безнаказанных, в крылатых садовых деревьях, в их тщетных порывах – улететь от моря? – если и охотники, в верных именах, как в стременах – против тех, чьи души чисты, как случайность... Кто отпустит ввязавшему перелётный, переплётный дух – червоточиной – в нашу обетованную охоту с выжженной вечно правой грудью, да попутавшему наспех – доспех: с этой стороны – золотыми рогами, с той – медными ногами, ну и переплёт для инфантерии тела! И – на террасе, охваченной то ли садом, то ли – пасьянсом с небесной жизнью: в охотку поджидать – кого? Не оказаться б войне поджигательней поджидающего!
Но в калидоне ожидания – не Магда, а Кто-то – их превосходительство Субъект Действия... юный, впалый субъект, двадцати четырёх – генерал артиллерии... уже? – покагенерал... Кто-то – ожидаем ею. Вот – классический повод спастись от нападения – стрелоногих форвардов, заходящих в окружение на цокающих циферблатах, – и напыщенно ретироваться в колымаге грамматики... по линованной белилами брусчатке моря в цвет победы: Маренго!
Или – встречная история, крутая – как полёт орла от конфузной, первой мартовской кляксы-острова – к столичной Весне в золотых посулах и глориях... Некто – N, не хранящий амулет головы и теряющий – в стогах толп, раз об этой всепронзающей острячке – хоть целой: эпохе! – хоть оторве – уже похлопочут гарусным партером с ярусными этажерками: море охотников! – но так толст, ха, такой навой завоеваний – подсаживали даже в колыма... ах, в карету – навырез бесстрашный толстяк, и когда колесо навернулось на какую-то тьфу ты, крепость – он, продиктовав мемуаристу: не успеешь стукнуть в эти ворота табакеркой – и на: настежь! Да моей,мон шер, а не вашей – держите! – отдавив визгливую подножку бессмертия, снизошёл пред наточенные на него пушки – раздражённо расстегнуть из сюртука свое распузыренное на пушки величество, ручки в белобоки, эй вы, я необратимая трёхцветная птица по прозвищу Цезарь, не чета вашей чечётке. Мировая душа, как попал пруссак-философ, или что вам метать мои имена – высочайшая часть истории, на которой она носит треуголку. И дарую свободно сознать необходимость – служить моими перьями, а если в ваших башках хоть ядром покати – кати во всех затмившего, пли – в собственную гордость! – или как это называется у вашей едрёной чечётки...









