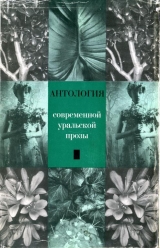
Текст книги "Антология современной уральской прозы"
Автор книги: Андрей Козлов
Соавторы: Андрей Матвеев,Вячеслав Курицын,Владимир Соколовский,Александр Шабуров,Иван Андрощук,Александр Верников,Евгений Касимов,Юлия Кокошко,Нина Горланова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Потом была дача, и про это надо чуть подробнее. Смысловое звено в цепи остальных смысловых звеньев. Трюизм, опирающийся на базис здравомыслия. На дачу они решили поехать в конце июня (прошёл календарный год с того дня, как он впервые нацепил на грудь пластырь). Чтобы отметить окончание сессии. Восемь человек, пять девиц и три парня. А может, и девять, то есть пять девиц и четыре парня. Сейчас он уже затрудняется сказать, сколько их было: прошло много времени, каких-то подробностей и не упомнить.
Дача была ничья. Точнее, дачи просто не было, а был конец дождливого июня и много дач поблизости от города, любая из которых могла приютить их на ночь. Главным условием было то, чтобы дача была пустой. Не заброшенной – такого не могло быть в принципе, а именно пустой, то есть чтобы хозяева именно в этот вечер спокойно пребывали в городе, а они могли бы поразвлекаться в полный рост. Поразвлекаться и оттянуться, хотя последний глагол тогда в ходу не был, С их курса было всего трое: он, ещё один парень, через несколько лет пустивший себе из пистолета Макарова (ПМ) пулю в висок на зачётных стрельбах в лагере военной подготовки, и одна девица, с которой он не очень-то общался в течение всего года (начало смысловой цепочки – эта девица была подругой его жены, то есть именно она передала его ей, то есть именно через неё он познакомился со своей будущей женой, то есть лишь благодаря ей угодил он через несколько лет, впрочем, обо всём этом уже не только сказано, но и рассказано, тут скобки закрываются, вот так:). Его же на дачу пригласил приятель с философского, пообещавший именно там, в сыром, ночном лесу прочитать им вслух «Письмо IV съезду писателей» Александра Солженицына и отрывки из «Размышлений» академика Андрея Сахарова. Ему уже почти восемнадцать, в этом возрасте приятно ощущать себя инакомыслящим. С приятелем был ещё один философ, остальные девицы (не считая той, что познакомила его с его же будущей женой) были частью тоже с философского, частью с журфака. Преамбула закончена, начинается рассказ.
Они собрались вечером, затарившись в ближайшем магазине двумя трёхлитровыми банками портвейна (это не гипербола, были такие сказочные времена, когда портвейн продавался не только в бутылках, но и в банках), парой водочных поллитровок, какой-то жратвой да блоком сигарет. Спокойно доехали до вокзала и плюхнулись в электричку. Один из философов знал станцию, в районе которой много дач, так что хоть одну пустую, да найдут. Ехали с полчаса, потом вышли на спокойной вечерней остановке с запамятованным названием. Было больше десяти, но ещё совсем светло – темнело в это время в районе двенадцати, да и то часа на четыре. Станция была маленькой, привлекать к себе внимания не хотелось, и они, сойдя с электрички, перешли рельсы и сразу же углубились в лес. На станции тявкнула собака, ей ответила другая, тявканье затихло. Философ, хотя и говорил, что бывал здесь несколько раз, явно не знал, в какую сторону идти, и поэтому ещё полчаса они бестолково кружили по лесу, пока, наконец, одна из девиц-журналисток не увидела какое-то тёмное пятно неподалёку за деревьями. – Кто пойдёт на разведку? – спросил возглавивший их философ. Я – ответил он и сделал из шеренги два шага вперёд. – Вольно, – скомандовал философ и начал высматривать следующего добровольца. – Я, – сказал другой философ, бывший его приятелем, и тоже сделал из шеренги два шага вперёд. – Слушайте боевой приказ, – сказал философ-командир. Они выслушали боевой приказ, сделали под козырёк и растворились меж сосен.
К тёмному пятну вела узкая, петляющая тропинка, усыпанная хвоей и шишками. Они шли, сосны наплывали на них и скрывались в уже наступивших сумерках. Было тихо, где-то вдалеке куковала кукушка. Изредка с шорохом пролетали ночные бабочки, чудный, тёплый вечер, один из первых без признаков дождя. Внезапно чёрное пятно превратилось в бревенчатую стену с большим проёмом закрытого ставнем окна. Они обошли дом и вышли со стороны фасада. Дача была двухэтажной, точнее – полутора: большой первый этаж, сделанный из деревянного пятистенка, и надстроенная вместо чердака мансарда. Небольшой палисадник перед крыльцом, дверь накрест забита досками, да ещё закрыта на большой висячий замок. Приятель-философ перемахнул через заборчик палисадника и кошкой взобрался по столбам веранды на маленький балкончик, куда выходило окно мансарды. Послышался звон разбиваемого стекла, затем зажёгся свет фонаря. В воздухе чувствовалось присутствие индейца Джо, вампиров, упырей и прочей нечисти. Приятель-философ высунулся из окна веранды и кинул вниз верёвку. Путь был свободен, неизвестным оставалось только одно – смогут ли девицы воспользоваться этим путём.
Девицы смогли, и вот они уже спускаются с мансарды вниз, холодную и неживую комнату, с мёртвыми и молчащими вещами. Философ-командир запаливает взятую с собой керосиновую лампу, предупреждая всех, что они должны быть осторожными и не устраивать пожаров. Именно пожаров, во множественном числе. Все молча кивают головами, всем несколько не по себе, одно дело собираться в чью-то собственность, другое – оказаться в ней. Дело поправляется портвейном, после второго стакана отчуждённость и стыд пропадают, и они начинают скакать и сходить с ума так, как это и положено молодым людям – юношам и девушкам, не юношам и не девушкам – их возраста. Его приятель-философ требует, наконец, внимания, и они усаживаются вокруг большого обеденного стола, заставленного консервными банками, разломанными буханками хлеба, ещё не опорожнёнными стеклянными банками, стеклянными водочными поллитровками, пачками сигарет. В самом центре стола стоит (ст-ст, вновь повторяющийся поцелуй согласных) керосиновая лампа, элегическая «летучая мышь», элегически-ностальгическая, ностальгически-романтическая и прочая, прочая, прочая. Приятель достаёт из внутреннего кармана брезентовой куртки пачку тонко сложенных листочков папиросной бумаги, разделяет на две неровные стопки, берёт одну и начинает читать вслух. Приятель пьян и читает тихо и плохо. Да и все они уже пьяны, так что слушают только из чувства гордости и самолюбования: чтение это придаёт их эскападе характер чуть ли не политической сходки, да и потом – чтение это совсем не мешает им пить портвейн, водку, курить да есть консервы прямо из вскрытых банок. Ставя пустой стакан на стол, он замечает, что его однокурсник, тот самый, что несколько лет спустя отнюдь не случайно нажмёт на спусковой крючок девятимиллиметрового пистолета марки ПМ, выщёлкивает на ладонь из посверкивающей серебряной фольгой облатки несколько небольших белых таблеток и быстро бросает их маленькой кучкой себе в рот.
– Что это? – спрашивает он. – Седуксен, – отвечает сокурсник и протягивает облатку ему. Он повторяет ту же операцию, что наблюдал сколько-то секунд назад, и запивает добрым глотком портвейна. Несколько минут ничего не происходит, а потом он чувствует, как кровь ударяет в голову, тело как бы расползается в разные стороны, он перестаёт ощущать собственный вес, жар в голове проходит, она становится необыкновенно чистой и ясной, только воспринимает всё, что вокруг, в изменённых пропорциях. И потом – удивительная нежность, поселившаяся в нём вместе с этой маленькой горсткой небольших белых таблеток. – Что, забалдел? – спрашивает сокурсник. – Ага, – отвечает он и тянется за сигаретой. Руки не слушаются, пачка подпрыгивает и не даётся в пальцы. Наконец он ловит её, достаёт сигарету и жадно закуривает. – Колёсами балуетесь? – спрашивает философ-командир и добавляет: – Ещё есть? – Сокурсник достаёт из кармана непочатую упаковку того же снадобья, и вся их разведгруппа вместе с женским спецконтингентом глотает небольшие белые таблетки. После этого листочки тонкой папиросной бумаги куда-то деваются, а они начинают танцевать, хотя музыки нет, но на нет и суда нет, и не надо, и так хорошо, танцуем, братцы?, танцуем, кто-то задувает ностальгически-романтический керосиновый огонёк, темно, ещё час до рассвета, хотя – вполне возможно, – что и меньше. Один из философов начинает петь, без гитары, без банджо, без мандолины, без балалайки, без лютни. Просто петь, громкое и сольное пение: – Раз пошли на дело я и Рабинович. – Взвизгивает девичьи-женский голос, взвизгивает и подхватывает: – Рабинович выпить захотел. – Громкое уханье, и вступает, мерно отбивая такт ногами, хор: – Отчего не выпить бедному еврею, если у него немного дел?!
Ему становится душно, он решает выйти на свежий воздух. С трудом находит дорогу из комнаты, зажигая спичку за спичкой, освещает себе путь в мансарду. Ноги лёгкие, почти бестелесные, он их просто не чувствует. Вот и окно, берётся руками за верёвку, внезапно руки не выдерживают, верёвка остаётся висеть сама по себе, чуть раскачиваясь, а он летит с высоты мансарды, больно ударяясь грудью о землю. Слава Богу, что здесь грядка и, слава Богу, что на грядке нет колышков, подумал бы он, если бы мог, но он просто переворачивается на спину, смотрит в светлеющее небо и думает, что больнее, чем есть и было, уже всё равно не станет. Затем пытается встать, но получается это с трудом, ноги вернулись на своё место, теперь он чувствует их, вот только они стали намного тяжелее. Он пытается сделать шаг и падает, не выдержав боли. Из окна мансарды высовывается та самая девица, что в не таком уж далёком будущем познакомит его со своей подругой, которая и станет затем его женой (курва, будет говорить он через годы). Она смотрит вниз и замечает его, барахтающегося и стонущего, – Боже, – вскрикивает девица и ладно смахивает вниз по верёвке. Протягивает руку, он опирается, с трудом, но перебирает ногами. Через заборчик палисадника не перелезть, но вот и калитка, закрытая на деревянный колышек. Никаких трудов достать колышек и открыть калитку, опереться на девичье плечо и доковылять до ближайшей сосны и прислониться спиной.
– Закатай штанину, – требует девица. Он послушно закатывает штанину, и она пальпирует ногу. – Всё в порядке, давай другую. – Её прикосновения нежны и возбуждающи, голова низко склоняется к нему так, что он видит затылок с густой копной чёрных волос. Кладёт руку и начинает поглаживать. Боль в ногах проходит, скоро совсем рассветёт, девица послушно отвечает на поцелуй, но, когда он тянет её рядом с собой на землю, грубо отталкивает руками, говоря при этом: – Отстань, не хочу! – Он отстаёт, она помогает ему встать, они идут обратно к дому, оба покачиваясь, оба пьяные и наседуксененные, только он больше, намного больше, никакой умеренности, ни в чём и никогда, и за это время – какие-то мгновения, что надо пройти от сосны до палисадника – они становятся почти друзьями.
Естественно, что обратно в мансарду залезть он не может, но, впрочем, это и к лучшему. Уже рассвело, пора линять. Делать ноги, обрубать хвосты. Тип-топ, прямо в лоб, по тропиночке хлоп-хлоп. По лесной тропинке, ведущей обратно на станцию. Первая электричка в 5-30, сейчас почти пять. Вся разведгруппа в сборе, довольные, напившиеся, наевшиеся, натанцевавшиеся, прочая, прочая, прочая. Философ выстраивает их опять в две шеренги, по порядку номеров рассчитайся! Первый-второй, первый-второй. Левое плечо вперёд, шагом-ар-рш! Философ-приятель вдруг начинает хлопать себя по карманам: ребята, я листочки забыл! Плюнь! Что вы! Они собираются кучкой, алкоголь и таблетки заметно усилили своё действие, все на отрубе, сейчас бы лечь да отрубиться, приятель возвращается, довольно поглаживая себя по карману. Вперёд, командует философ-начальник, и они гурьбой устремляются к станции. Он плетётся в самом конце, девица-сокурсница помогает ему идти (сердобольная, нашла себе занятие!). Гудит электричка, вот уже подходит, еле успевают вползти в последний вагон. В вагоне они все засыпают и просыпаются только на вокзале. – Отлично съездили?
– Отлично, – и разбредаются с вокзала в разные стороны, желая только одного: поскорее оказаться дома и лечь спать. Что, впрочем, и делают в течение часа.
Нельзя, конечно, утверждать, что в подобных развлечениях он провёл всё лето. Месяц, может, два. До практики, до колхоза. Безделье молодого нигилиста-экзистенциалиста, отпустил волосы, решил, что стал хиппи и пустился во все тяжкие. Слава Богу, что сокурсница/приятельница, слава Богу, что не хотелось ей только тогда, в лесу, под сосной. Безмятежность юношеской дури, когда стихи пишутся в кафе на салфетках. Мать привыкла к тому, что от него частенько попахивает вином и постоянно – табаком. Что он начал ночевать не дома. Матери привыкают ко всему, смиряются с этим и понимают, что их молодость прошла. И начинают жить молодостью своих детей. Смысловая цепь не должна прерываться. Род уходит, и род приходит, продолжение опять читай у Екклезиаста. Сокурсница/приятельница жила неподалёку, и они виделись почти каждый день. Впрочем, о Нэле он ей не рассказывал. Дарил цветы, водил в кино, затаскивал в любую случайную постель. Они привыкли друг к другу за этот месяц, как две собачки. Две кошки. Две обезьянки в зоопарке. Чита и Мачита. Единственное, чего он ей не позволял, так это менять старый пластырь на новый. Старый бактерицидный пластырь на новый бактерицидный пластырь. Делал сам. Сам с усам. – Что там? – спрашивала она. – Сердце, – как-то меланхолически-грустно отвечал он, натягивая на себя рубашку после любви. В один прекрасный день, когда они занимались этим у него дома, их застукала мать. Пришлось познакомить, пережив несколько неприятных минут. С годами всё становится проще, перестаёшь стесняться того, что естественно, а если и краснеешь, то лишь на время. Матери его сокурсница/приятельница понравилась, и мать решила, что у её сына всё хорошо. Она не догадывалась, как крепко ошибается. Впрочем (слово-паразит, уже набившее оскомину), сокурсница/приятельница тоже считала, что у него всё хорошо и тоже не понимала, что ошибается. Знал правду лишь он один, знал, когда пил портвейн, когда глотал таблетки (седуксен, ноксирон, реладорм, родедорм, реланиум и прочая дребедень, включая циклодол, кодеин и этоминал натрия, врач-нарколог Ирина Александровна Полуэктова уже год, как закончила институт), знал, когда читал книги, писал стихи в кафе на салфетках и ложился со своей сокурсницей/приятельницей в постель. Впереди зияла огромная чёрная яма, и скоро он в неё попадёт. Охотники вырыли ловушку на привычной для него тропе, сами засели в засаду и ждут. Засели в засаду. Ждут. Над тропой чуть колышатся низко нависшие ветви, ветерок отгоняет запах ловцов, дует не от них, а наоборот. Сердце, пусть и залепленное пластырем, подсказывает, что лучше затаится и переждать, но ноги несут вперёд. Если же ловушка не поможет, то устроят облавную охоту. Что-то, да устроят. Что-то. Да. Устроят. Сразу после практики он уехал в колхоз, распрощавшись на месяц с сокурсницей/приятельницей, которой сельхозработы были противопоказаны по медицинским соображениям. Вернувшись же, обнаружил, что она его разлюбила, но перенёс это достаточно легко, если не сказать, легкомысленно. Ловушка, ожидающая его, была другой. Что же касается сокурсницы, то мотивы её этого поступка нам неведомы. Но почти друзьями они остались, более того, пройдёт какое-то время, и она познакомит его с его же будущей женой. Вот так: тип-топ, прямо в лоб. Его с его же. Но пока до этого ещё далеко и всё идёт по-прежнему. Месяц, ещё один, ещё, вот и зимняя сессия. Каникулы. Месяц, ещё один, е... Ще выпадает, так как охотники ловко накидывают сеть.
6
Звонок со второй пары прозвонил резко и оглушительно. Можно встать, размять затёкшие ноги и пойти покурить. В дверях свалка, всем не терпится поскорее выскочить из душной аудитории. Идёт к дверям, берёт барьер, вырывается на свободу. Рука привычно лезет в правый карман, нащупывает пачку сигарет, достаёт одну, левая рука в этот момент нашаривает коробок спичек. Автоматизм движений, доведённый до совершенства. Весеннее солнышко пляшет по выщербленному паркету коридора. В левой стороне груди привычная мёртвая пустота, изредка заполняемая приступами боли. Голова опущена, сигарета во рту, ловко зажжённая одной рукой спичка на полпути к цели. Вежливый и равнодушный голос у самой курилки: – Простите, вы такой-то? – Поднимает голову, рассматривает бледное, гладко выбритое молодое лицо с неприметной синевой глаз. – Да, а что? – Вы не могли бы проводить меня вниз? – В желудке образуется тошнота, какой-то нехороший страх гибкой верёвкой связывает ноги. – Зачем? – В ответ видит мелькнувшую в чужой ладони красную книжицу. – Областной оперативный отряд, надо поговорить... «Всего-то, – думает он, так и не донеся спичку до нужного предмета, – отчего бы и нет?», и послушно спускается вслед за коричневой курткой незнакомца по лестнице.
На улице хорошо и спокойно, страх исчезает, незнакомец уверенно подходит к стоящей поодаль серой «волге», садится на переднее сиденье рядом с водителем, кивая ему головой на заднее. Плюхается на потёртый матерчатый чехол, опять что-то нехорошо покалывает ноги, как-то не очень увязывается – областной оперативный отряд и серая «волга», но отчего бы и не поиграть в детективные игры, ни в чём предосудительном сам себя не замечал, так что в любом случае разнообразие, шофёр трогает с места, машина быстро выруливает на проспект, затем сворачивает на боковую улицу, потом ещё на одну, заезжает в какой-то тупик, останавливается у большой глухой двери безо всякой вывески. Вместе с коричневой курткой выходит из машины, куртка, всё так же молча, нажимает маленькую кнопочку звонка у правого косяка двери. Дверь открывается, близнец коричневой куртки пропускает их внутрь и закрывает за ними дверь на внутренний замок. Солнце и весенняя улица остались на свободе, а он оказался взаперти. «Это не шутки», – отчего-то впадая в отчаяние, думает он, не зная, куда идти дальше, – Подожди здесь, – как-то внезапно и достаточно высокомерно обращается к нему коричневая куртка и скрывается со своим близнецом в коридоре. Он осматривается. Небольшой четырёхугольный тамбур (предбанник, холл, прихожая), два забранных решётками и закрашенных окна, выходящих на улицу. Несколько деревянных стульев, сколоченных в один ряд – как в дешёвом кинотеатре или занюханном клубе. Когда-то окрашенные в голубой цвет, ныне же просто облезлые и такие же тревожные, как всё помещение. Высокий потолок с мощной лампой без абажура. На подоконнике графин с водой и гранёный стакан. Пепельницы нигде не видно, и он не знает, можно ли курить. Не знает, но очень хочет и думает о том, что можно было успеть это сделать, пока шёл к машине. – Пойдём, – машет ему рукой появившаяся коричневая куртка, и он идёт вслед за ней в чёрный коридор. В нём темно, лишь в самом конце светлеет окошко с каким-то фикусом-кактусом на подоконнике. Он чувствует себя беспомощным и одиноким и понимает, что здесь он ничто: так, простое некто, бесправный имярек, представитель толпы, пришедший на встречу с властью. Впрочем, в книгах это описано достаточно точно и подробно, так что он может не думать об этом слишком много. Коричневая куртка открывает самую дальнюю от входа в коридор дверь и заходит первой, оставив дверь открытой. Он машинально, даже не спросив разрешения, вваливается за своим провожатым.
– Проходите, проходите, – говорит ему представительный мужчина средних лет, с густой шевелюрой, большим крючковатым носом и в очках, сидящий за большим же письменным столом. Коричневая куртка молча поворачивается, выходит и закрывает за собой дверь, он садится на единственный стул, стоящий перед столом.
Стол пустой, на нём лишь пепельница (всё же, наверное, можно курить, хотя пепельница пуста) и телефон. Весёленький красный телефон на тёмной полировке стола. Очкастый и крючковатый смотрит на него выжидающе и улыбаясь. – Давай знакомиться, – говорит вдруг мужчина, так же беспардонно, как и коричневая куртка, переходя на «ты», – капитан Левский, Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович, особого значения это не имеет), а... – Он называет себя, чувствуя, что коленки начинают предательски дрожать. – Ну что ты перепугался, как кролик! – возмущённым фальцетом говорит ему капитан в штатском (хороший синий костюм-тройка, из нагрудного кармана пиджака торчит уголок белого платочка с серой каймой). – Давай, поговорим.
– Давайте, – отчего-то развязно отвечает он и закидывает ногу на ногу. Капитан Левский пристально смотрит на него, а потом, как бы смилостившись, изрекает: – Если хочешь, можешь курить. – Он испуганно садится совершенно прямо, что называется, аршин проглотив, и послушно закуривает, страх овладевает каждой клеточкой, подрагивают руки, ощутимо начинает болеть голова.
– Что ты это там за журнал выпустил? – вдруг усмехнувшись и очень по-домашнему спрашивает Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович). – Расскажи-ка!
«Всего-то и делов?» – удивлённо думает он, снова садится поудобнее, выпускает струю дыма чуть левее головы капитана и начинает рассказывать, что да, этой зимой он действительно выпустил на своём курсе литературный журнал, точнее, альманах, так как особой периодичности не планировалось, сделал один номер, его прочитал куратор и запретил распространять, но ведь это давно было, так стоит ли...
– Стоит, стоит, – довольно грозно проговорил капитан и продолжил: – Гумилёва вот напечатал, белогвардейца... – Так ведь он поэт, – растерянно ответил гость капитана. – Ну и что, – возразил хозяин кабинета, – поэты – они разные бывают. А статья твоя редакционная?
– Что статья? – изумился он. – Статья как статья, впрочем, к ней куратор и привязался...
– Да уж, – довольно пробубнил Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович) Левский, – именно, что статья. С надклассовых позиций, гуманизм, видите ли, должен быть всеобщим, безмерным и всепоглощающим. Ишь ты, какой Дубчек нашёлся...
Он не знал, кто такой Дубчек, а потому промолчал, поняв вдруг, что дело совсем не в журнале и вляпался он в этот стул, как кур в ощип. В ощип-во щи. Ощипанный кур во щах. – Ну ладно, – сказал капитан, – получил за журнал строгача? – Получил, – кивнул он в ответ.
– Это хорошо, а ты вот мне скажи, ты такого-то знаешь? – и Левский назвал фамилию его приятеля-философа, с которым он прошлым июнем ездил на дачу.
«Сказать «нет», – подумал он, – но ведь это неправда, да и явно этот носатый знает, что мы приятели...» – Знаю, – ответил он. – Что он за человек? – Прекрасный парень.
Капитан захохотал. – Конечно, – вдруг очень быстро начал говорить он, как-то хищно пригнувшись за столом, – прекрасный, да и ты прекрасный, да и вся компашка ваша прекрасная, только и знаете, что водку пить, таблетки глотать и антисоветчину пороть. Как сидишь, дерьмо! – вдруг закричал Левский, заканчивая тираду.
Он почувствовал, что взмок от пота, сел прямо и посмотрел на капитана. – А чего вы на меня кричите?
– Да я тебе ещё по ушам надаю, – отпыхиваясь, сказал капитан и по-деловому спросил: – Из университета хочешь вылететь? Он пожал плечами.
– Что, – засмеялся капитан, – скажешь, тебе всё равно? Врёшь, голубчик, все вы маменькины дети, – и Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович) грязно выругался. – Передам вот в отдел по борьбе с наркоманией (отчего-то поднял трубку телефона, покрутил её в воздухе и положил обратно), что ты таблеточками балуешься, и всё. Мотай срок, прощайся с благополучной жизнью. Хочешь?
– Нет, – совершенно искренне ответил он.
– Вот то-то, – удовлетворённо сказал капитан и продолжил: – Таблеточками-то тебя кто снабжает? – В аптеке беру, – хмуро сказал он.
– Опять врёшь, – с удовольствием заметил капитан. – Тоже мне, абстрактный гуманист, мир с бесклассовых позиций, а врёшь, как сапожник...
«Почему именно сапожник?», захотелось спросить ему, но он вовремя промолчал.
– Может, – вкрадчиво продолжил капитан, – твой дружок-философ тебя таблетками снабжает?
– Нет, – решительно замотал головой, – он вообще противник этого... Капитан снял очки, достал из нагрудного кармана носовой платок и стал неторопливо протирать стёкла. «Сейчас будет бить, – отчего-то подумал он, – сейчас положит очки на стол, встанет, подойдёт ко мне и даст со всего размаха в ухо. Сначала в одно, потом в другое, потом ударит ладонью по шее, я упаду, и он начнёт бить меня ногами...»
Дверь бесшумно открылась, и в комнату проскользнул ещё один человек средних лет, в таком же костюме-тройке, только сером в полоску. (Странно, если бы этого не случилось. Хотя двое на одного – это много. Впрочем, драки по правилам давно отменены. Ему не до смеха. Был один Левский, стало два. Шерочка с шерочкой, но без всякой машерочки. Бить собирался один, второй должен уговаривать. Раздвоение личности, разделение функций, дифференциация склонностей-наклонностей. У второго Левского нос не крючковатый, а прямой, очков нет, а из верхнего кармана выглядывает все тот же белый уголочек чистого и накрахмаленного платка, но на этот раз без каймы.)
– Работаете, Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович)? – спросил Левский-2, перемещаясь от двери к столу и как бы не замечая человека, сидящего на стуле перед капитаном.
– Работаю, работаю, Максим Платонович, – довольно подобострастно и скороговоркой ответил Левский-1 (имена-отчества у них всё же были разные).
– И как успехи? О чём разговор-то?
– О наркотических снадобьях, – брезгливо, как о чём-то очень непристойном проговорил капитан.
– Ну-у, – протянул Левский-2, – вы так до утра сидеть будете, – и резко, даже как-то прищёлкнув при этом каблуками штиблетов, повернулся к нашему герою.
«Это никакой не оперотряд, – отчего-то с мучительной грустью подумал тот, – это даже не милиция...»
– Вы понимаете, кто с вами разговаривает? – с твёрдой и абсолютно холодной вежливостью обратился к нему вновь вошедший Левский.
Он ничего не ответил, лишь посмотрел на человека в серо-полосатой тройке с нескрываемой неприязнью в глазах. – Вы правы, – усмехаясь, проговорил Максим Платонович и тихо, как бы сам вслушиваясь в собственный голос, произнёс три знаменитые на всю страну буквы. Потом сел на стул, частично прикрыв стушевавшегося капитана, достал из внутреннего кармана пачку листочков из тонкой папиросной бумаги и протянул ему: – Вам это знакомо? – Нет, – моментально и очень решительно ответил он.
– Ну, не надо так врать, – засмеялся Левский-2 и соскочил со стула. – Вы прекрасно знаете, что это такое. Да вот, – и он стукнул ладонью по тёмной полированной крышке, – тут же недавно сидел ваш приятель, ну этот, с философского факультета, и рассказывал нам, как он читал вам в лесу на даче то, что напечатано на этих страничках... – А что там напечатано? – поинтересовался он. – Какая наглость! – проворчал Левский-1.
– Не надо, не надо, – довольно грубо, но совсем не зло сказал серо-полосатый Максим Платонович, – не забывайте, где находитесь. Ведь нам от вас надо только одно: подтверждение. Вы понимаете, под-твер-жде-ние!
– Я был пьян, – сказал он, – я был пьян и ничего не помню. – Жаль, – обращаясь к первому Левскому и одновременно закуривая сигарету, сказал серо-полосатый, – придётся мальчику в армию идти. – Нет, – покачал головой Левский-1, – скорее, в психушку. – Почему? – радостно спросил Максим Платонович. – Таблетки есть не надо, – ответил Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович).
– Так можно и срок схлопотать, – очень соболезнующе проговорил Максим Платонович.
Он сидел и чувствовал, как что-то вжимает его в стул. Попался и уже не выкарабкается. Всё. Оттоптался, отбегался. Дёрнуло его тогда забраться на эту дачу, дёрнуло тогда приятеля-философа привезти с собой эти дурацкие папиросные странички. Хотелось кричать, биться головой о стену, рухнуть на пол и задрыгать ногами в приступе падучей. Но стул крепко держал его, не пошевелить ни рукой, ни ногой, мёртвый язык, мёртвый мозг, давно уже мёртвое сердце. Так бесславно заканчивается жизнь. В запертом кабинете, наедине с раздвоенно-одинарным сотрудником КГБ. Ему всего восемнадцать, и для него уже всё кончено...
– Пишите, – повелительно и грозно сказал Левский-2, показывая рукой на стол. Там уже лежала маленькая стопка чистых листов бумаги и белая канцелярская шариковая ручка. – Что? – недоумённо спросил он.
– Всё, – сказал Максим Платонович и, повернувшись к первому Левскому, добавил: – Иди, я один справлюсь.
Левский-1, не попрощавшись, медленно и вальяжно растворился в воздухе (вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь), а второй занял его место.
– Ну зачем это тебе? – вдруг сердобольно и по-отечески спросил Максим Платонович. – Вылетишь из университета, да ещё действительно загремишь куда-нибудь. Ну, читал ты эти бумажки, ну и признайся в этом, все ведь признались...
– Кто это, все? – спросил он.
Левский-2 улыбнулся мягкой улыбкой воспитателя недоумков и начал по памяти перечислять, кто эти все. Он услышал фамилии философа-командира и сокурсницы/приятельницы, услышал фамилию своего сокурсника, того самого, что научил его употреблять таблетки, а несколько лет спустя покончит с собой из армейского пистолета Макарова, фамилии девиц-журналисток и девиц-философов. – Правильно? – спросил Максим Платонович. Он кивнул головой.
– Пиши, только про бумажки, больше ничего. Ни про дачу, ни про таблетки, пусть тебя это не волнует. – Я не знаю, как писать. – Бери ручку, я буду диктовать.
Он придвинул стул к столу, взял ручку и положил перед собой листок бумаги.
Максим Платонович закурил новую сигарету и, расхаживая по комнате, начал диктовать ему текст. «Я, такой-то, такого-то числа такого-то месяца такого-то года, в компании своих друзей...» – Знакомых, – поправил он второго Левского. – Хорошо, «знакомых...»
Текст был странички на полторы, рука еле двигалась, дрожь в коленках всё не проходила. Наконец, человек в серо-полосатой тройке закончил диктант, он аккуратно расписался, поставил дату и протянул листочки на проверку. – Молодец, – сказал Левский-2, потягиваясь, – возишься с вами, дураками, возишься, не понимаете, что ради вашей же пользы...
Ему было всё равно, ради чьей пользы вначале с ним возился Левский-1, он же Виктор Николаевич (Владимир Пафнутьевич, Альфред Генрихович), а затем Левский-2, он же Максим Платонович. Ему было бы намного проще и легче, если бы его избили, жестоко, в кровь, может, что и ногами, но не заставляли писать эти два неполных листочка. Но он написал их, пусть и под диктовку. Написал и собственноручно подписал, отдав человеку в серо-полосатом костюме, и сидит сейчас всё на том же стуле и не может с него подняться. Сидит дерьмо в дерьме, да ещё измазанное дерьмом. С ним поступили просто, показали кулак, и он сделал лапки кверху. Он трус и мерзавец, и больше ничего. Пусть остальные признались (в чём? что они такого сделали?), а он должен был молчать, предки ему этого не простят, С ним поступили хуже, чем если бы бросили на пол и стали пинать ногами: его не тронули пальцем и размазали по стенке.








