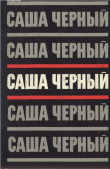Текст книги "Самоубийство Земли"
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

Андрей Максимов
САМОУБИЙСТВО ЗЕМЛИ
Повести и рассказы
СТРАХОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Дверной звонок истерично захохотал.
Я подошел к двери сбоку, в глазок смотреть не стал – опасно, могут и выстрелить.
– Кто? – спросил я, тщетно пытаясь придать голосу уверенность.
– Сторожа вызывали? – спросили с другой стороны двери.
– Пароль?
Паролем служила фамилия заказчика. Услышав свою фамилию, начал открывать дверь. У меня было пять замков, причем три из них открывались только изнутри.
На пороге стоял весьма молодой человек довольно приятной и, что меня особенно удивило, интеллигентной наружности. Узкие плечи и высокий лоб как-то плохо гармонировали с его профессией. Впрочем, кто их разберет, сторожей? Профессия – новая.
Переступив порог и с профессиональной быстротой закрыв все замки, он неожиданно спросил:
– Вы общительный?
Увидев мой недоуменный взгляд, разъяснил:
– Могу всю ночь в отдельной комнате просидеть. Или на кухне. Можем пообщаться. Как хотите. Большинство предпочитает беседу, но, конечно, бывают и исключения.
– Я всегда был из большинства, – буркнул я, и мы пошли на кухню.
Зажмуренный глаз солнца еще не совсем скрылся за горизонтом и этот ленивый солнечный взгляд окрашивал мир в спокойные мягкие тона.
Картошка, которую я сварил к его приходу, хоть и из последних сил, но еще дымилась пока. Запотевшая водка обещала новые впечатления.
Я подумал, что, пожалуй, впервые за последнее время чувствую себя уютно в своем доме: страха нет.
– За знакомство!
Мы чокнулись. Он выпил и стал судорожно закусывать.
– Ну и о чем предпочитаете разговаривать? – спросил он.
– А о чем говорят в таких случаях? – спросил я, потому что, действительно, не знал, о чем в таких случаях говорят.
– О разном… – Он откинулся и начал ковырять спичкой в зубе. – Видите ли, паника поселилась в нашем городе довольно давно, и люди в общем привыкли к ней. Но периодически страх вырывается из-под контроля души, и тогда человек уверывает, что именно сегодня придут некие страшные люди и уничтожат именно его. Тогда он звонит нам. Мы приходим. Наш кооператив, собственно, для того и создан, чтобы приходить, когда нам звонят… Ну вот…
– А потом что?
– А что – потом? Говорим. Потом уходим. Все.
Выпили еще.
– А вы не больно-то общительный, – вздохнул сторож. – Вообще, те, кто нам звонит, – все такие.
– Это взаимосвязано, – попытался я оправдаться. – Необщительные, одинокие люди – они-то чаще всего и подвержены страху.
– Страху подвержены все. Я скажу вам больше: страх – главная действующая сила нашей жизни. Почему человек влюбляется? Потому что боится остаться в одиночестве. Почему пишет книги, завоевывает страны, поет дурацкие песни на эстраде? Потому что боится остаться незамеченным. Жрет – потому что боится умереть с голоду. Худеет и садится на диету – потому что боится стать некрасивым и значит – одиноким. Пьет, боясь умереть от жажды. Лечится от алкоголизма, боясь выпасть из жизни раньше времени. И так далее. И далее.
– Так все люди – трусы? – удивился я.
Он не ответил, а почему-то сам спросил:
– Спите, небось, плохо в последнее время? Нервничаете, дергаетесь?..
– Сплю я неважно, – согласился я. – Все думаю, глядя в потолок, все понять пытаюсь: как же это они нас так здорово запугали?
Он снова никак не отреагировал.
– Давай выпьем «на ты», – предложил я.
– Давай, – согласился он. Водка, цокая, разлилась по рюмкам. – Нам это не возбраняется. Мы обязаны делать все, чтобы не нервировать клиента.
Выпили. Помолчали.
За окном наступало то дьявольское время суток между днем и ночью, когда в природе все теряет четкие очертания, свет уже недостаточно светел, а темень еще недостаточно темна, и от этого становится как-то не по себе. В такое время суток я всегда зашториваю окна.
– Расскажи чего-нибудь, – попросил я.
– У сторожей всегда есть несколько историй про запас, – улыбнулся он. – Могу анекдоты травить. Могу про любовь. Могу про эротику с показом диапозитивов.
– А про страх можешь? – спросил я.
В этом был особый, почти детский «кайф» – сидеть у себя дома под надежной охраной (интеллигент-то он, может, и интеллигент, а пистолет наверняка в кармане носит) и слушать ужасные истории. Так дети очень любят слушать «страшилки», зная, что им ничего не грозит.
– Могу и про страх. – Он налил, выпил. – Если не испугаешься. Итак, слушай.
Значит, так. Представь себе: жил-был художник один… В самом прямом смысле слова – художник. Картины писал. Точнее – портреты. Его звали… Не важно. Назовем Художник для простоты. Про внешность его опущу – не важно. Теперь про возраст. Тоже, конечно, не важно, но все-таки… Он был еще достаточно молод, дабы ощущать в себе силы перевернуть мир, но уже достаточно опытен, дабы представлять, что это сделать невозможно. То есть ему было где-то около сорока.
Теперь про его жизнь. Вкратце. Жил он весьма благополучно. Квартира, мастерская, деньги – все нормально. И, как всякий настоящий художник, старался на жизнь особого внимания не обращать. На быт. То есть жил как бы для работы. Писал по двадцать пять часов в сутки. Фанатик, короче. Художник.
Ну а когда он все-таки уставал, то развлекался, как все художники во все времена: пил вино, сидел с друзьями, лежал с бабами.
Однажды, впрочем, он влюбился, женился и быстро привык к семейной жизни: привык к хрустящим рубашкам, горячему ужину и вкусному завтраку.
Дом, работа, жена в доме, вдохновение на работе – казалось, что этого вполне достаточно для счастья, а вся заоконная жизнь была совершенно лишней и ненужной.
Вот тут-то, собственно, история и начинается…
Рассказ сторожа действовал на меня завораживающе. И когда он прервался, чтобы положить себе картошки и налить водки, я вдруг понял, как давно ни с кем не разговаривал – вот так, безо всякого определенного смысла, безо всякой цели. Просто так.
– Что же было дальше? – спросил я, чтобы выказать свою заинтересованность.
– Как и полагается в подобных историях, в тот день ничто не предвещало печали. Художник возвращался домой раньше обычного – он только что закончил писать очередной портрет, настроение у него было отменное, он был абсолютно уверен, что нет на свете ничего такого, что могло бы окрасить его жизнь в мрачные тона.
Собственные мысли и мечты всегда интересовали художника куда больше, чем окружающая действительность. Он шел, не глядя по сторонам, и вдруг понял, что дальше идти не может.
Площадь запрудила демонстрация. Что именно демонстрировали собравшиеся – совершенно не важно. Художника поразили не лозунги – он их не видел, не выкрики толпы – он их не слышал. Художника поразили лица, на которых он увидел неописуемую и не воспроизводимую на холсте смесь отчаянной решимости идти на штурм чего угодно, абсолютного непонимания, куда именно следует идти, и какого-то, почти карнавального, восторга.
Работая локтями, он попытался прорваться сквозь потную кричащую толпу, но вскоре понял, что потерял направление. Ему стало не по себе: глупо спрашивать дорогу у людей, которые вышли на демонстрацию.
И, вместо того, чтобы пытаться пробить эту толпу и выйти на какую-нибудь, пусть и далекую от дома, но прямую дорогу, Художник начал размышлять над тем, что когда людей много, их количество перерастает в какое-то совершенно иное качество, они перестают быть людьми, ибо толпа – это совершенно самостоятельный, живой организм, существующий по собственным, неподвластным разуму, законам. Ведь любой из этого скопления рук и ног, может ударить его, смять, растоптать, причем, просто так, безо всякой причины, походя. Даже хороший человек, оставаясь при этом хорошим человеком, может растоптать того, кто попадется ему под ноги просто потому, что тот попался ему под ноги.
Художники, как известно, народ впечатлительный. И это небольшое, в сущности, происшествие подействовало на нашего героя с необычайной силой. Он вдруг увидел, чего надо бояться. Ему стало ясно, что все его счастье, благополучие, спокойствие – все это временно и, что еще печальнее, несамостоятельно, потому что ходит прямо у него под окнами страшная темная сила, которая в любой момент может ворваться в дом и смести все, что нажито и любимо.
Вроде бы ничего в жизни не случилось: увидел неприятную картину, так выпей водки и забудь немедленно. Но нет. Уж коли в душе появился страх, то он начинает разрастаться, подобно раковой опухоли, и пока не поразит всю душу – не успокоится. Вообще, эти художники – странные люди…
«Э, нет, – подумал я. – Все-то ты понимаешь, сторож, и рассказываешь мне эту историю не просто так. Просто тебе известно это странное свойство людей: почему-то нас успокаивает, что мы не одиноки в своей трусости, или подлости, или, скажем, лени. Расскажи трусу, что таких, как он, много, – трус и успокоится. Расскажи подлецу, что все подличают, – подлец и улыбнется. И так далее. И так далее. Учитывая всеобщую нашу любовь объединяться в толпы себе подобных».
– Тебе интересно? – зачем-то спросил сторож.
Он ведь прекрасно знал, что я отвечу.
И я ответил то, что он знал:
– Очень интересно. Наши чувства, ну, в смысле вашего героя и мои – так похожи…
– Главное, чтобы не были похожи поступки, – улыбнулся сторож. Улыбка у него была добрая. Профессиональная. Успокаивающая. – Тогда продолжу.
Художник стал работать все меньше. Представляешь, случай тот так на него подействовал, что он совсем не мог сосредоточиться. Представляешь?
Я представлял, конечно. Еще бы я не представлял! Но не стал перебивать – пусть дальше рассказывает.
Художник шел в кафе, где было мало народа, брал чашечку кофе и долго пил. А вокруг – все равно! – роились разговоры, и были они все о том же: о страхе, о неминуемой катастрофе.
Он шел в город, стараясь выбрать те улицы, на которых не было скопления людей. Но таких улиц оставалось все меньше – везде что-то демонстрировали, с чем-нибудь боролись, против чего-нибудь протестовали.
Тогда Художник возвращался домой. Но молодая жена стала его раздражать: глядя на нее, он думал, что когда наступит то ужасное, что непременно наступит, – ему придется не просто погибнуть, но перед смертью наглядеться на страдания собственной жены. Жена стала для него напоминанием из будущего, напоминанием о грядущих кошмарах.
Если бы кто-нибудь спросил Художника: «А чего ты, собственно, боишься конкретно?» – он не смог бы ответить. Это ведь великая наука – испугать, и мало кто владеет ею в такой степени, как государство. Лишь оно способно вселить в отдельного человека страх долгий и изнуряющий.
Если хочешь знать, все страны делятся только на два вида: дарующие панику и уничтожающие ее. Художник, как, впрочем, и мы с тобой, жил в стране, где страх чувствует себя вольготно.
– Государство специально пугает? – удивился я.
– Еще как! Если хочешь знать, я составил целую таблицу способов запугивания, слева – эффект от него в процентном отношении. Ну, например, государство начинает всюду сообщать, что бояться ничего не надо, что даже если и произойдут какие-нибудь неприятности, государство своих граждан защитит. Эффект запугивания – 70–80 процентов. Или, например, государство сообщает, что идет вперед, но отдельные граждане идут в другую сторону, мешая общему движению. Каждый житель страны, разумеется, относит это на свой счет. Эффект запугивания поэтому выше – примерно 90–93 процента. Или еще есть очень распространенный способ: государство везде сообщает, что плохих людей становится все больше, что их уже так много, что хорошим просто невозможно выйти на улицу, при этом важно мастерски использовать всякие кошмарные детали, во всех газетах, на телевидении и прочее рассказываются ужасы про убийства, изнасилования и так далее, человек начинает ощущать себя жителем фронтовой страны, эффект запугивания приближается к 97 процентам.
Ну да ладно. Хватит об этом. Я должен рассказать тебе, что стало с Художником дальше. Дальше он перестал писать.
Случилось это так. Однажды после похода по городу, где повсюду он натыкался на внимательные, недобрые взгляды, Художник вернулся в свою мастерскую, и стал не спеша прохаживаться вдоль портретов. Когда он рассматривал собственные работы, в нем всегда поселялась уверенность и спокойствие. Но на этот раз все случилось иначе.
Со стены смотрели на него человеческие лица. Каждый портрет – человеческое лицо. И вдруг Художник понял с ужасом, что эти лица он видит впервые. До сегодняшнего дня он рассматривал портреты, а вспоминал лица людей, которых рисовал: рассматривал копии, а видел оригиналы. Но сегодня в собственных работах, в нарисованных им глазах, прочел он ту самую, так испугавшую его, злобу, неприкрытую, бешеную. Ему стало совершенно ясно, что всю жизнь его рукой водило не вдохновение, а страх. Он мечтал подарить вечности человеческие лица, а подарил ей нечеловеческую злобу.
Художник схватил огромный нож, из тех, что всегда найдутся в мастерской живописца. Нож удобно лег в ладони, прикосновение холодной стали было приятно, сердце забилось ровно и спокойно.
Он подержал нож на ладони, но решил не резать картины. Зачем? Надо ведь, чтобы после тебя хоть что-то осталось. Пускай даже эта размноженная злоба. Чтобы осталась после тебя… После смерти… Которую недолго ждать…
– Он убьет кого-нибудь? – зачем-то спросил я.
– А как же, – ответил сторож. – Обязательно. Не торопись.
Я не торопился. Собственно, куда мне было торопиться? Ночь длинная. Мне вообще казалось, что сторож рассказывает историю про меня. Только действовал в ней как бы не я сам, а мой образ.
– Тебе это полезно послушать, – сторож словно угадал мои мысли. – Если хочешь знать, я это все не придумал. Да и кто скажет, будто всего этого не может быть никогда?
После того как Художник перестал ходить в свою мастерскую, жизнь его стала вовсе невыносима. Днем он, сгорбленный, метался по городу, или сидел, стараясь ни на кого не смотреть, в кафе. А по ночам к нему вернулись детские страхи: он стал бояться теней, шорохов, любого шума. Раньше по ночам он мечтал о будущих картинах, а теперь, что было делать?..
…– Я не буду тебя ни о чем спрашивать, – сторож неожиданно обратился прямо ко мне, в глаза мне сказал. – Однако будь уверен: если в твоей жизни страхи и ужасы вытеснили мечту, мысли о работе и так далее, значит – конец тебе, парень, надо брать себя в руки.
Нашим героем к тому же овладела жутковатая страсть: он начал коллекционировать дверные замки. Впрочем, тебе это должно быть очень понятно. Он собирал замки совершенно любых марок и конструкций. Дело тут было не в красоте или изяществе, но в количестве. Он вешал замки на внутреннюю сторону двери, и вскоре она стала напоминать яблоню, украшенную плодами.
Иногда он, сжимая в руке нож, садился около двери. С внутренней стороны, конечно – с внутренней. И в эти мгновения на его лице появлялась счастливая улыбка свободного человека.
Надо ли тебе говорить, как страдала его молодая жена? Вот ты один живешь – правильно. А она страдала. Ей оставалось успокаивать себя только тем, что ее муж – художник, и странность должна быть ему присуща.
В тот день она пришла домой с новостью, которая – она была в этом убеждена – порадует ее мужа, и даже – дай-то Бог! – изменит всю их жизнь.
Она накрыла на стол белую скатерть, поставила бутылку вина, приготовила вкусную еду и села ждать. Она хотела праздника.
Вернулся Художник поздно.
– Зачем это? – спросил, увидев накрытый стол.
– У нас будет ребенок, – улыбнулась она. – Ты рад? У нас начнется совершенно новая жизнь, представляешь?
– Представляю, – буркнул он и, быстро раздевшись, рухнул в постель.
Она накрыла еду салфеткой и сказала себе: «Он просто устал. Праздник будет завтра».
А он снова не спал. Всю ночь его душили кошмары. Он думал о том, что у людей с убитым будущим не может быть детей. Не должен рождаться ребенок, если его не ждет впереди ничего, кроме мучений. Невозможно рожать жертву. Невозможно производить корм для этой всесокрушающей массы.
Едва лишь небо порозовело, и первые птицы нервно запели под окнами, художник поднялся, взял нож, привычно сжал его в ладони и мягко опустил жене в самое сердце. Она не вскрикнула даже.
Затем он отпер все замки, сел на пороге и, облегченно вздохнув, уселся ожидать конца…
…Сторож замолчал и выпил.
Ночь накрыла нас обоих, поглотив все звуки, цвета и запахи, отделив нас от остального мира, объединив.
Не могу сказать, чтобы рассказ сторожа меня потряс. Нет. И дело не в том даже, что он показался мне излишне мелодраматичным. Просто эта история всего лишь подтвердила то, что я и так знал: нас, людей, уже давно нет на свете. Количество страха в наших душах перешло какую-то допустимую норму и дало иное качество. Люди, которыми движет страх, это уже не люди, а какие-то иные, доселе неизвестные природе, существа. Мы-то, дураки, все пытаемся думать о себе, как будто мы – люди, все пытаемся законы человеческие соорудить. А мы нелюди давно. Вот и все. Спасибо сторожу, что еще раз напомнил: выхода нет. В том смысле, что глобального выхода нет, а в жизни личной… Надо же все равно как-то спасаться, как-то жить.
– А в кооператив к вам нельзя устроиться? – спросил я.
– Кем бы ты хотел работать!? – задал он неожиданный вопрос.
Насколько мне известно, их кооператив специализируется на таких придурках, как я, и ни на чем другом.
– Как это: кем? – я выпил еще рюмку. – Сторожем, конечно. Я и поговорить могу, и стрелять умею. Правда, вот оружия у меня нет.
– Оружие нынче – большой дефицит, – вздохнул сторож. – Но только я тебе, как человеку интеллигентному, а потому мне симпатичному, скажу: не надо идти в сторожа, иди лучше в страхопроизводители. Поверь мне: это профессия, за которой – будущее. Конечно, она не простая. Чтобы людей испугать, надо все время разные способы придумывать. Человек – он ведь ко всему привыкает. Но это ведь – настоящее дело! Думаешь, зря я свою таблицу способов запугивания заполняю? Тоже в страхопроизводители пойду. Полезное это дело – за ним будущее.
– А страхопроизводители где работают? – поинтересовался я на всякий случай.
– Так в нашем же кооперативе и работают, – сторож даже руками всплеснул: мол, какой непонятливый. – Даже в нашем, склонном к панике, городе, мы без них погорели бы давно. А так – хорошо все организовалось: они заражают людей страхом, а мы – лечим. – Он хитро посмотрел на меня. – Тут, главное, до конца вас не вылечить, а то мы без работы останемся. Кстати, страхопроизводители и оплачиваются лучше, и премии у них – каждый месяц.
– Как же так! – пришло время удивляться мне. – В одном и том же кооперативе и пугают и помогают от страха избавиться?
Сторож посмотрел на меня взглядом человека, увидевшего в собственной квартире мышь, и сказал:
– Ты чего, парень, первый год живешь, что ли? Не знаешь, как все это делается у нас в городе?
Я представил, как они собираются на совещания – должны же быть у них там совещания – и сначала докладывают, как пугают горожан, а потом – как борются со страхом. Действительно, здорово все устроено.
…Утром он отдал мне квитанцию. Я расписался. В графе «отзыв о проделанной работе», написал: «Большое спасибо», и зачем-то добавил еще: «Понравилось».
Что понравилось?
– Опять загрустишь – звони, – сторож улыбнулся и вышел.
Начинался новый день. И мне хотелось только одного: дожить его до конца.
ПЛАНЕТА НОМЕР НОЛЬ
Повесть
1
– Ты можешь мне объяснить, чего тебе не хватает? – раздраженно спросил отец и вытер о брюки жир с пальцев; он не отличался изысканным воспитанием. – Почему ты задумал это идиотское путешествие именно сейчас?
– Потому что сегодня исполняется ровно десять лет с того дня, как первая экспедиция не вернулась с Планеты номер ноль. Завтра начинается новое десятилетие в освоении планеты. И открою его я, – ответил сын, раскуривая трубку.
А что он мог еще ответить? Что ему существенно не хватает в жизни? Но как объяснить это отцу, который в ранней юности нашел себя, а потом только и делал, что тратил?
– Это ж надо было вырастить такого идиота! – Отец вскочил и включил телевизор.
Шел фильм про любовь. С экрана веяло запахом весенних цветов. Отец сразу успокоился.
– Ты посмотри-ка, посмотри, какая у бабы грудь, – захохотал отец. – В груди ведь что главное? Объем. Я вообще так думаю: у бабы должно быть много того, чего у мужика нет, то есть – грудь побольше и волосы подлиннее. А у мужика, само собой, тот орган должен быть побольше, который у бабы вовсе отсутствует. Правильно я говорю?
Но вот персонажи на телеэкране перестали ласкать зрительское вожделение и обратились к зрительской душе; заговорили об изменах, верности и чувстве долга.
Отец отвернулся от телевизора.
«Если он завтра не отвезет меня – все может сорваться, – подумал сын, – один я растеряюсь. Надо с ним поговорить хоть о чем-нибудь. Отец злится, когда я молчу».
И сын сказал первое, что пришло ему в голову:
– Знаешь, отец, чем больше я читаю про прошлое, тем больше удивляюсь: как все-таки мало изменений принесла с собой наша суперцивилизация.
– Перестань! У нас построили общество, в котором каждый человек может делать то, что ему хочется. Может и вовсе ничего не делать – как ты, например, – и жить припеваючи. А посмотри на мою работу. Топливо Серова перевернуло космонавтику, мы не только открыли множество планет в иных Галактиках, но и освоили все эти миры, оборудовали их для собственной пользы.
– Не все. Планета номер ноль нам пока так и не подчинилась.
– Это твоя любимая планета – черт с ней и с тобой! Хотя на самом деле ее как бы нет: во-первых, она безымянна, а во-вторых, вроде и без номера, вне наших подсчетов.
Они сидели друг против друга: старый пилот и его молодой сын. Впрочем, старый пилот вовсе не был старым. Он мог отжаться от земли столько раз, что зрителям на пляже надоедало считать. Он по-прежнему ловил на себе любопытные взгляды женщин, которые годились ему по крайней мере в дочери, и когда ему становилось особенно скучно – позволял улыбнуться в ответ. Обмен улыбками завершался весьма бурными ночами. Если бы не закон, он мог бы еще прекрасно работать. Но закон гласил: до 50 лет человек может заниматься, чем ему угодно, но после 50-ти обязан отдыхать. Ибо есть время для работы и есть время для отдыха. Работающие старики в свое время уже наделали немало бед…
А сын не был воистину молод, если, разумеется, считать молодость не прожитыми годами, но той невостребованной энергией, которая должна клокотать в молодом организме и требовать выхода. В сыне не клокотала. Он производил впечатление человека, которого только что разбудили, и он совершенно не понимает, кто и с какой целью это сделал. Единственное, что делал сын с удовольствием, – это читал и разговаривал. У него не было любви – хотя бы такой, о которой можно тосковать. У него не было дела. У него ничего не было, кроме тщательно упакованного в лень тщеславия. Но годы развернули тщеславие, и тогда сын посмотрел на небо.
Отец не очень-то верил, что сын способен совершить подвиг. Опыт жизни подсказывал старому пилоту, что, во-первых, подвиги давно уже никто не совершает, ибо в хорошо организованной жизни нет места подвигу. А во-вторых, подвиг, как женщина, требует, чтобы к его приходу хорошо подготовились, иначе можно опростоволоситься.
С экрана снова повеяло весенними цветами: герои фильма перешли от слов к делу. Камера подробно разглядывала женскую фигуру, отец с удовольствием занимался тем же.
Сын посмотрел в стеклянную стену дома. Красные лучи солнца, отражаясь от многочисленных стекол, скакали по чистым улицам, прыгая то на бесшумно двигающиеся машины, то на одиноких пешеходов с собаками.
«А вдруг это мой последний вечер на Земле», – подумал сын со смешанным чувством тоски и гордости.
А вслух сказал:
– И все-таки, отец, разве появилось в нашей жизни что-нибудь такое, чего не было, скажем, лет сто назад? Все стало больше. Всего стало больше. И вся разница? Ты ведь еще, наверное, помнишь, как еду пытались заменить таблетками, а экраны телевизоров делали во всю стену?
– Ну, – буркнул отец. – Ты погляди лучше, какая задница! Это что же надо с собой делать, чтобы при такой талии была такая задница?
– Пытались, – продолжал сын. – А не вышло. Потому что привычка оказалась сильнее прогресса. – Сын бросил пустую банку в стену, и банка мягко растворилась в стене. – И мы по-прежнему ломаем курицу, потому что нам это нравится, и смотрим небольшие экраны телевизоров, потому что только небольшой экран создает уют. И даже вопрос: «Для чего жить?» никуда не исчез, хотя, казалось, в нашей стране есть все условия, чтобы жить в полное удовольствие.
– Ты мешаешь смотреть кино, – отрезал отец.
Сын замолчал. «Как объяснить моему родному отцу, – думал сын, – что человек не может проживать жизнь бессмысленно? Мне тридцать лет, но если бы я сегодня предстал перед Господом, мне нечего было бы ему ответить на вопрос: „Зачем ты жил? Что ты сделал?“ Вот ведь сколько прогресс всего наотменял, а Бог – остался. Потому что Бог – это смысл, оправдание жизни. Надо стать великим человеком, совершить великое дело, чтобы предстать перед Богом совершенно спокойно».
А отец смотрел в телевизор и думал: «В сыне – частица меня. Удивительно, что он взял всякую ерунду, а стоящего – не ухватил».
Но вслух отец сказал совсем другие слова:
– Ненавижу, когда ты философствуешь! Завтра ты сядешь в аппарат, который, в сущности, не знаешь, нажмешь три кнопки и окажешься там, где тебе надо. Понял? Вот что такое прогресс!
По телевизору пошли новости. От экрана ничем не пахло: новости не пахнут.
– Сегодня исполнилось ровно десять лет с того дня, когда последняя экспедиция не вернулась с Планеты номер ноль, – сообщил диктор и вздохнул. Вздох его был хорошо отрепетирован. – Сегодня у нас в гостях известный исследователь космоса, чьи труды…
– Ну, вот, – сын раскурил потухшую трубку. – А ты говорил: забудут про эту дату. Все-таки помнят еще про мою Планету.
Отец ничего не ответил – он слушал. И отец и сын знали: ничего нового им не сообщат, новостей просто не могло быть. Но все, что касалось Планеты номер ноль было им интересно.
– Напомню суть дела, – длинные пальцы ученого бегали по столу, словно искали точку опоры. – Планета номер ноль находится относительно близко к Земле, однако, после того, как несколько экспедиций не вернулись с нее, нам пришлось прекратить исследования. Мы занялись иными, более важными делами, приносящими практическую пользу нашему хозяйству.
– Если не ошибаюсь, все экспедиции, посланные на Планету номер ноль, исчезают? – спросил диктор, всем своим видом показывая, что ошибаться он не может.
– Вы правы, – вздохнул ученый.
И отец и сын знали: все экспедиции благополучно совершали посадку, вступали в контакт с разумными существами, судя по всему, очень похожими на людей, после чего связь с ними пропадала.
– Есть ли у вас объяснения этому феномену? – хитро прищурившись, спросил диктор.
У ученого, конечно, не было никаких объяснений, и поэтому он начал издалека:
– Последние слова, которые передавали пилоты всех экспедиций, очень похожи. Это слова одобрения и привета, типа: «Не волнуйтесь. У нас все хорошо», – после чего связь с ними исчезала. Возможно, пилоты связывались с Землей под гипнозом. Возможно, землян заманивали на загадочную планету, и они остаются там по доброй воле. Однако, трудно себе представить, чем можно, сегодня заманить людей…
– У нас ведь на Земле все есть, мы ни в чем не нуждаемся, – пояснил диктор.
Ученый не обратил на его слова никакого внимания.
– Мы пытались послать на Планету номер ноль автоматические станции, но связь с ними прерывалась, как только станции достигали поверхности Планеты. Сегодня проще и логичней не продолжать исследования, а вычеркнуть Планету номер ноль из наших изысканий, расчетов и планов, а затем и из нашей памяти. Но имена тех пилотов, которые отдали свои жизни на благо науки, отныне и навсегда золотыми буквами вписаны в историю Земли.
Запахло горячим воском, пламя свечи озарило экран, и один за другим стали возникать портреты пилотов.
– Последний иконостас Земли, – сказал сын.
– Чего сказал? – не понял отец.
– Наши последние святые. Святым можно стать только после смерти.
– Это парни, которые надеялись только на себя, на свои силы, – жестко сказал отец. – Парни, которых нельзя было ни испугать, ни заманить. Они не святые, они – рыцари. Тебе, который так любит исторические книжки, должно быть известно это слово.
– Так, значит, завтра?
Отец ничего не ответил.
2
Утро было туманным и седым. В этот ранний час улицы города казались длинными коридорами огромного нежилого дома.
– Какую машину берем? – спросил отец.
Можно было взять любую – сын не видел разницы.
– Эту, – открыл он дверь стоящего рядом автомобиля.
– На красном не поеду ни за что, – возразил отец. – Цвет крови – только несчастья приносит.
Они сели в огромный белый кадиллак. По привычке сын протянул руку, чтобы включить автоводитель, но вспомнил: отец предпочитает водить сам.
Лучи фар пробивали туман, словно иголки папиросную бумагу. Туман клочьями летал по городу. Сквозь клочья тумана пыталось пробиться солнце.
В общем все было привычно: деревья за окном, разумеется, проносились, небо, само собой, навевало, ветерок, как водится, освежал. Сын думал о том, что этот лирико-банальный пейзаж – единственное, что оставляет он на Земле. За свою, почти тридцатилетнюю жизнь, он ничего не нажил, ничего не приобрел. Бог дал ему отца, Бог отобрал у него мать. Родители дали ему жизнь. А он ее тратил. Погибнуть на Планете номер ноль и войти в список последних святых Земли куда приятней, чем жить, постоянно мучаясь ощущением бессмысленности жизни. И те, кто не верил в него, – в первую очередь отец – поймут, что он просто копил силы для поступка – единственного, но бессмертного.
Размышления эти сыну очень понравились, и он даже пожалел, что не записал их для потомков.
Указатель в виде огромной, неестественно рыжей ракеты показывал правильное направление пути – космодром.
Около развилки «Метьешерово-!» и «Метьешерово-2» отец невольно притормозил. Отец привык поворачивать направо, ведь именно с «Метьешерово-2» отправлялись рейсы на далекие планеты. Отсюда приятно было улетать, и сюда приятно возвращаться.
Но сегодня улетал не старый пилот. Старый пилот больше уже никогда и никуда не полетит.
Взвизгнув тормозами, машина повернула налево.
После «Метьешерово-2» космодром близких полетов показался отцу маленьким и несолидным. Миновав здание космодрома, отец и сын вышли на летное поле.
Ракеты стояли ровно, как солдаты в строю. И, словно солдаты, казались абсолютно одинаковыми.
Они выбрали третью ракету с краю. Поднялись на лифте, постояли на площадке. Сын знал: он непременно должен бросить на Землю прощальный взгляд – такова традиция. А традиция – это то, что ни один пилот не нарушит.