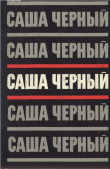Текст книги "Самоубийство Земли"
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Глава девятая
1
– Великий Свет… – Безголовый замолчал, вслушиваясь в тишину.
«Все-таки нет на свете ничего более приятного, чем эта величественная тишина ожидания, – подумал он. – Разве что – речь Воробьева».
Он улыбнулся Воробьеву и закончил:
– Включить!
Вспыхнул желтый свет, озарив белую небесную гладь потолка над Безголовым, улыбающегося Воробьева справа от него и хмурого Безрукого слева. Перед глазами Великого Командира застыли стройные золотые ряды, где-то вдалеке скучилась серая масса плюшевых.
– Барабаны! – пауза повисла над площадью. – Впе-е-еред!
Из золотых рядов вышел отряд барабанщиков. Тугие удары разнеслись над площадью.
Воробьев наступил на ногу Безрукому – то был сигнал.
Безрукий тотчас поднял руку: барабаны смолкли.
– Граждане нашей мало страдальной Великой Страны! – обратился Безрукий к собравшимся.
На эти простые слова солдаты ответили троекратным «Ура!», а плюшевые – аплодисментами.
Выслушав положенные по процедуре Почетной Казни излияния восторга, Главный Помощник продолжил:
– Граждане! Великий Командир высказал желание обратиться к вам и сказать целый ряд слов. И вот мы все вместе, коллективно должны решить: разрешим ли мы нашему любимому Великому Командиру обратиться к нам с речью?
Золотые трижды крикнули «Ура!». Плюшевые захлопали.
– Позвольте считать ваши звукоизлияния за разрешение? – одновременно как бы и спросил и ответил Безрукий, а затем обратился к Безголовому. – Ну что ж, Великий Командир, народ позволил тебе сказать ему несколько слов. Говори!
Безголовый подошел к микрофону, изо всех сил стараясь держаться скромно.
Золотые трижды крикнули «Ура!». Плюшевые похлопали.
Великий Командир вынул из кармана речь, написанную Воробьевым, откашлялся, улыбнулся и начал:
– Граждане Великой Страны! В первых словах моей речи позвольте поблагодарить вас за разрешение выступить перед вами. Я вижу в этом фактике глубокий смысл: кто бы еще вчера мог представить, что Великий Командир должен испрашивать у народа разрешения обратиться к нему? Но сегодня это уже стало реальностью, более того – нормой. Подними голову.
Прочитав последнюю фразу, Безголовый понял, что ошибся. Не зря ведь два слова были написаны в скобках: их не надо было зачитывать – их надо было исполнить.
Впрочем, ошибки никто не заметил, Безголовый улыбнулся, откашлялся, и речь его снова потекла над площадью:
– Наша малострадальная страна вступила в новый, невиданный доселе этапчик. Признаемся и себе, и любому, кто нас спросит: никогда еще наш великий народ не был так счастлив, как сегодня. Вот мой вопросик: а что делает счастливым настоящий народ? Возможен лишь один ответик: настоящий народ счастливым делают перспективы. Они у нас, скажем прямо, появились, количество их день ото дня растет, что еще раз доказывает истинность нашего государства. Нами уже немало сделано, и сделанное открывает широкие перспективы. С помощью Пункта Всеобщего Увеселения мы осчастливили плюшевых: каждый может убедиться, как нынче радостно улыбаются они! Сегодня любой гражданин может, согласно Приказу, доставить радость другому – значит, радости в нашей стране прибавилось. Больше, без сомнения, стало мыслей, ибо стоит приказать кому-нибудь думать, и он – заметьте, это может быть любой гражданин – немедленно начинает мыслительный процесс. Могли ли мы еще вчера даже мечтать об этом? С утроенной энергией продолжается освоение потолка. Уже есть несколько кандидатов, борющихся за право первым ступить на неизведанную поверхность над нашей головой. С другой стороны, мы продолжаем осваивать наше прошлое. Эта нелегкая задача, которая, требует от каждого концентрации всего, что он может сконцентрировать, рождает множество проблемок.
Мы хотим, чтобы с прошлым у нас все было понятно, чтоб не возникало никаких недомолвок. Кое-кто сомневается: а так ли уж был велик Великий Конвейер и был ли он вообще конвейером по большому счету? Хорошо. Поспорим. Обсудим. Важно, чтобы не было скоропалительных выводов, бездоказательных тезисов, рассчитанных только лишь на сенсацию. Освоение прошлого требует самого серьезного подхода. Подними головку.
Безголовый опять ошибся, но этого снова никто не заметил.
После процедуры одобрения он сказал:
– Признаемся, что во всех этих заслугах не последняя роль принадлежит нашему Последнему Министру, который много сил отдает укреплению нашего Великого государства. Подними голову, пожми мне руку, улыбнись.
Сказав эти слова, Великий Командир потратил еще некоторое время на обдумывание сказанного. После чего улыбнулся, пожал руку Воробьеву.
Переждав процедуру одобрения, которая на этот раз повторилась дважды, он продолжил:
– В настоящих государствах есть хорошая традиция: не давать в обиду руководящие кадры. Мы не намерены отступать от нее. Мы должны со всей законной, конечно, но строгостью спросить с тех, кто хоть и отвечает за жизнь руководителей, но делает это недостаточно активно. И если кто-то отвечал за жизнь Последнего Министра, но в должной мере не обеспечил, то разве мы вправе? Любой даст только такой ответик: нет, не вправе, конечно, а наоборот, должны… Теперь я спрашиваю вас: кто в последнее время отвечал за жизнь нашего Последнего Министра? Кто? – я спрашиваю вас. И сам же отвечаю: кто отвечал – тот и ответит за все. Будьте уверены. Подними голову.
2
Шаги Матрешиной гулко отдавались в опустевших улицах. Шла она быстро, стараясь не думать о том, что из ее странной затеи вообще может ничего не получиться.
Сзади послышался шорох. Матрешина испуганно обернулась: никого, почудилось.
Поворот. Еще один. До цели оставалось совсем немного. Но тут впереди мелькнули мундиры золотых. Матрешина рванула чью-то дверь, затаилась за ней.
Солдаты проходили так близко, что Матрешина вполне могла достать до них рукой.
Со стороны площади раздалась барабанная дробь.
– Раз казнят – значит жизнь идет, – радостно сказал один солдат. – А что за Счастливец подвергнется сегодня Почетной Казни?
– Плюшевый, говорят, – ответил второй.
– Да бросьте вы оба! – возмутился третий. – Не может быть! Если плюшевых начали подвергать Почетной Казни – страна на грани развала! Я вам точно говорю, такая демократия до добра нас не доведет!
Патруль исчез за углом.
Матрешина перевела дух и выскочила на улицу. Теперь ей показалось, что каблуки грохочут так, словно все улицы превратились в подворотни.
Она сняла туфли и побежала. Бежать босиком было невыносимо тяжело, тысячи маленьких иголочек впивались в пятки, каждый шаг отдавался болью…
Поворот. Еще один.
Матрешина остановилась перед домом Петрушина и перевела дыхание.
Домик казался избитым и искалеченным: окна выбиты, вокруг мусор, даже стены, кажется, и те покосились. Лишь дверь почему-то плотно закрыта.
Матрешина обернулась – никого. Пустая улица. Вдали, на площади, грохочет барабан.
Она медленно открыла дверь и вошла…
Поняв, что речь его наконец-то подходит к концу, Безголовый безо всякой команды поднял голову и улыбнулся.
– Заканчивая свою речь, – радостно сообщил он, – которую, напомню, я произносил по решению народика, хотел бы подчеркнуть следующее: кто бы еще вчера мог представить, что плюшевый вот так запросто придет сюда, к нам, и подвергнется Почетной Казни? А сегодня это уже стало реальностью. Сейчас мы с вами понимаем: ничто не в силах помешать нам оказать Петрушину эту особую честь. Вдумайтесь: плюшевый подвергается не поруганию, не наказанию даже, а Почетной Казни! И это прекрасный символ демократических преобразований, происходящих у нас в стране.
Троекратное «Ура!» и аплодисменты ответом Великому Командиру.
– Барабаны… – Безголовый выдержал паузу, подобающую торжественности момента. – Вперед!
Тугие удары разнеслись над площадью.
Безголовый привычно набрал в легкие побольше воздуха – перекричать барабанщиков дело нелегкое – и властно крикнул:
– Счастливца ввести!
На площадь вышел аккуратный, словно по линейке построенный квадрат золотых солдат: двое впереди, двое – сзади. Между ними – строго по центру – шел Петрушин.
Шел он спокойно, даже излишне медленно, чем постоянно нарушал стройность квадрата: солдаты не могли приспособиться к его ленивому шагу. Руки у Петрушина были заложены за спину, а смотрел он почему-то прямо в глаза Воробьеву. Последний Министр вздрогнул, заметив в глазах плюшевого не мольбу о пощаде, не страх и даже не растерянность – в них легко прочитывалась спокойная уверенность гражданина, хорошо знающего себе цену. Так мог бы смотреть, пожалуй, тот житель Великой Страны, которого ожидало впереди очень важное дело…
Воробьев отвернулся.
Безголовый отыскал в бумажке нужное место и торжественно сообщил собравшимся:
– Сегодня мы подвергаем плюшевого не просто Почетной Казни, что уж само по себе было бы замечательно. Мы подвергаем его самой Почетной Казни – путем поджигания головы.
Воробьев с радостью заметил: услышав эти слова, Петрушин вздрогнул.
Матрешина схватила со стола карандаш и оглянулась на дверь, будто боясь, что кто-нибудь уличит ее в воровстве.
Карандаш… Его карандаш! Конечно, это самая лучшая вещь на память о Петрушине! Карандаш, который помнит тепло его рук. Карандаш – его верный помощник, его, быть может, единственный верный друг.
…Матрешина не спала всю ночь перед Почетной Казнью, а утром вдруг поняла: «Я ведь никогда больше не увижу Петрушина. Никогда не услышу его голоса, он никогда больше не уснет на моем плече. Петрушин ушел из моей жизни навсегда».
Пустая безысходность слова «навсегда» поразила Матрешину до такой степени, что она решила непременно прийти сегодня в дом Петрушина и взять что-нибудь на память. Ей казалось, что таким образом она победит глупую безысходность.
Теперь Матрешина сжимала карандаш в руках и испытывала если не радость, то бесконечное удовлетворение.
Но тут взгляд ее упал на исписанные листы, которыми был усеян стол.
Безрукий понимал: речи закончены, и, значит, в процедуре Казни наступает самый ответственный момент. Поняв это, он почувствовал в коленях нервную дрожь.
Сегодня можно было ожидать самых непредвиденных осложнений.
Ведь у солдат не было опыта совершения самой Почетной Казни, то есть казни путем поджигания головы. Вдруг что-то не сладится: трудно ведь без опыта. Кроме того, Воробьев решил обойтись без традиционного ритуала протеста, но, кто его знает, что придет в голову плюшевым. А если придет что-то не то – кто будет виноват? Разумеется, он – Главный Помощник.
После неудачного покушения на Воробьева, после того, как Безрукий столь откровенно высказал свое отношение к Последнему Министру, жизнь Главного Помощника, как ни странно, вовсе не изменилась. Его не посадили в тюрьму, даже не отстранили от дел. Он был нужен на своем месте. Для того, чтобы во всех неудачах в жизни Великой Страны было кого винить.
Сначала он только подозревал это, догадывался, но однажды через свое потайное окошко услышал, как Воробьев наставляет в очередной раз Великого Командира: «Вот еще одно правило, которое ты должен вписать в „Руководство по руководству руководством настоящим государством“. Великий Командирчик, нет сомнения, что ты воистину велик, но даже такой великанчик, как ты не застрахован от ошибочек. Такова диалектика. Однако народик должен обвинять в них кого угодно – только не тебя. И вот тебе правило: „В настоящей стране рядом с правителем обязательно должен быть тот, кто в глазах народика будет всегда и во всем виноват. Это сильно поднимает авторитетик Великого Командирчика. Такой руководитель нужен еще и для того, чтобы было с кем выгодно сравнивать Великого Командирчика. Конечно, я мог бы взять на себя эту сложную задачку, но, мне кажется, есть кандидатурка получше“».
– Безрукий, – радостно выдохнул тогда Великий Командир, как всегда уверенный, что это он сам так здорово во всем разобрался…
И вот теперь, пожалуй, впервые в жизни, Главный Помощник смотрел на обряд Почетной Казни с некоторым страхом.
«Важно, чтобы он именно с головы загорелей, обязательно с головы, – нервно думал Безрукий. – А если вдруг сорвется что-нибудь? Кто его знает, как горят головы плюшевых… Тут ведь самое главное, чтобы сначала голова занялась, а хворост, чтобы – потом, после».
3
– Что ж я, дура, сразу не догадалась, что делать надо… Хотела, видишь ли, себе ведь на память оставить, идиотка! – Матрешина отбросила карандаш и стала собирать исписанные листы в одну кучу. Каждый листок казался невероятно тяжелым, и с трудом перемещался по столу. Но Матрешина не обращала на это внимания. – Тут не вспоминать надо – действовать, – убеждала она себя. – Вдруг еще не поздно? Вдруг они прочтут это и поймут, что Петрушин – гений, а гениев нельзя убивать – их и так мало.
Матрешина почти не умела читать, и поэтому не могла оценить написанного Петрушиным. Но она была твердо уверена: Петрушин мог написать только гениально.
Пачка листов казалась просто неподъемной, словно это не бумага была, а каменная плита. Матрешина подняла ее двумя руками.
Она несла листы на вытянутых руках, и руки скоро онемели. К тому же идти босиком становилось совсем невыносимо, хотелось присесть, хоть немного отдохнуть. Но Матрешина понимала: дорого каждое мгновение. Жизнь – ведь это такая штука: опоздаешь на секунду, она обидится и уйдет навсегда.
Солдат ходил вокруг Петрушина, сверкал глазами, махал факелом у самого его лица, но никак не мог поджечь голову. Оказалось, что поджечь гражданина Великой Страны все-таки куда труднее, чем запалить хворост у него под ногами.
Петрушин всего этого не видел. Как только вспыхнул факел в руках солдата, он попрощался со всеми и потерял сознание.
Толпа плюшевых чуть придвинулась на солдат, решив, очевидно, все-таки выразить протест. Может, по привычке, а может… Кто знает?
«Начинается, – подумал Безрукий. – Что ж у нас за страна такая? Казнить как следует, вовремя и без эксцессов – и то не можем».
Толпа плюшевых волновалась все больше. Солдаты подняли ружья прикладами вперед.
– Может, срочно заменим самую Почетную Казнь просто Почетной? – Робко спросил Великий Командир у своего Последнего Министра.
Но Воробьев только усмехнулся на эти слова и сказал:
– Великий Командирчик не должен принародно менять своих решений. Что нам может помешать? Минутой раньше – минутой позже, какая разница?
Слова эти очень успокоили и Великого Командирчика, и его Главного Помощника.
«Как же я разбросаю эти листы? – думала Матрешина, пытаясь шагать быстрее. – Пожалуй, лучше всего вскарабкаться на памятник Великому Конвейеру и оттуда начать сбрасывать. Впрочем, пока я дойду до памятника – меня арестуют. Что же делать? Что делать?»
Матрешиной хотелось плакать от бессилия – она ничего не могла придумать, но как только дошла до площади, все решилось само: бумажные листы, словно они только этого и ждали, сами вырвались из ее рук и легко взлетели к потолку.
Они летели строго по направлению к домику с белым циферблатом, и все, кто был на площади, словно завороженные, следили за этим странным полетом, ничего не понимая.
Как только листы долетели до домика, из окошка выскочила кукушка и начала куковать с такой яростью и страстью, будто сообщала всем нечто очень важное.
С первым же «ку-ку» листы посыпались на землю, как неживые.
И тут началось нечто странное, загадочное и фантастическое.
Все – и солдаты, и плюшевые – начали спрашивать: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» И, что уже было совершенно необъяснимо, каждый из них услышал свой ответ на этот вопрос.
Они поднимали белые исписанные листы, смотрели в них, – скорей, как в зеркало, нежели как в написанный текст – качали головами.
Вдруг кто-то из золотых говорил: «Пять лет… Всего пять лет… Могу не успеть… Кстати, а что я должен успеть? Что-то ведь должен…» И золотой уходил с площади, повторяя: «Пять лет… Что-то должен… Пять лет…»
Кукушка продолжала свое: «Ку-ку».
Другой поднимал листок, вслушивался в кукование, считал что-то свое, а потом говорил: «Целых два года у меня… Два года, а потом – вечность.» И уходил, повторяя: «Прожить два года перед вечностью… Прожить два года…»
Собакин-большой схватил листок, глянул в него, бросил и убежал, взявшись за голову.
Плюшевые уходили с площади в большой растерянности, и кто-то из них повторял: «Зачем?», а кто-то другой: «Для чего?», и взгляд у них при этом был такой, какой бывает, когда смотришь не на мир окружающий, а в себя.
Безрукий и Безголовый – одновременно – поняли вдруг, что, оказывается, у всех золотых – совершенно разные лица, ну просто абсолютно непохожие. А Безголовый к тому же заметил, что у Мальвининой грустные глаза, оказывается, они не просто красивые и не просто огромные – грустные. «Как же я этого раньше не замечал», – подумал Безголовый и вздохнул.
Кукушка продолжала свое «ку-ку».
Строй, разумеется, расстроился, превратившись в толпу, а затем и толпа разделилась на отдельных граждан. Граждане Великой Страны бродили по площади, бормоча под нос какие-то вопросы, восклицания, а затем уходили с площади по одиночке.
Петрушин пришел в себя, открыл глаза, увидел эту жутковатую картину.
– Эй, – прошептал он. – Куда же вы все?
Но на него уже никто не обращал внимания.
Тогда он закричал:
– Вы что, с ума все посходили? Куда вы уходите? Не оставляйте меня одного!
Матрешина бросилась к нему, обняла, начала шептать в ухо:
– Ты что говоришь, дурачок? Произошло чудо! Теперь ты будешь жить! Ты свободен! – она стала развязывать Петрушина.
– Да, я все понимаю, – сказал Петрушин. – Это – антитолпин действует. Я так и думал, но куда же они все уходят? Мне страшно!
Страшно было и Воробьеву. Может быть, впервые в жизни ему было по-настоящему страшно. Он не понимал, что происходит, – ведь переворота не произошло, и власть у него никто не отнимал. Однако Воробьев точно знал: руководить он сейчас не может, никто ему не подчинится. Воробьев чувствовал, как в глазах его застывают слезы.
И вдруг над Великой Страной раздался голос, подобный грому:
– Ну как вы тут, без меня?
Эпилог
– Не дали все-таки… Не разрешили. И все – отец… Странный какой-то… Говорит, воробьи не поддаются дрессировке. И откуда он знает? Как будто пробовал… Я бы посадил воробья в аквариум и дрессировал бы. Ни у кого нет дрессированного воробья, а у меня был бы…
Так говорил мальчик, складывая оловянных солдатиков в коробку.
Потом он начал ставить на место плюшевые игрушки.
– А где же маленький пес? – спросил он сам у себя. – Был ведь вроде… Большой вот есть, а маленького нету… Ну ладно, завтра найду.
Потом он убрал все книжки и кубики, взял коробку с солдатиками – она была довольно тяжелая – забросил ее на шкаф, и сказал, обращаясь неизвестно к кому:
– Ничего, ребята, мы еще поиграем…
ДАР СТРЕЛЫ
Стояла плотная, как стена, жара, и человек искал спасения под сильными струями холодного душа; человеку хотелось верить, что струи эти будут столь сильны и добры к нему, что размочат давящую стену и она – пускай хоть на мгновение – рухнет, открыв простор для воздуха. Человек с невероятным трудом стаскивал с себя липкую одежду, а она уже слилась с ним и все-таки отдиралась, как кора от дерева; отбросив тапочки и ступив на кафельный пол ванной, вдруг замирал от непонятного ощущения… Поразмыслив немного, он понимал, в чем дело: кафельный пол ванной оказывался столь же отвратительно теплым, как и старый, полысевший, но все же упорно хранящий тепло ковер, и даже белая ванна, казавшаяся приютом спасительной прохлады, испускала все то же плотное тепло. И человек понимал: он попал в окружение, и настроение его портилось еще больше, и холодные плети душа уже не так радовали, потому что впереди ожидал все тот же теплый плен.
И тогда человек снова надевал клеющуюся одежду, распахивал дверь дома и шел на улицу, по привычке надеясь встретить там прохладу, ветер или дождь.
Разве мало-мальская радостная или светлая мысль может просочиться в голову в эдакую пору? Мысли грустные встают все той же плотной непроходимой стеной, и вся жизнь человеческая превращается в пустое мельтешение между двумя стенами – стеной печали внутри и стеной духоты снаружи: стоит хоть на секунду оказаться в прохладе – как начинают мучить мысли, хоть на миг отрешиться от них и невыносимо давит духота.
Андреев – пусть у моего героя будет такая фамилия, а тратить энергию фантазии на придумывание имени, отчества и фактов его биографии мы не станем, потому что – ни к чему. Мой герой по фамилии Андреев уже давно понял, что из гнетущего состояния зажатости выхода нет, тем более – если уж честно – жара не вызвала, а лишь усугубила ощущение собственной ничтожности и никчемности. Уже не первую неделю душа Андреева жила неспокойно и нервно, словно воробей, спящий ночью на площади большого города и вздрагивающий от каждого легкого шума.
Андреев раскрыл вечно хлопающую дверь на упругой пружине и оказался на улице, где теплый ветерок тотчас же издевательски погладил его по лицу, нисколько не освежая, но лишь напоминая о безысходности духоты.
Ах, Андреев ты мой Андреев! Как же хорошо я тебя понимаю! Я знаю твои мысли и сомнения, и твоя выедающая душу боль мне хорошо знакома, слишком хорошо. Ты уже понял эту незамысловатую истину: сколько бы мгновений ни прожил человек на земле, ему дано испытать одну-единственную трагедию (хотя и в разных вариантах). Называется эта трагедия так: потерять живущего рядом. Больше трагедий нет, за исключением глобальных катастроф. И все сомнения, размышления, метания по любому поводу – не более, чем физкультура души, зарядка для эмоций. Потому что стоит на сцене нашей жизни разыграться этой истинной трагедии, как все остальные печали незамедлительно превращаются в водевиль. Разве не эта трагедия сейчас обжигает тебе жизнь? Стоит ли объяснять ее, конкретизировать, снова превращать состояние души в ситуации, по сути ничего не разъясняющие? Трагедия – это всегда костер, и надо дать ему погаснуть, не надо возвращаться, не надо ворошить…
Я не хочу ворошить костер трагедии, потому что тогда он меня сожжет. Только ведь сегодня исповеди – не популярный жанр. Кто сейчас пишет исповеди, кроме настоящих преступников? Мы сами заслужили свое время – время не исповедей, а покаяний[1]1
Трижды повторяющееся в трех машинописных строках слово «исповедь» указывает лишь на труднопреодолимую автором тягу к этому жанру. (См. сноску к «Поэме без героя» Анны Ахматовой).
[Закрыть].
И что такое искусство в самом деле, как не великий, веками длящийся карнавал, на котором творец прячется под маской образа для того лишь, чтобы потом случайный человек, назвавшийся слушателем (или читателем, или зрителем), разгадывал то, что под маской скрыто. Идет игра. Нарушать ее законы нельзя.
Пусть Флобер, этот гениальный француз, в порыве напрасного откровения признался: «Мадам Бовари – это я!» Все же он придумал спасительную хитрость: спрятал свою душу под маской женского лица.
Но самое замечательное, что, отравив в романе мадам Бовари, он сам почувствовал признаки отравления, – говорят, даже лекаря вызывали. Если это правда – значит связь между маской образа и душой творца – тайна для нас еще большая, нежели все тайны космоса, вместе взятые. А коли так: да здравствует отравление господина Флобера! Наш безумный, наш удивительный, наш прекрасный карнавал продолжается! Здесь так легко перепутать фальшивые лица и настоящие маски…
А между тем Андреев уже превратился в маленькую, едва заметную точку, да и та уже вот-вот растворится в легком дрожании душного дня.
Карнавал продолжается.
…Стояла плотная жара, и ничто вокруг не обещало радостей и удивлений. Даже красивые женщины, которые, будто перелетные птицы, в летнюю пору опускаются в города, чтобы в зимние холода исчезнуть неведомо куда, – даже они не ласкали, а раздражали взор Андреева своей недостижимостью.
Печальный Андреев решил свернуть с гудящего проспекта в какой-нибудь двор, надеясь напиться там, если не водой – то воздухом, а если не воздухом – то тишиной, что в общем-то тоже совсем не плохо.
Однако среди выстроенных, как на параде, зданий нельзя найти ни тишины, ни воздуха, ни даже дворов. Эти дыры пространства в каменной безвоздушности – бездушны и скучны, влекущее и чудесное слово «двор» к ним вовсе не применимо. На асфальтированных пустынях среди домов-гренадеров все ненастоящее: лысая зелень имитирует траву; ржавая, ноющая, как от ран, карусель имитирует игрушку – радость детей; а глядя на разноцветные заплаты машин, раскиданные на сером, понимаешь: тишина здесь тоже ненастоящая.
Андреев нырнул в гулкую подворотню – впереди него, словно разведчик, бежало эхо его шагов – и вдруг оказался в странном месте. Странность места заключалась в том, что это был настоящий двор. Ведь двор появляется благодаря домам, а не деревьям, площадкам и пустоте, как мы иногда наивно полагаем.
Сначала Андреев увидел маленький особнячок, к которому прилепилась огромная стеклянная веранда. Можно было подумать, что она сбежала с какой-нибудь дачи – поглазеть на городскую жизнь, да так и осталась здесь, прижилась.
Андреев замер возле летнего дива, и долго глядел в черные окна веранды, за которыми не было ничего – ни шороха, ни звука, ни тени, – но лишь ощущение чуда и свежести.
Ощущение это непостижимым образом переметнулось из глубин застекленной веранды в душу моего героя, вольготно расположилось там, и Андрееву вдруг стало совершенно очевидно, что сейчас с ним произойдет нечто необыкновенное и чудесное, нечто такое, что представить невозможно, а ожидать – страшно.
Андреев испугался своего предчувствия. Ну ладно, там, в арбатских, например, переулках, или, конечно, на Патриарших прудах – можно ожидать невероятного, хоть и жуткого поначалу, но в результате непременно прекрасного. А что могут подарить бездушные дворы, даже недостойные этого гордого звания? Глупость какую-нибудь, не иначе.
И он решил на всякий случай покинуть неприятное место.
(Бедный, бедный мой Андреев! Ты испугался поверить, что сам себе уже не принадлежишь…)
Однако Андреев заметил краем глаза уже и второй белый двухэтажный особняк – крепкий и аккуратный, словно старик на прогулке. Это был второй родитель двора, и герой мой чувствовал, что особняк этот таинственным образом притягивает его к себе, и нет силы, способной противостоять непонятному притяжению. Он медленно двинулся к старинному дому – испуганный и любопытный.
Еще пытался успокаивать себя: мол, какие странности могут произойти в мире скучных зданий и дворов, к которым эпитет придумывать и то лень? Но чем ближе подходил к белокаменному дому, тем величественней казался ему особняк, и тем явственней ощущал Андреев непредсказуемость и нереальность дальнейших событий.
Массивная застекленная дверь особняка была украшена ручкой в виде головы черта. Взгляд черт имел не добрый, не злой, но внимательный, он глядел прямо в глаза Андрееву и улыбался небрежно.
Андреев с трудом оторвал глаза от ручки и увидел слева от двери черную табличку, на которой большими золотыми буквами было написано:
КООПЕРАТИВ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЕ
Страх тотчас покинул душу Андреева. Увидев привычное, самое, наверное, земное из всех существующих на земле слов – кооператив, Андреев обрадовался так, будто встретил старого друга. Приземленное слово утешило моего героя куда сильнее, чем те непредсказуемые возможности, которые обещало странное учреждение.
Он толкнул массивную дверь – открылась она на удивление легко и бесшумно. Андреев переступил порог особняка, и на него обрушилась тишина и прохлада.
…Надо сказать, что жил Андреев в большом городе, где располагалось очень много учреждений, а в учреждениях – очень много коридоров и все они такие длинные, что, вступив в них, человек неминуемо начинал ощущать собственную ничтожность. И чем более важным ощущало себя учреждение, тем длиннее и шире коридор старалось оно себе выстроить. И кабинеты тоже делались огромными, чтобы вошедший в дверь представлялся тому, кто сидит в кресле за столом – маленьким и недостойным внимания. Таким образом, жизнь людей в учреждениях превращалась в некое соревнование, где одни – приходящие – доказывали, что их истинный человеческий масштаб не соответствует масштабу, заданному коридорами и кабинетами, а другие – сидящие – доказывали, что соответствует.
Андреев не любил соревноваться и в учреждения старался не ходить.
В этом особняке коридора не было вовсе. Андреев сразу попал в уютный холл, ноги его приятно пружинили на ковре, а взгляд скользил по стенам нежно-бирюзового цвета. И ковры, и цвет стен, и мягкие широкие кресла – все было сделано так, чтобы не испугать посетителя, но успокоить его.
– Мы рады видеть вас в нашем кооперативе, – услышал Андреев за своей спиной мягкий мужской голос, и подумал: «Как же это он успел за моей спиной оказаться?»
А потом Андреев увидел человека, описать которого он никогда бы не взялся, ибо только две вещи можно было сказать о нем наверняка. Во-первых, что во внешности его смешались черты совершенно противоположные, а во-вторых, что постичь его вряд ли когда-нибудь кому-нибудь удавалось.
Он был толст, но при этом мускулист и весьма спортивен, его полнота выглядела не забавной, как это часто бывает, не старческой, но вполне гармоничной. Из-под окладистой бороды стеснительно светилась улыбка добродушного хозяина, но взгляд оставался гипнотически властным. Светлый серый костюм сидел на нем отменно, но во всем облике ощущался эдакий налет точно высчитанной небрежности. Что же касается возраста, то определение его казалось делом совершенно бессмысленным и невозможным.
Продолжая улыбаться, человек жестом пригласил Андреева сесть в кресло и повторил:
– Мы рады видеть вас в нашем кооперативе.
Андреев провалился в мягкую упругость кресла.
Хозяин кооператива – будем называть его так, или, пожалуй, еще проще: Хозяин. Так вот, Хозяин погладил бороду, будто выдавливая из щек самые необходимые слова, и начал:
– Я расскажу вам о нашем учреждении и о тех услугах, которые мы оказываем. Я постараюсь быть кратким, но мне придется затронуть некоторые общие вопросы человеческого бытия… Да-да, не удивляйтесь, мир устроен так странно, что человек задумывается о законах жизни – даже собственной – куда реже, нежели о каких-нибудь пустяках.
Андреев подумал: «Надо бы сразу цену спросить… Если кооператив – наверняка чертовски высокая».
Хозяин, между тем, щелкнул пальцами и с потолка заструилась легкая успокаивающая мелодия. Звуки музыки не вбивались в голову, а кружились в воздухе, словно снежинки, создавая настроение спокойствия и благости.
– Итак, вы находитесь в учреждении, которое называется «Кооператив, который может все».
Хозяин говорил голосом спокойным, неназойливым – рассказывал под музыку. Но слова властно проникали в сознание Андреева, откинув все мысли, сомнения, желания.
Андреев слушал.
– Если говорить кратко: мы занимаемся человеческими душами. О, я заметил проблеск удивления или даже разочарования в ваших глазах. Что ж, я предупреждал: нам придется остановиться на некоторых общих вопросах. Разумеется, вы тоже считаете, что душа – это нечто непонятное, необъяснимое, загадочная субстанция, постичь которую смертным не дано? Не так ли? Некий зверь, которого надо все время бояться и все время кормить, только неясно чем. Я знаю, чем накормить этого зверя, но об этом – позже… Вы откиньтесь в кресле, расслабьтесь. Что вы впились руками в колени? Сядьте поудобнее, – неожиданно посоветовал Хозяин, и Андреев понял, что не может его ослушаться. – Итак, о душе. Душа, а точнее – душевное спокойствие, а еще точнее – обретение душевного спокойствия – это смысл человеческой жизни, тот единственный стимул, который подвигает на любую деятельность. Правда, находятся люди, считающие, что жизнь движима беспокойством, само слово «покой» претит их деятельным натурам, о своем беспокойном существе они, как правило, заявляют громко, публично, причем даже тогда, когда их никто об этом не спрашивает. Увы, это одна из запущенных болезней человечества: не соглашаться с очевидным именно потому, что оно – очевидно. Мне приходилось встречать такие бунтующие личности, которые после десятилетий беспокойства обретали счастье в объятиях любимых женщин и понимали: наконец-то они познали истину.