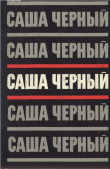Текст книги "Самоубийство Земли"
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Петрушин перебил:
– Я вас очень прошу: об этом не говорить!
– Молчать! – закричал вдруг Безрукий. – Молчать и не перебивать меня! А знаешь ли ты, что ты у Мальвининой не единственный, и что другой ее любовник живет в нашей хижине, и зовут его Великий Командир?
– Перестаньте! – взмолился Петрушин.
– Молчать, я сказал. И вот, когда она приходит к нему, я иногда не отказываю себе в удовольствии сверху, из потайного окошка, поглядеть на ее фигуру, не прикрытую никакими одеждами. Согласись, фигура Мальвининой достойна того, чтобы ее внимательно разглядывать. Я могу рассказать тебе про родинку на левом плече, или еще про какие-нибудь интимные детали, только это будет слишком банально и пошло.
– Перестаньте, – прошептал Петрушин. – Вы врете все.
Главный Помощник захохотал. Хохотал он долго, с удовольствием. Квадратный смех скакал по комнате, больно царапая Петрушина своими острыми углами.
Отсмеявшись, Безрукий сказал:
– Зачем ты прикидываешься? Ты ведь мне веришь. Я просто объяснил тебе твои же собственные сомнения и предчувствия. Или, может, ты никогда не чувствовал, что Мальвинина не тебе одному принадлежит? Не спорю: мужики любят иметь дело с блядями, но при этом надо же понимать, с кем имеешь дело. Знаешь, как называет Великий Командир Мальвинину? Толстушка! Смешно, правда?
– Уходите, – ответил Петрушин.
– Пожалуй, уйду. Думаю, ты понял, сколь непрочны нити, связывающие тебя с жизнью? Я даю тебе еще немного времени, дабы ты окончательно осознал это, а потом придут солдаты и уведут тебя на Почетную Казнь. Тебя казнят как Ответственного за Воробьева, который не обеспечил безопасности Последнего Министра, чтоб ему провалиться. Жители нашей Великой Страны, где Приказ определяет сознание, легко поверят в твою вину. Я прошу тебя, мой друг, об одном: веди себя во время казни спокойно, не порть праздник. Подумай сам: нет же ведь ничего такого, чего тебе было б жаль оставить в этой жизни, не так ли?
4
Как только Главный Помощник ушел, Петрушин сел за письменный стол и зачем-то стал рвать пустые белые листы бумаги. Делал он это спокойно, методично, отрешенно. Рвал на самые мелкие, крошечные клочки и бубнил при этом: «Почему толстая?.. Она ведь худая… Изящная… Вранье… Она ведь худая… Врет он все… Врет… Все они врут…» И рвал листочки. Складывал из них квадратики, и снова рвал, пока бумага не превращалась в белую труху.
А Безрукий, вернувшись в хижину, тотчас лег спать. Он понял, что немного перестарался, доказывая Петрушину бесполезность жизни. В результате он убедил в этом и самого себя, настроение испортилось до такой степени, что оставалось лишь завернуться в одеяло и постараться уснуть, надеясь на избавительную новизну утра.
А пока засыпал – как всегда долго и мучительно – думал про одно и то же: «Кончить бы все это раз и навсегда. Только обязательно, чтобы – раз и навсегда… Кончить-то, оно, конечно, можно – только что ж начать? Что же начать, если это все кончить?»
Глава восьмая
1
После того, как Воробьев с легкостью избежал смерти, он окончательно уверовал в то, что именно в этой стране обретет бессмертие. А раз так, необходимо вносить в «Руководство по руководству руководством настоящим государством» еще больше пунктов, касающихся не только нынешней, но и будущей жизни, дабы не оказаться безоружным перед грядущим.
В одном из огромных залов хижины Последний Министр расхаживал перед Великим Командиром и говорил такие слова:
– Я много думал, Великий Командирчик, плохо это или хорошо, что в державке твоей вовсе нет искусства? Вы используете книжки, как строительный материальчик, но должен тебе сказать: они создавались не совсем для этого… Один из плюшевых, насколько мне известно, пишет стихи, но вы их не издаете. Даже типографии нет в Великой Стране. Безусловно, сегодня эта проблемка мало кого волнует, но ведь надо думать о будущем. Конечно, у нас приказик определяет сознаньице, но кто знает, какой приказик мы решим отдать завтра и что именно определит он в головках твоих подданных? А вдруг однажды кто-нибудь придет к нам и спросит: «А чего это у нас нет искусства? Где оно? Ведь если мы настоящая державка, у нас непременно должно быть искусство». И мы должны уже сегодня знать, что будем отвечать завтра. Потому что настоящий Командирчик отличается от ненастоящих тем, что у него есть готовые ответики на еще не существующие вопросики. Все привыкли: сначала вопросик – потом ответик. Но в настоящем государстве все наоборот: сначала готовится ответ, а затем к нему подбирается нужный вопрос. Итак, в наше «Руководство…» мы должны вписать следующий пунктик: «Наличие в стране искусства означает плохонькую жизнь. Отсутствие искусства означает жизнь прекрасную, заполненную благами». Ты, конечно, понимаешь, почему это именно так?
Безголовый ничего не понимал. Например, не понимал, что такое искусство и чего это вдруг кому-то взбредет в голову спрашивать об его отсутствии в то время, когда в Великой Стране не хватает куда более необходимых вещей.
Но он безгранично верил Воробьеву. И от того, что его Последний Министр знает все и про него самого, и про жизнь его страны, Великий Командир испытывал неописуемый восторг. И чем более непонятно говорил Последний Министр – тем большее счастье разливалось в душе Великого Командира.
А Воробьев продолжал говорить такие слова:
– Итак, Великий Командирчик, ты, разумеется, понимаешь, что суть искусства – это поиск гармонии. Значит, искусство будет процветать в той стране, где гармонии в реальной жизни не существует, Без чего не может жить искусство? Без проблемок. Но! Чем лучше жизнь – тем меньше проблемок, а если в твоей державке искусства нет вовсе, это говорит только лишь о том, что Великая Страна живет прекрасно. По-настоящему, в полной гармонии, без проблем.
Воробьев замолчал, опустился в мягкое кресло, поглядел в восторженные, почти влюбленные глаза Безголового и подумал: «Конечно же, я велик! Мало того, что я – бессмертен, так я еще – единственный из нашего рода, кто не просто наблюдает жизнь, а создает ее…»
И он улыбнулся счастливой улыбкой.
Так и сидели они – Великий Командир и Последний Министр – друг против друга и счастливо улыбались. И было им обоим очень хорошо и покойно. Так хорошо и покойно, что они забыли: жизнь идет даже тогда, когда кажется, что ею управляешь.
2
Как только дверь за Мальвининой закрылась, Петрушин бросился к письменному столу, придвинул к себе бумагу, схватил карандаш.
«Что я делаю? – спросил он себя. – Зачем это все сейчас? И чего я вчера всю бумагу не изорвал, дурак…»
Но рвать бумагу не хотелось – карандаш тянулся к белым листам почти с нежностью.
А казалось бы: Петрушину надо бы сейчас на кровать упасть лицом вниз, отодрать эту проклятую улыбку – в конце концов на казнь можно и без нее идти – и рыдать вволю, рыдать, пока хватит слез. А как кончатся они, завыть от полного бессилия…
Мальвинина и не думала ничего отрицать. Как только Петрушин сказал, что, мол, какие противные слухи про нее ходят – сразу же все и объяснила.
– Почему ты решил, что это – сплетни? Так все и есть на самом деле, – спокойно сообщила она. – Да, я – любовница Великого Командира. Тебе разве это не льстит? Что плохого в том, что мне нравится бывать в этой великолепной хижине, нравится, что первый гражданин Великой Страны говорит мне «ты»… А тебе разве не приятно, что у тебя и у Великого Командира совпали вкусы? Знаешь, что забавно: он все время говорит, что у меня пышные формы, а ты называешь меня хрупкой, изящной и миниатюрной. Из этого я сделала вывод, что я ужасно многообразна. – Мальвинина улыбалась одними глазами – так научились делать все плюшевые.
Петрушин пытался понять смысл того, что говорит Мальвинина. Но у него ничего не получалось. Он не слышал слов. Он представлял, как узкие губы Безголового впиваются в Ее губы, как целуют Ее тело, как его руки ласкают Ее маленькую грудь.
– Ну что, больше не злишься? – спросила Она и начала раздеваться. – Подумай сам, разве тебе будет лучше от того, что мы расстанемся?
– Уходи отсюда вон, – почему-то прошептал Петрушин.
– Ду-ра-чок, – по слогам произнесла она. – Ну и с кем же, интересно, ты будешь теперь заниматься любовью? С Матрешиной, что ли? У нее, между прочим, грудь гораздо хуже моей, хотя и большая, но рыхлая, а шеи и вообще нет.
Одевалась Мальвинина спокойно, пожалуй, даже излишне тщательно. Ходила перед Петрушиным в расстегнутом платье, делая вид, будто что-то ищет в комнате.
Петрушин молчал. Смотрел в окно.
У самой двери Мальвинина оглянулась:
– Когда отбесишься – позови меня, я вернусь. Мне тебя будет очень не хватать.
– Некуда будет приходить и не к кому, – сказал Петрушин.
Но Мальвинина не услышала его. Или сделала вид, что не услышала.
И как только за ней закрылась дверь, он бросился к письменному столу.
«Что я делаю? – спрашивал себя Петрушин. – Надо спокойно ждать завтрашнего дня, когда за мной придут солдаты, и я спокойно выйду им навстречу, и спокойно отправлюсь на Почетную Казнь…»
Но это были уже не мысли – эхо мыслей, отголоски размышлений. Петрушин себе уже не принадлежал. Им владела некая необъяснимая сила.
Петрушин писал.
Время перепрыгнуло через самое себя и устремилось в вечность.
Петрушин писал.
3
В дверь постучали.
– Наверное, опоздавший, – тихо сказал Медведкин, подойдя к двери, спросил. – Кто?
– Я это… – ответили из-за двери. – Как это надо? Истина.
– Кто? – еще раз спросил Медведкин и оглядел всех взглядом, выдающим в нем руководителя.
– Ну я это, я, – повторял голос, без сомнения принадлежащий Клоунов у. – Забыл я, как надо по-новому. – Из-за внешней стороны двери раздалось тяжелое молчание, а затем – радостный крик. – Вера! Вот как надо! Я говорю: вера.
– Отвечаю новым паролем: надежда, – назидательно произнес Медведкин, и только после этого открыл дверь.
В доме Медведкина, понятное дело, висел полумрак. Очертания, разумеется, исчезли, и по-прежнему казалось, что вокруг стола сидят тени. Ощущение чего-то неясного, но чрезвычайно важного, как ему и положено, витало в воздухе.
Совершенно некстати (как, впрочем, и заведено) раздался чей-то храп. Столь приятное и необходимое ощущение исчезло.
– Пупсов? – не то спросил, не то позвал Зайцев.
Храп, как водится, тотчас исчез, и на смену ему пришел уверенный голос Пупсова:
– Потому что только новые цели открывают новые горизонты! Мы прошли торной дорогой, теперь пройдем неторенным путем. И придем, куда надо. Вот именно, куда нам надо – туда именно и придем. Нашей малострадальной Родине новые страдания не нужны. И старые тоже не нужны. Такова моя позиция.
– Мы еще заседание не начали, а ты уже как будто выводы делаешь, – традиционно перебил его Медведкин.
А Зайцев сказал:
– Что касается меня, то я все равно стою за самые жесткие, самые крутые меры. Пережитые мною в застенках мучения еще раз доказали: только террор спасет Великую Страну!
Тень Медведкина возвысилась над столом и важно произнесла:
– Тайное заседание «Тайного Совета по завершению» объявляю открытым. На повестке сегодня один ответ: о новизне текущего момента. Разрешите предоставить слово Председателю Тайного Совета. Кто – за? Против? Воздержался? Единогласно. Спасибо за доверие, слово беру. – Медведкин сделал паузу, приличествующую столь ответственному моменту и продолжил. – Друзья! Как вам, должно быть, хорошо известно: путь наш труден, нелегок, долог, печален. Многих теряем мы на этом пути. Нет среди нас Собакина-маленького, этого гордого летописца нашего пути, этого орла, поднявшегося к высям истории. Как будет не хватать нам его слов и поступков, его коротких, но всегда таких дельных, таких нужных замечаний… Сегодня мы можем смело сказать: именно наша плюшевая среда породила подлинного героя Великой Страны. Предлагаю всем почтить его память.
Серые тени поднялись из-за стола, постояли немного и снова сели.
– Спасибо за почтение, – Медведкин перевернул следующий листок. – Некоторые не пришли сегодня, испугавшись напряженности нового момента. Назову хотя бы Собакина-большого. Что и кому хочет он доказать своим неприсутствием? Не ясно. Или Петрушина – нашего пламенного поэта. Может быть, этот друг испугался того, что ему придется отвечать за свою ответственность за Воробьева?
Услышав эти слова, Матрешина – даже для самой себя неожиданно – начала плакать.
Медведкин по-доброму успокоил ее:
– Не надо слез, друг Матрешина! Будь уверена: у каждого жителя Великой Страны найдется причина для рыданий, а может, и не одна. Но сегодня время требует от нас не слез, а дела! Хотя мы многого достигли – впереди по-прежнему трудности. Но было бы неправильно промолчать сегодня об успехах. Они, как говорится, налицо. Изменили пароль – и это говорит о все возрастающей надежности нашей конспирации перед лицом врага. Мы поменяли название нашей организации, что еще раз подчеркивает непроходящую новизну наших целей. Друзья! Не хочу делать вид, будто знаю, как нам надо жить дальше. Никому – по отдельности – это неведомо. Но всем вместе, я убежден, это известно очень хорошо. Потому-то мы здесь и собрались. Плюшевые всегда жили в непростое время. Такова традиция. Но я не погрешу против истины, если скажу: сегодняшнее время куда непростее всех прочих времен. Так что попрошу высказываться.
– Можно мне? – вскочил со своего места Зайцев.
– Опять по вопросу террора? Об этом позже, – и Медведкин сделал движение рукой, приглашающее Зайцева сесть.
– Я вот тут… это… вот… хотел бы… как говорится… вставить. – Крокодилин кашлянул. – Мы ведь это… как бы почтили память Собакина-маленького. Правильно? Вот… А у нас ведь… это… летописца как бы и нет… Надо бы… как говорится… выбрать.
– Очень дельное предложение, – улыбнулся Медведкин одними глазами. – Какой же смысл вершить историю без летописца? Какие будут предложения?
И снова вскочил Зайцев.
– Я не про террор, – сразу сообщил он. – Я чего хотел сказать-то? У всех ведь есть ответственные поручения, правильно? Каждый за что-нибудь отвечает. И только друг Клоунов – без ответственности. Я предлагаю его – в летописцы.
Услышав это предложение, плюшевые почувствовали неясное ощущение несправедливости, смутные сомнения.
Но Медведкин быстро внес ясность.
– Это ведь хорошее предложение, – объяснил он всем. – Хорошее. Сейчас мы его проголосуем «за», и у нас будет новый Ответственный, новый летописец. Итак, кто «за»? Против? Воздержался? Ничего в темноте не видно… Впрочем, думаю, ясно и так: друг Клоунов вполне может занять подобающее ему место. Вот сюда вот садись, Клоунов – тут у нас всегда летописец сидел – вот тебе карандаши, бумага. Пиши, как говорится, историю.
Вдруг Матрешина вскочила со своего места и закричала:
– А так меня видно? Я против! Я! Слышно? Сволочи вы, а не плюшевые! Гады! Из-за этого труса Собакин-маленький погиб, а вы… – Она подошла к Зайцеву и, потрясая перед его носом кулаком, затараторила быстро и громко. – А ты… Ты… Ты вообще неизвестно как на свободу вырвался. Как мне противно тут с вами, отвратно! – И, хлопнув дверью с такой силой, что у Медведкина отклеился кусок улыбки, Матрешина выскочила вон.
Тут пришла пора вскакивать со своего места Зайцеву.
– Прошу оградить меня, – спокойно сказал он. – Мне трудно продолжать наше общее дело в обстановке недоверия и недоброжелательности. Если у друзей есть вопросы по поводу моего побега, я на них отвечу. Чтобы не было недоговоренности между нами. Все-таки одно историческое дело делаем, друзья…
Небольшая, но страстная речь Зайцева произвела то, что и должна была произвести, – приятное впечатление. Плюшевые наперебой начали успокаивать Зайцева, произнося слова о вере, доверии, общем деле и историчности общей судьбы.
Когда, успокоенные собственными речами, плюшевые затихли, Медведкин сказал:
– Тайное заседание «Тайного Совета по завершению» продолжается. Кто еще хочет выступить?
4
Петрушин откинулся на спинку стула и с удивлением оглядел свой стол, усеянный множеством исписанных листов. Его изумленный и пока еще несколько отрешенный взгляд спрашивал неизвестно кого: «Неужто это все я написал? Неужто я?»
Петрушин посидел так некоторое время, приходя в себя, а затем, повинуясь привычке сразу перечитывать написанное, он протянул руку к листам, но… рука ощутила весьма прочную преграду, словно невидимый забор вырос вдруг над бумажными листами и не позволял их взять.
«Либо я очень устал, либо дело не в этом», – подумал Петрушин.
Встал, прошелся по комнате, расправляя плечи, даже поприседал немного.
Потом снова сел за стол, медленно, осторожно повел руку. Рука снова застыла над листами, наткнувшись на невидимую преграду.
Странное дело, Петрушин не удивился, не испугался, вообще никаких особенно сильных эмоций не испытал.
Поразмышляв совсем немного, он сказал себе: «Я не могу взять листы потому, что мне незачем их перечитывать. Если мне незачем их перечитывать, значит написанные мною слова совершенно не важны. Жанр, язык, стиль, сюжет – что там еще есть из того, что можно вычитать? – все это не существенно. Потому что существенно другое. Что же именно? – спросил себя Петрушин. И ответил сам себе с уверенностью, которая приходит лишь к тому, кто не побоялся поверить озарению. – Важна и существенна та энергия, которую вечность передала через меня в эти листы. Та энергия, которая до сих пор владеет мною, и мыслями моими и чувствами, не позволяет мне сойти с ума от всего происходящего, а наоборот, помогает всю эту фантастику объяснить».
Поразмышляв таким образом еще немного, Петрушин задал себе новый вопрос: «Откуда же я все это знаю? – и сам себя успокоил. – Если я все это написал, то кому ж тогда знать, как не мне?»
Абсолютно успокоенный, забыв и про отчаянье свое и про неизбежную близость смерти, Петрушин лег спать.
И приснился Петрушину сон.
Приснилось ему, будто лежащие у него на столе листы упорхнули в окошко и улетели, словно стая белых в крапинку птиц, а Петрушин побежал их догонять.
И вот как будто прибегает он на площадь к памятнику, а там уже ровным строем стоят солдаты и слушают, о чем говорит им Великий Командир.
Знакомая картина: Безголовый говорит – золотые слушают, периодически прерывая его речь криками «Ура!». Вот тут-то и налетели белые листы-птицы, и начали вести себя до такой степени странно, что золотым пришлось обратить на них внимание, хоть это явно шло в нарушение Приказа.
Сначала листы для чего-то сгруппировались около висящего домика с белым циферблатом, и не будь они плоскими листами бумаги, вполне можно было решить, что они не то совещаются, не то – получают указание.
После чего листы разлетелись в разные стороны, начали скручиваться и превращаться в весьма симпатичные головы. При этом у каждой имелось собственное выражение лица и собственная, абсолютно естественная улыбка.
Головы летали над площадью и подмигивали всем так, как могут подмигивать лишь абсолютно свободные и независимые головы.
Ружья солдат превратились в сачки для ловли бабочек, и золотые бросились бегать, пытаясь поймать в сачок летающую голову.
Строй, разумеется, расстроился, превратившись сначала в толпу, а затем и толпа разделилась на отдельно бегущих солдат.
Великий Командир, Главный Помощник и Последний Министр подбежали к Петрушину, и пока он успел что-либо сообразить – поставили его на памятник Великому Конвейеру.
«Они что решили, будто это я – Великий Конвейер? – удивленно подумал Петрушин. – Да я на него и не похож вовсе».
Но тут Безголовый, Безрукий и Воробьев рухнули на колени, и Петрушин понял: его поставили на возвышение потому, что руководству страны как-то привычней падать на колени перед памятником, нежели перед гражданином.
Руководство страны начало в голос умолять Петрушина, чтобы он хоть что-нибудь предпринял и вернул стройность строю.
Но Петрушин лишь извинительно развел руками и слез на землю: на площади происходил процесс, неподвластный никому.
Каждый солдат, крича и улыбаясь, бегал за полюбившейся ему головой. И чем дальше улетала голова – тем дальше убегал и солдат.
В конце концов площадь опустела: остались лишь Петрушин да руководство страны, медленно поднимающееся с колен.
Поднявшись, Безголовый по привычке решил сказать речь, а может быть, хотел спросить о чем-то. Во всяком случае он поднял руку и… начал бить ею по воздуху с таким грохотом, словно воздух был деревянный. Стук стоял страшный.
5
Петрушин проснулся от громких ударов в дверь. Так мог стучать только тот, кто ощущает себя хозяином жизни.
Петрушин понял: пришли за ним, чтобы увести его из дома навсегда.
Он натянул одежду и, пошатываясь со сна, пошел открывать дверь.
На пороге стояли трое солдат. Три пары совершенно одинаковых, абсолютно равнодушных глаз смотрели на Петрушина.
– Ты, что ль, Петрушин? – спросил один из солдат.
– Я, – ответил Петрушин и посторонился, пропуская золотых. – Проходите.
Золотые начали в три голоса громко и смачно хохотать. Один из них, продолжая смеяться, отшвырнул Петрушина, вошел в дом.
– Мы в приглашениях не нуждаемся, – гаркнул он. – Давай, ребята. Начинай!
Первым делом солдаты разбили окна, затем разбили все, что билось. Затем методично – сантиметр за сантиметром начали сдирать обои со стен, ковыряться в полу. Делали они это как-то вяло, даже устало.
– Вы что-то ищете? – поинтересовался Петрушин. – Может быть, я знаю? Мне вообще-то нечего скрывать.
– Чего надо – то и ищем, – ответил один из солдат. – Ничего не ищем. Порядок такой: пришли арестовывать – надо обязательно беспорядок учинить. Таков порядок – чтоб беспорядок. Ты чего тут, пишешь, что ль? – неожиданно спросил золотой и склонился над бумагами.
Двое других солдат не обращали на действия своего товарища никакого внимания. Они продолжали делать свое дело, добиваясь, очевидно, нужной кондиции беспорядка. Петрушин же внимательно смотрел за солдатом, склонившимся над бумагами, твердо зная, что сейчас должно произойти нечто невероятное.
И оно произошло.
Золотой сначала пробежал взглядом по листам, затем чрезвычайно напряженно начал всматриваться в них, будто что-то искал. Потом он поднял голову – смотрел он теперь так, как будто не окружающий мир наблюдал, а в себя всматривался. В глазах его появилось вовсе не свойственная золотым задумчивость…
– Зачем? – неожиданно спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал. – Что-то тут не так, ребята, что-то не так. – Затем помолчал немного и снова неожиданно спросил. – Сколько сейчас времени? Это ведь так важно знать, сколько прошло времени, а сколько осталось… Надо пойти узнать: сколько осталось. И помните, ребята, что-то не так здесь, что-то неправильно…
С этими словами он выскочил прочь.
Солдаты совершенно не знали, как вести себя в случаях, не предусмотренных Приказом, – их опыт подсказывал, что таких ситуаций не бывает. Но когда все-таки что-то подобное возникало, золотые умело отсекали от ситуации все нестандартное, превращая его в знакомое и ясное.
Сейчас они тоже решили, что ничего особенного не произошло, но, на всякий случай надо отсюда уходить. И тогда хором закричали на Петрушина:
– Чего улыбаешься?!
Петрушин, действительно, улыбался, и эта настоящая улыбка была настолько широка, что приклеенная не могла ее скрыть.
Петрушин вспомнил свой сон, проанализировал странное поведение солдата и подумал: «А может быть, я все-таки изобрел антитолпин? А почему нет? Ведь я знал, что умру; значит ощутил себя на краю вечности, вечность вполне может помочь изобрести антитолпин. К тому же все произошло так незаметно, как и должно происходить с великими открытиями. Вроде все сходится: это антитолпин».
Широко улыбаясь, двинулся он навстречу смерти, совершенно не думая о том, что даже если открытие антитолпина и состоялось, о нем вряд ли кто узнает, ведь время Почетной Казни уже назначено…