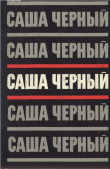Текст книги "Самоубийство Земли"
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава третья
Петрушин положил руки на стол и оглянулся.
На его кровати лежала Она. Она пришла к нему. Она осталась с ним. И самое удивительное: это был не мираж, не иллюзия, и не мечта даже. Она пришла к нему. Она осталась с ним.
Ее худая рука свесилась с постели, одеяло сползло и обнажилась тонкая шея.
Петрушин подошел, поправил одеяло. Снова сел за стол.
Спать не хотелось. Близость с Ней не отняла, но лишь прибавила сил.
«Почему Она пришла? Почему вернулась? – спрашивал себя Петрушин. – А может, она любит? Меня?»
Он прошелся по комнате и снова сел за стол.
«Конечно, – подумал Петрушин уже в который раз, – любовь – это когда тебя заколдовывают. Ты становишься несвободным и даже счастлив этой несвободой. Разве не колдовство? Когда все: и действия твои и мысли, не говоря о чувствах, зависят единственно от Нее, и даже не от поступков, что было бы хоть как-то объяснимо, но от взгляда, от звука голоса, от интонации; все разговоры, споры, все события твоей жизни становятся бессмысленными перед приходом хрупкого существа, властного и беззащитного одновременно, перед дурацкими Ее словами: „Ну вот я и пришла. Ты рад?“ Когда такое – разве ж это не колдовство? По-другому и не назовешь никак. Но от чего же я страдаю? – снова спрашивал себя Петрушин. – От чего мне так неспокойно даже, когда Она здесь, со мной, когда Ее дыхание делает живым дыхание моего дома? А может быть, мы страдаем в любви от того, что никак не можем понять: добрая нас волшебница околдовала или злая? То, что околдовала, – понятно, и даже банально отчасти, но ведь это важно: добрая или злая… Вот и сопротивляемся колдовству, вот и разбираемся в том, в чем вовсе не нужно разбираться, но чем необходимо жить. Боимся попасть в лапы злых волшебниц – пуще смерти боимся – и испуганные, трусливые, с легкостью необыкновенной теряем привязанность волшебниц добрых… Чем колдовство сильно? Верой. А если не веришь в доброе колдовство – оно исчезает, становится обыденностью… А вдруг любовь поможет создать тот самый антитолпин, – радостно подумал Петрушин, но тут же ответил себе: – Нет, Нет! О чем я? Любовь – бескорыстна, ее нельзя использовать. И потом любовь настолько добра, что может лишь притягивать, отталкивать учит отчаяние…»
Мысли путались. Становилось невыносимо думать обо всем этом. Распирали эти бесконечные внутренние диалоги, мучали, требовали выхода.
Он почувствовал, что комната заполнена Ее спокойным дыханием, и он купается в нем.
Что-то легкое, счастливое, нездешнее поднялось в душе Петрушина. Он схватил – не глядя – белый лист. Карандаш сам прыгнул в руку.
Петрушин писал.
И – пошло время.
Ударили часы, висящие под самым потолком. Плюшевые и золотые удивленно глянули на них, совершенно не понимая: к чему этот бой? О чем он? К чему зовет? О чем напоминает? И зачем это выскочила из странного окошка непонятная птичка? И почему она попыталась открыть клюв и крикнуть нечто похожее на звук: «Ку-ку». Что она имела в виду? И почему так быстро исчезла?
Жители Великой Страны не особенно любили поднимать голову и редко обращали внимание на этот домик с белым циферблатом, к тому же жители были уверены, что их мысли все время чем-то заняты, а потому они не задумывались над тем, для чего, собственно, этот домик нужен.
Стрелки стремительно пересекали круг.
Петрушин писал.
Солдаты Великой Страны ходили, дышали, глядели, короче говоря – жили. У них попросту не было другого занятия.
Чувствуя дыхание времени, все напряженней готовились к восстанию плюшевые.
Но и те и другие граждане Великой Страны с печалью замечали вдруг, что жизнь проходит. Уж это совершенно точно: жизнь проходит. Но они старались забыть об этом, потому что не любили думать про неприятное.
Петрушин писал.
Время двигалось. Бежало? Катилось? Шло? Скакало? Неслось? Ему было совершенно все равно, что о нем думают, и как называют то, что оно делает.
Ибо время делало только то, что умеет: двигалось вперед.
Время шло, шло и прошло. Прошло время.
Глава четвертая
1
Луна торчала в темноте ночи одинокой копейкой, и потому навевала грусть. Петрушин смотрел на луну и грустил, однако это занятие ему вскоре надоело, он отвел от луны глаза, глянул в зеркало.
В зеркале он увидел собственное лицо: глаза – собственные, в которых, как всегда, застыла вселенская печаль художников всех времен и народов; нос – собственный, предназначенный, казалось, для того, чтобы, рассекая им воздух, прокладывать путь хозяину; длинные волосы – собственные, рыжие, таких больше ни у кого нет. И только улыбка, долженствующая изображать непроходящую радость, – чужая, приклеенная.
«И чего ж эти правители так хотят, чтобы мы походили друг на друга? Что наш Безголовый, что этот залетный Воробьев… Проще им так, что ли? Антитолпина на них нет…»
Дальше Петрушин развивать эту мысль не стал, потому что не любил размышлять над бессмысленным.
Он повернул зеркало так, чтобы в нем отразилась Она.
Руки у Нее были собственные – тонкие и белые; волосы собственные – пышные, чуть голубоватые и всегда, даже во сне, хорошо уложенные; грудь под тонким одеялом угадывалась собственная и шея. И только улыбка – чужая, приклеенная.
«Сейчас как оторву эти улыбки, не могу их больше видеть!» – Это стремление подняло Петрушина из-за стола, но последовавшая за ним мысль, тут же усадила обратно. – «Ну оторву. А что толку? Первый же встречный золотой отведет в ПВУ. А так осточертело клеем морду мазать».
ПВУ – Пункт Всеобщего Увеселения – был создан, конечно же, по приказу Великого Командира. Но жители Великой Страны знали: с тех пор, как появился Воробьев – все приказы сочиняются им.
Спать не хотелось. Писать Петрушин снова не мог. Что было делать? Чем заняться? Хотелось задуматься о чем-нибудь приятном, утешительном, желательно – вечном.
И Петрушин занялся раздумьями о любви.
«Что же это такое: любовь?» – начал размышлять Петрушин, хотя рассуждать об этом не стал бы ни с кем и никогда. Даже с Ней – не стал бы. Пусть все мысли приходят из жизни – им просто больше неоткуда взяться, но им вовсе не обязательно возвращаться обратно в жизнь, надо же некоторым из них и в душе остаться, чтобы она не пустовала.
«Так что ж это такое – любовь? – продолжал Петрушин свои размышления для души. – Движение или остановка? Течение или берег? Мгновение, которое ценно в самом себе, или время, понять которое можно лишь в его протяженности?.. Вот приходит ко мне Та, кого я люблю больше всего на свете; Та, которая – единственная – может принести в мою жизнь смысл. И Она не только приходит ко мне, но и остается со мной. Не только дарит мне страстный восторг ночи, но и преподносит спокойную радость утра, ибо только эта радость и может принести ощущение спокойствия и постоянства, – а разве не этого ищем мы в любви?.. Но отчего же мне всего этого мало? Почему все время кажется, что, даже бывая у меня дома, она убегает? Почему, когда она выходит из моего дома, я готов броситься за ней, чтобы увидеть, куда она идет? Отчего мне мало того, что есть? Говорят, любовь – вечное беспокойство. Но об этом стихи хорошо писать и романы – жить так нельзя… А вдруг мое беспокойство – это просто-напросто предчувствие? Предчувствие ухода, предвосхищение потери? – Подумав так, Петрушин почувствовал, как легкий холодок поднимается у него от сердца к самому горлу. – Ну хорошо – пусть так. Все конечно, даже любовь. Отчего же мне мало сегодняшнего счастья? Или в любви существует только будущее, предчувствия которого и определяют наше самочувствие, а настоящего у любви попросту нет? Вот если бы я стал каким-нибудь Безголовым или Воробьевым, я издал бы соответствующий Приказ, и тогда все проблемы бы исчезли. Мы жили бы с Ней, согласно Приказу, ни о чем бы дурном не помышляли, не переживали бы ни о чем: ведь это так просто – соответствовать Приказу. Где есть Приказ – там нет проблем, но где есть Приказ – там нет и любви. Не потому ли разные чувства испытывает наш народ к своим правителям: и боязнь, и пренебрежение, и даже уважение иногда, вот только любви не бывает. Потому любовь и приказ не могут пересечься никогда».
И тут Петрушину стало страшно – не то чтобы он испугался чего-то внешнего (сторонний страх победить нетрудно), он испугался себя, собственных своих мыслей. Он вдруг с ужасом понял, что, даже рассуждая о самом интимном – о душе своей, о любви, – все равно рано или поздно в мыслях своих приходит он к правителям, к государству, ко всему тому, о чем не только думать – вспоминать не хочется. Начав размышления с Нее, как-то быстро и незаметно он добрался до Воробьева – этого странного существа, которое перекраивало их жизнь под их собственное неумолкающее «Ура!»
«Неужто я даже в мыслях своих несвободен? – подумал Петрушин испуганно. – Неужели мне от этого Воробьева даже в размышления не уйти? Неужто нигде в нашей Великой Стране нет места уединению? Неужто даже для меня, для одного, нет хоть какого антитолпина?» – Петрушин непроизвольно глянул в зеркало, увидел приклеенную чужую улыбку на своем лице, уронил голову на руки и зарыдал.
Так и сидел за столом, уронив голову. Копейка луны закатилась за облака, а он все сидел – сначала рыдал над этой так называемой жизнью, а потом забылся тяжелым каменным сном.
2
И снился Петрушину Воробьев. Серой бесформенной массой возвышался Последний Министр над Петрушиным, давил на глаза, на сердце, на душу и, как заведенный, повторял одни и те же слова: «Жить. Народик. Лучше. Жить. Народик. Лучше…»
Петрушину казалось, что этот рефрен никогда не кончится, но Воробьев неожиданно упал, начал биться головой о землю – тук! тук! тук! – исступленно крича: «Истина… Истина… Истина…»
Петрушин в ужасе открыл глаза.
Кто-то тарабанил в стену его дома, повторяя: «Истина… Истина… Истина…» И чем чаще повторялось это слово, тем больше исступления слышалось в голосе.
Во сне заворочалась Она.
– Кто это? – сонно прошептали тонкие губы.
– Не волнуйся. Спи. – Петрушин вскочил, натянул брюки, распахнул дверь и прошептал в ночь. – Правда.
– Истина, – раздалось у самого его уха.
Перед ним стояла Матрешина. В ее взгляде перемешались презрение и любопытство. Правда, где-то на самом донышке глаз существовало еще что-то третье – доброе, приятное, – но Петрушин предпочел этого не заметить.
– Ну чего, – спросила Матрешина, – опять, что ль, твоя пришла? Дрыхнет?
– Чего надо? – отрубил Петрушин.
– Тебя, родимый, Медведкин зовет на тайное заседание «Тайного совета по предотвращению».
– По предотвращению чего? – Петрушин тянул время, размышляя, как бы отказаться повежливей.
Матрешина оставила его вопрос без ответа. У нее уже была заготовлена речь, которую она и произнесла.
– Я вижу, друг Петрушин, ты совсем забылся в своей постели. Оно, конечно, под теплым одеялом приятней, чем в общем деле. Только вот, если все мы по кроватям разбредемся, что ж тогда будет с нашей страной? Ты об этом подумал?
«Начинается», – подумал Петрушин.
А вслух спросил:
– Что вам от меня надо?
Из глаз Матрешиной исчезли все чувства, кроме презрения.
– Все ясно, – грозно сказала она, – променял ты, друг, общее дело на индивидуальную постель. Так друзьям и передам.
«А ведь она симпатичная, эта Матрешина, – подумал Петрушин. – Почему-то я этого никогда не замечал…»
А вслух сказал:
– Что хочешь, то и передавай.
– Что хочу? – Матрешина ухмыльнулась одними ноздрями, и сказала тихо-тихо. – Слушай, а может все-таки пойдем, а? Там хорошо так – полумрак. Посидим. Поговорим про важное. Ты на моем плече поспишь, а?
– Я привык дома спать.
«Зачем я грублю?» – подумал Петрушин.
Матрешина отвернулась, и уже через секунду растворилась в чуть подрагивающей темноте ночи. Петрушин зачем-то смотрел ей вслед, хотя ничего не было видно.
Потом он запер дверь, разделся, юркнул под одеяло.
Она сразу же потянулась к нему, будто успела истосковаться, прижалась, обвила тонкими руками. Петрушин начал целовать Ее – сначала осторожно, бережно, боясь разбудить, а потом истово, страстно, забыв про все на свете…
3
Атмосфера в комнате была накалена предчувствиями будущих исторических свершений. За столом сидели плюшевые. Их лица, искаженные одинаковыми приклеенными улыбками, казались немного жутковатыми. В глазах плюшевых светилась решимость идти на все. (Правда, внимательный посторонний взгляд, без сомнения, заметил бы, что точное направление пути в глазах плюшевых пока еще не прочитывалось).
– Какие будут предложения по вопросу, стоящему сегодня на повестке ночи? – В голосе и во взгляде Медведкина при этих словах зазвенело столько металла, что все, сидящие за столом, невольно втянули головы в плечи. А Пупсов даже проснулся. Разумеется, первое, что он сделал, не успев даже глаза как следует открыть, начал речь.
– Что касается меня лично, то, понимая тот факт, что мнение мое – не более нежели мнение одинокого плюшевого, все же хотелось бы сказать. Однако, прежде чем сказать о том, о чем особенно хотелось бы сказать именно в этот, без сомнения, исторический для каждого в отдельности и для всех вместе момент, – думается, имеет смысл сказать, пускай для начала, несколько о другом. Так вот. Знаете ли, друзья, что волнует более всего? Надо признать, глядя друг другу прямо в уставшие глаза, что не научились мы пока еще решать судьбоносные вопросы как должно, как требует того наше традиционно непростое время. Подчас, зачастую, кое-где, порой мы все-таки решаем их неправильно, так как привыкли решать вопросы обычные, к судьбоносным никакого отношения не имеющие! Одним росчерком пера! Реже – двумя. И крайне, крайне редко – тремя росчерками! Нельзя же так, друзья мои! Можно как-нибудь иначе, помня о той ответственности, об этой обстановке и о сложившейся ситуации. Вся Великая Страна подглядывает за нами и очень надеется на нас. А мы… Эх! – Пупсов ударил себя по коленке, сел на место и закрыл глаза, как бы от отчаяния.
– Интересное предложение, – заметил Медведкин. – Нам очень важно сегодня не забывать и про ответственность, и про обстановку, и про ситуацию. Вовремя напомнил нам об этом друг Пупсов, очень вовремя. Спасибо.
Тут со своего места поднялся Крокодилий, метнул на всех недобрый взгляд, дважды открыл рот, но лишь с третьей попытки изо рта стали выскакивать слова, впрочем, выскакивали они как-то порознь, недружно:
– Я не понял… чего это?., усложнять это… чего?.. Ну мы это… Мы как все навалимся вместе, когда… Этого Хранителя Света… как говорится… уберем… Вот… Потом Клоунов… наверх как залезет… как три раза, как говорится, вспыхнет… вот… и победа будет… как это?.. за нами… короче говоря…
Услышав эти простые слова, плюшевые загрустили: дело получалось настолько простым, что за него даже неинтересно было браться. Не было у плюшевых веры в то, что легко свершалось.
И тут вскочил со своего места Зайцев.
– Неужто ты думаешь, друг Крокодилин, что можно вот так, запросто совершить историческое дело? – Прямо и четко поставил он вопрос.
– А чего? – Не унимался Крокодилин. – Выйдем, как говорится, вместе. Снимем. Хранителя… Вот… И это… навалимся… Клоунов… это… влезет… И… как говорится… победа!
– Что-то у тебя все слишком просто? – Зайцев попытался ухмыльнуться, но приклеенная улыбка превратила ухмылку в гримасу. – А ведь сам же перечисляешь такое огромное количество дел, и ведь каждое из них может завершиться печально, а то и просто трагически. Надо вместе собраться, надо идти в полной темноте, надо найти Хранителя Света, надо нейтрализовать его или уничтожить… Список дел я могу продолжить. А сколько нас еще ждет непредвиденных трудностей? А сколько – предвиденных, но не учтенных?
Услышав слова Зайцева, плюшевые с радостью поняли: дело их трудное, почти безнадежное, а значит, без сомнения, стоящее, историческое дело.
Теперь плюшевым стало совершенно ясно, что нужно делать дальше: они начали назначать Ответственных. Делалось это просто, но долго: сначала выдвигали кандидатуру, потом – утверждали голосованием. К тому же плюшевых оказалось меньше, нежели ответственных должностей, и поэтому некоторых плюшевых пришлось утвердить Ответственными за два, а то и за три дела.
Когда процедура наконец завершилась, поднялся Медведкин.
– Возможно, кое-кто со мной не согласится, – сказал он тоном, отвергающим любое несогласие. – Но мне представляется, что мы приняли настоящие исторические решения. Теперь, когда каждый на собственных плечах ощущает всю ответственность за наше общее дело – победа, наверняка придет за нами. А за кем ей, собственно, еще приходить? – Сделав паузу, позволяющую присутствующим оценить сказанное, Медведкин завершил свою небольшую, но важную речь традиционно-демократическим пассажем. – Возможно, у кого-нибудь есть иные мнения, дополнения, суждения?
И тут поднялся Собакин-большой.
– Я целиком и полностью поддерживаю и присоединяюсь. Только вот что я хотел сказать… – Собакин-большой сделал паузу и выдохнул одно лишь слово. – Воробьев.
Услышав эту фамилию, плюшевые снова запечалились.
– Я прошу понять меня правильно, – продолжил Собакин-большой. – Конечно, бунтовать – дело хорошее. Тем более, есть ведь против чего бунтовать. И все же… С тех пор, как появился Воробьев, жизнь наша несравненно стала лучше. Вот, например, мы улыбаемся все время, а раньше улыбались гораздо реже. Или вот еще пример: Дворец теперь называется хижиной, мелочь, казалось бы. Однако, мы больше не завидуем нашим руководителям, потому что нельзя завидовать тем, кто живет в хижине. И каждый из нас теперь может выйти на площадь и сказать все, что он думает. Никто, правда, не пробовал, но не это ведь важно. Раньше мы и помышлять об этом не могли, а теперь – можем помышлять. Так я вот что думаю: может быть, с помощью Воробьева у нас, действительно, успешно строится настоящее, истинное государство? Может, пока подождем бунтовать, а?
Плюшевые совсем загрустили. Жизнь, которая еще совсем недавно казалась такой перспективно-трагической, в секунду обернулась перспективно-простой.
«Куда же теперь девать Ответственных? – задумались плюшевые. – Получается, мы зря голосовали?»
И снова всех выручил Зайцев.
– Я ничего не имею против Воробьева, – сказал он. – Мне тоже очень нравится его должность: Последний Министр. Не каждый, согласитесь, рискнет занять такой пост, с которого отступать дальше просто некуда. И по поводу того, что каждому приятно выйти на площадь и чего-нибудь крикнуть, поспорить, – конечно, так оно и есть. Только вот что, друзья, как-то нехорошо получается: договорились, вроде, бунтовать. Сами себе слово дали. А теперь что ж – отказываться? Нехорошо это, не по-нашему, не по-плющевому.
– А это… как его?.. с этим… как говорится… с Воробьевым что делать? – спросил Крокодилий.
– А что делать? – как бы удивился Зайцев. – Назначим Ответственного за Воробьева – вот и все. Пойдем себе спокойненько бунтовать, зная, что за Воробьева у нас несет персональную ответственность… – Он оглядел всех оценивающим взглядом. – Кто у нас не имеет еще ответственных получений?
– Петрушин не имеет, – раздался тихий голос Матрешиной.
– Но ведь Петрушина нет среди нас! – воскликнул Клоунов.
Его немедленно поправил Зайцев:
– Петрушина нет с нами в территориальном смысле, но в духовном, я уверен, он здесь. Мало ли какие у него сегодня могут быть дела? Но бунтовать он точно пойдет. Итак, ставлю на голосование: назначить Ответственным за Воробьева Петрушина. Кто за? Кто против? Воздержался, может, кто по дури?
Проголосовали единогласно.
Также единогласно решили бунтовать в самое ближайшее время – очень уж хотелось.
4
Как только доносчик ушел, Безрукий снова почувствовал приступ меланхолии.
Надо было спускаться вниз, к Безголовому – готовый очередной секретный Приказ лежал в папке, не хватало только подписи Великого Командира, и он вступит в силу. Безрукий медлил. Он понимал: как только дело решится, придется снова подниматься сюда, ложиться в кровать, а значит опять бессонница.
Бессонница завладела ночами Безрукого с тех пор, как во Дворце появился Воробьев. Конечно, Главный Помощник Великого Командира и раньше редко спал по ночам: он предпочитал вершить ночами те дела, которые боялись дневного света. Но тогда он владел бессонницей, а теперь – бессонница завладела им.
Безрукий прошелся по своим покоям, пытаясь отыскать среди вороха мыслей хотя бы одну приятную. В дверь постучали.
– Кто? – испуганно спросил Безрукий. – Входите.
Вошел солдат, отдал честь, спросил:
– О чем прикажете думать?
– О смысле, – ответил Безрукий, чтоб побыстрей отделаться.
– Есть! – гаркнул солдат, повернулся через левое плечо и вышел.
«Воробьевские штучки, – нервно подумал Безрукий. – И зачем ему надо, чтобы золотые думали? Жили ведь без этого – нормально жили. И вот ведь что самое обидное: эти золотые дураки считают: когда они думают по Приказу – это и есть свобода мысли! Еще бы! Раньше они и слова такого не знали: думать, а теперь пожалуйста – любой солдат может получить Приказ и думать себе на здоровье о чем приказано… Ладно, бунта не долго ждать осталось, не долго… Пусть Воробьев пока порадуется».
Безрукий встал на колени, открыл потайное окошко, глянул вниз.
Разумеется, в покоях Безголового сидел Воробьев и, развалившись на диване, вещал:
– Пойми, есть определенные законы, по которым и создаются настоящие государства. Если ты знаешь эти закончики, то задачка построения истинного государства решается легко и быстро. Поверь мне, я очень многое видел, я бывал в таких местечках, о которых вы и не подозреваете…
«Зачирикал, подлец! – вздохнул Безрукий. – И ведь об одном и том же долбит, об одном и том же. Откуда они знают, что настоящее государство строится именно так? А разве я строил не настоящее? Меня, между тем, никто не хотел слушать. И почему это к пришлым доверия всегда больше, чем к своим?»
Безрукий осторожно прикрыл дверцу потайного окошка, быстро сбежал вниз.
Увидев его, Воробьев вскочил с дивана.
– Главный Помощничек Великого Командирчика к нам пришел, – радостно завопил он. – Я ужасно рад тебя видеть!
– И я, – буркнул Безголовый.
– Я пришел по делу, – строго сказал Безрукий. – Дело очень простое. Великий Командир, тебе нужно подписать один очень важный тайный Приказ… Вот он, – и Главный Помощник достал бумагу.
– Завтра, – вздохнул Безголовый. – Все – завтра Ночью даже плюшевые спят, – и, обращаясь уже к Воробьеву, попросил. – Расскажи мне о тех местах, где ты бывал, пожалуйста.
Однако Безрукий был солдатом: сдаваться он не любил.
– Великий Командир, я прошу тебя подписать тайный Приказ именно сейчас, – сказал он совершенно спокойно. – Поверь мне: это дело государственной важности.
– О чем приказик? – поинтересовался Воробьев.
– О том, что если Великий Свет вспыхнет и погаснет трижды – это будет являться сигналом всеобщей тревоги.
– К чему это? – удивился Безголовый. – Раньше для объявления всеобщей тревоги было достаточно зажечь и погасить Свет дважды. А ты уверен, что солдаты сумеют досчитать до трех и не сбиться со счета?
Безрукий не стал отвечать, а продолжал как ни в чем не бывало:
– Если золотые увидят, что свет трижды погас и трижды вспыхнул вновь – они должны мгновенно собраться у памятника Великому Конвейеру и быть готовыми выполнить любой, даже смертельный Приказ.
Возникла пауза. Она начала быстро расти, превращаясь в пропасть между Великим Командиром и его Главным Помощником.
Но тут вступил Воробьев.
– Великий Командирчик, подпиши Приказик, – попросил он. – Иначе он долго еще не уйдет, а мы ведь так давно не пополняли наше «Руководство по руководству руководством настоящим государством».
Великий Командир тотчас подписал Приказ, и Безрукий, не прощаясь, вышел.
Он поднялся к себе, отдал Приказ посыльному, дабы тот незамедлительно, несмотря на позднее время, огласил его всем солдатам.
Хотя Безрукий точно знал, что в эту ночь плюшевые бунтовать не будут, но подстраховаться никогда не мешало.
Едва он сел на диван, чтобы предаться печальным размышлениям, как на пороге возник золотой.
– О чем прикажете думать? – строго спросил он.
Безрукий не был убежден, что это тот самый солдат, которому он уже приказывал недавно, и потому бросил коротко:
– О смысле.
Но золотой оказался как раз тот же самый.
– О смысле я уже думал, – гаркнул он. – О чем прикажете думать дальше?
– О жизни, – вздохнул Безрукий.
– Есть! – ответил солдат и, повернувшись через левое плечо, вышел.
Безрукий лег на диван, и чтобы хоть как-то развеселить себя, подумал: «Ничего, недолго вам ваше „Руководство“ пополнять, недолго…»