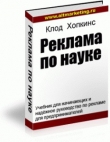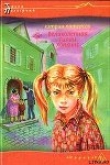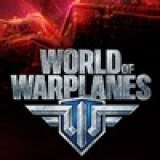
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
стрельбы через винт». Очень простой по конструкции, он предназначался для установки
на С-16.
– Согласен, – сказал Сикорский.
Март 1916 года
Лавров уезжал на фронт.
– Летчиков-сдатчиков на заводе не осталось, – мрачно сказал Сикорский. – Что мне
делать-то? Самому облетывать?

– Война идет, Игорь, – ответил Лавров.
– Война? – Сикорский едва сдерживал ярость. Таким старый друг его еще не видел. —
Война? А мы продолжаем зависеть от чужого дяди! Швеция срывает поставки – колеса,
болты, листовая сталь! Все шло через них!..
– Ты же справился, – напомнил Лавров.
– На коленке переконструировали часть деталей и насильно всунули на завод
производство стальных труб – это называется «справился»? Я обязан постоянно работать
над устранением недостатков, о которых сообщают летчики. Постоянно! Уже изменена
форма хвостового оперения, другой стала площадь крыльев... А тут еще поставки. – Он
помолчал и скрипнул зубами: – И моторы.
Моторов по-прежнему не хватало.
...Революция остановила все.
Сикорский почти сразу уехал за границу – во Францию, потом в Америку.
И там ему пришлось все начинать сначала.
© А. Мартьянов 2012.
17. Испания: Хихон в кольце
Начало августа 1937 года, аэродром Экис, Северный фронт
Командир эскадрильи И-16 Иван Евсевьев снял наушники.
– Готовьтесь, товарищи, – обратился он к летчикам.
Собрались все – русские и испанцы. Испанцы летали на И-15. Их командир, Леопольдо
Моркильяс, одобрительно кивал. Он уже неплохо понимал по-русски.
Франко стремился захватить горные перевалы, чтобы открыть путь в Астурию. Работа
летчиков на Северном фронте в этих условиях была, как они считали, скучной: целыми
днями, с рассвета до заката, дежурили на аэродроме в ожидании боевых вылетов. Сидели
себе под деревьями возле самолетов, тщательно замаскированных и спрятанных.
Но иначе никак – количественное превосходство авиации противника на Северном
фронте создавало такую обстановку, что приказа следовало ожидать в любую минуту.
– Вылетаем!
В порт Хихон прибыл морской транспорт. И тотчас подвергся атаке вражеских
бомбардировщиков.
Евсевьев и Моркильяс подняли самолеты в воздух. Все восемь И-16 шли навстречу врагу.
Погода была солнечной, небо – ярко-синим. Ведя эскадрилью к линии фронта, Евсевьев
старался увидеть, где же «чатос».
Вот они! Отлегло от сердца. Испанцы на И-15 шли тем же курсом, правее и немного ниже.
Евсевьев покачал им крыльями, чтобы привлечь их внимание.
Увидели!
Стало быть, вся мощь республиканского воздушного флота выступила навстречу
противнику.
И всего этой мощи было – восемь И-16 и восемь И-15...
Сколько же фашистов летит навстречу? При подходе к линии фронта Евсевьев заметил
две шестерки бомбовозов, выше их – восемь «фиатов», а дальше – еще две группы
истребителей неприятеля. Далеко – сосчитать трудно.
И еще ведь бомбардировщики...
Евсевьев принял решение: атаковать первую восьмерку «фиатов», прикрывающих
«юнкерсы». Надо отвлечь их, дать возможность «чатос» ударить по бомбардировщикам.

Товарищи правильно поняли его намерение. Командир звена Кузнецов со своим ведомым
Николаевым перестроились в левый пеленг, а Нестор Демидов со своим звеном еще
набрал высоту и поотстал. Отлично. Евсевьев пошел на сближение.
Восьмерка «фиатов» начала разворот в сторону «москитас». Четырьмя самолетами И-16
атаковали их и ушли вверх – для второй атаки. Звено Демидова атаковало вторую группу
вражеских истребителей, не давая им наброситься на Евсевьева и отвлекая от основной
задачи – прикрывать «юнкерсы».
В тот же момент эскадрилья «чатос» под командованием Моркильяса обрушилась на
бомбардировщики...
Садились на аэродром по одному. Евсевьев был доволен... Нет, не то слово: счастлив. Он
даже не слышал, как механик мрачно отсчитывает что-то. Очнулся на слове: «Сорок
восемь».
– Что – «сорок восемь»?
– Пробоин у тебя, Иван Иваныч, в самолете – сорок восемь...
Комэск огляделся, пересчитал самолеты.
– Где Николаев?
Последний И-16 с трудом дотянул до аэродрома. Выйти из машины летчик не сумел. К
нему побежали, вытащили.
– Живой! – разнесся голос.
Василия Николаева, тяжело раненого, пришлось отправлять в госпиталь. Самолет
осиротел.
Вечером к Евсевьеву явился Рафаэль Магринья.
– Камарада Увсевьев! – заговорил он.
Иван поднял голову:
– Что тебе, Рафаэль?
Помогая себе жестами, Рафаэль начал объяснять: давно мечтает летать на И-16, очень
давно!
«Моска» привлекал многих испанских летчиков. Более скоростной, современный самолет.
– Но ведь придется переучиваться, Рафаэль. На это нужно время.
– Я быстро научусь! – обещал Рафаэль. – Только возьмите. В бою здорово повредили
мотор моего «чато», а ремонт – дело долгое... Запчастей не хватает. У вас нет летчика, у
меня нет самолета. Возьмите, камарада!
Евсевьев согласился.
Как он объяснялся с Рафаэлем – для него оставалось загадкой. Но, в общем, слова часто
оказывались не нужны. А когда без слов было не обойтись, обращались к переводчику.
Рафаэль Магринья стал у Ивана Евсевьева ведомым. Он был невероятно смешлив и как-то
на удивление добр.
Тем же вечером русские летчики отправились к морю – окунуться.
Погода по-прежнему стояла солнечная. Чудесная стояла погода.
– Юг, товарищи! – многозначительно говорил лейтенант Кузнецов, большой любитель
окунуться. – Практически – здравница.
– Море какое-то неприветливое, – усомнился Иван Евсевьев.
– Да ладно тебе, Иван! – высказался Зайцев. – Воды испугался?
Под прищуренным взглядом Магриньи, который был сыном рыбака и воды эти знал куда
лучше, чем его русские товарищи, советские летчики «поскидывали портки» и с гиканьем
устремились в неприветливые волны Бискайского залива. С гораздо более громкими
воплями бежали они обратно!
– Вот тебе и солнечная Испания! Да тут моржом надо быть, чтобы купаться!
Магринья хохотал так, что у него слезы на глазах выступили.
18 августа 1937 года

По тревоге Евсевьев поднял все шесть машин, которыми располагал: сообщили о
приближении большой группы вражеских самолетов.
Принятый в то время боевой порядок – «клин», звеньями из трех самолетов, – по
мнению Евсевьева, стеснял маневр. В Испании на Северном фронте летчики
предпочитали полеты парами.
Вылетели – Евсевьев, Демидов и Кузнецов со своими ведомыми, набрали свыше двух
тысяч метров – и увидели, что враг уже миновал линию фронта. Очевидно, фашисты
направлялись бомбить Сантандер и аэродром.
Тремя парами, последовательно, республиканцы нанесли удар по первой группе
бомбардировщиков. Повторно атаковать уже не удалось – на «чатос» шли истребители.
– Нельзя допустить бомбардировщиков к городу! – приказал Евсевьев. – Слышите,
товарищи?
И сам атаковал ведущее звено «юнкерсов»...
Выйдя из атаки, он оглянулся в поисках ведомого. Где Рафаэль?
Некогда искать. На И-16 шел необычный самолет-моноплан. Прежде таких в испанском
небе замечено не было – «мессершмитт-109». Франкистский летчик не видел И-16, но
Евсевьев не колебался и пошел на сближение.
Вот теперь «мессер» его заметил. Перевернулся, стремясь уйти. Евсевьев повторил маневр
и поймал врага на прицел. Очередь, вторая... Фашист начал падать.
– Вот так-то, – с удовлетворением произнес Иван и снова набрал высоту.
Нестор Демидов с ведомым... Сергей Кузнецов с ведомым...
– Возвращаемся, товарищи.
Последний самолет. Евсевьев осмотрел поле. Рафаэля нет.
– Товарищи, Рафаэля не видели?
Никто не видел.
Евсевьев отправился в штаб, схватился за телефон. Может, Магринья сел на другом
аэродроме? Нигде не видели. Пропал испанский летчик...
Утром Иван вылетел на поиски. На малой высоте осматривал местность, раз за разом
облетая окрестности, но нигде не встречал никаких следов. Вот ущелье, рассекающее
долину. Рафаэль, где же ты?
На малой скорости Евсевьев повел самолет над ущельем и вдруг уперся в высокий
каменный тупик. Развернуться негде. Одна надежда – подняться и пройти над скалой.
А легко сказать – подняться, если скорость у самолета невелика. Вытянет ли мотор под
большим углом набора высоты? Как же медленно он идет вверх, как быстро приближается
скала!..
Весь мокрый, вздрагивая от волнения, Иван поднялся наконец над ущельем.
И увидел самолет.
Это был разбитый И-16. Рядом с самолетом лежало тело погибшего летчика.
Только после этого Иван поверил в гибель своего ведомого. И до конца жизни уже
никогда не забывал его.
Так и слышал его голос, когда он осматривал пробоины на своем самолете и ругался на
смеси языков:
«А, порка мадонна! Сто черти в зубы Франко! Столько бы дырка в его толстый баррига!»
Вскоре стала ясна цель массированного налета вражеских самолетов на аэродром
Альберисия. Там приземлилась эскадрилья «москас», прибывшая с Центрального фронта.
С пополнением республиканская авиация насчитывала теперь восемнадцать самолетов.
Конец августа 1937 года, аэродром Корреньо, недалеко от Хихона
Из восемнадцати самолетов осталось двенадцать. Остальные на ремонте.
– Эх, товарищ командир! – сказал Кузнецов. – А помните наш маленький аэродром
Экис? Неудобный, конечно, но зато какой надежный! Хорошо нас укрывал от фашистов.
Тут поневоле его добрым словом помянешь.
Еще три самолета вышли из строя. Невеселый получился вечер. Один летчик погиб.
Нужно ждать прибытия техсостава.
– «Мессеры» эти, – продолжал Кузнецов. – До чего же машина неприятная. А помните,
товарищ командир, как вы первый «мессер» сбили?
Это был день, когда погиб Магринья. Лучше бы Кузнецов не напоминал.

Вылет за вылетом, а вражеское кольцо все туже стягивается вокруг Хихона – последнего
оплота республиканской армии на севере. Корреньо – теперь единственный аэродром.
Все ближе артиллерийская канонада. Скоро и на этом аэродроме начнут рваться
фашистские снаряды.
– Что ты не ешь, Иван? – спросил Кузнецов.
– В горло кусок не лезет, – признался Евсевьев.
– Товарищ командир, к телефону! – доложил дежурный.
Говорил советник командующего авиацией Северного фронта.
– Утром вам, Демидову и Кузнецову быть готовыми к убытию с Северного фронта. За
вами придет транспортный самолет. Я лечу с вами.
– Значит, конец Северному фронту? – вырвалось у Ивана.
– Товарищ Евсевьев!.. – начал было советник, но Евсевьев не выдержал:
– А как же они?
– Кто – они?
– Испанские летчики! Недавно прибыло пополнение и...
– Они получат указания от своего командования. А мы – вылетаем. Это приказ.
Евсевьев вернулся в столовую.
– Что там? – спросил Демидов.
– Ничего особенного. Интересовались, как там у нас насчет готовности на завтра.
– Шесть «москас» и три «чатос» – вот и вся готовность, – пробурчал Кузнецов. – Но
мы и с этим добром летать можем.
Тяжело было на душе у Евсевьева, но он промолчал. Не стал портить вечер. Вышел «на
улицу», закурил.
За ним вышел Нестор Демидов.
– Иван, я тебя всю жизнь знаю, – сказал он. – Выкладывай, что скрываешь?
– Завтра нас отправляют, – выговорил Иван.
Демидов свистнул и спросил точно так же:
– А как же они?
– Им скажем завтра утром, – Евсевьев потушил папиросу. – Пусть хотя бы эту ночь
проведут спокойно.
Утром пришлось сказать...
– Раз вы уезжаете, значит, все пропало! – Испанский ведомый Евсевьева, Фрасиско
Тарасона, не сдержал слез.
Евсевьев прикусил губу.
– Приказ есть приказ. Удачи вам, товарищи. – И добавил: – Вива Эспанья либра!
Транспорт прилетел из Франции. Пассажиров было четверо – трое советских летчиков и
сам военный советник командующего.
– Куда я вас?.. – осведомился пилот. – Машина трехместная.
Иван вдруг подумал: «Остаться!» – но тут же задавил шальную мысль.
Советник строго сказал:
– Потеснимся. Улететь должны все.
Кое-как разместились, в последний раз помахали испанским друзьям, оставшимся на
земле...
Транспортник лег курсом на французский берег.
© А. Мартьянов. 17.08. 2012.

18. Испытательница
В офицерском клубе было шумно. Играл джаз. Вася пригласил Зинаиду Никифоровну.
Праздновали столетие ВВС России.
...– В сущности, все даты условны, – заметила Брунгильда Шнапс, когда Франсуа
Ларош подсел к ней за стол ик.
– Вы о чем? – спросил француз.
– Обо всем. Невозможно назвать точное время: вот сегодня, именно в этот самый день,
началось, – объяснила Брунгильда.
– Праздник есть праздник, – возразил Франсуа. – Время собраться, вспомнить,
повеселиться и погрустить. Вы разве так не считаете?
– Может, и считаю, – сдалась Брунгильда. – Все равно это был золотой век, какой год
ни назови – тысяча девятьсот десятый, одиннадцатый, двенадцатый...
– Вы танцуете, мадемуазель? – перебил Франсуа. Музыка не давала ему покоя.
– Нет, – отрезала Брунгильда.
– Но вы такая шарман мадемуазель, как можно не танцевать? Нон вальс, нон танго? —
удивился Франсуа.

– Не пытайтесь подольститься насчет моего «шарман», – предупредила Брунгильда. —
Если я женщина, это еще не значит, что я обязана уметь танцевать... И потом, – она вдруг
покраснела, – может быть, я не знаю все эти танцы. Может, я другие... По мнению
некоторых – старомодные...
Франсуа задумался на мгновение, но тотчас лицо его прояснилось.
– Эта печаль легко исправляется! – заверил он.
– Да погодите вы исправлять! – всполошилась Брунгильда. – Дайте товарищу
младшему лейтенанту насладиться мгновениями.
– Лишь бы товарищ младший лейтенант не вошел в штопор, – с комически-серьезным
видом проговорил Франсуа. – Вам доводилось входить в штопор, мадемуазель
Брунгильда?
Она сердито отмолчалась. Потом сказала:
– Я решила философски относиться к разного рода инцидентам. Да, со мной всякое
происходит. Может быть, чаще, чем с другими. Для меня полет на каждом новом самолете
– это как быть летчиком-испытателем.
– О, – Франсуа комически поднял брови, – разве мадемуазель может быть
испытателем?
– Представьте себе – может! – отрезала Брунгильда. – И как раз в те времена, которые
я называю «золотым веком». Первая женщина – летчик-испытатель, Любовь
Голанчикова. Ее жизнь отчасти была связана и с Германией, – добавила Брунгильда,
вскинув голову.
– А где она родилась? – заинтересовался Франсуа.
– В Петербурге. Семья была бедная, Любовь училась на бухгалтерских курсах, чтобы
потом зарабатывать себе на жизнь. Представляете, как бы тоскливо она прожила, если бы
не авиация?
– Даже представить не могу, – сказал Франсуа.
– Впрочем, она сразу ушла из бухгалтерии. И куда? В Народный дом.
– Какой еще «дом»? – нахмурился Франсуа.
– Народный дом – это театр, созданный в Александровском парке в Петербурге
специально для культурного развития народа. Там проводились концерты, спектакли.
Шаляпин выступал.
– Стала актрисой?
– Вроде того. Участвовала в любительских постановках, танцевала, пела. Там ее заметил
антрепренер эстрадной группы «Фолли Бержер» и пригласил к себе. Она взяла себе
псевдоним – Молли Морэ.
– Практически французский, – одобрил Франсуа.
Брунгильда допила шампанское. Франсуа заказал еще бутылку и с шиком хлопнул
пробкой.
– За прекрасных авиатрис! – провозгласил он тост.
Брунгильда поддержала.
– Вы остановились на том, что Голанчикова стала актрисой, – напомнил Франсуа. – От
сцены до неба далековато.
– Не очень. По крайней мере, в десятом году. На Коломяжском аэродроме открылась
Первая русская авиационная неделя с участием «королей воздуха». Молли Морэ была в
полном восторге. Кругом только и говорили, что о полетах. Голанчикова как актриса была
популярна и легко знакомилась с людьми.
– Мадемуазель, – серьезно проговорил Франсуа Ларош, – вы все-таки исключительно
плохо знаете мужчин. Разумеется, красивая женщина легко знакомится. Это заложено в ля
натур.
– Вы невозможны, Франсуа. Я говорю о важных вещах, а вы шутите.
– Я никогда не шучу с ля натур, – заверил Франсуа.
Брунгильда махнула рукой.
– Вы – большое дитя и с вами нельзя говорить как со взрослым... Голанчикова
восхищалась «людьми-птицами», но больше всего – Михаилом Ефимовым, бывшим
электромонтером и велогонщиком. Он тоже был от нее в восторге. Наконец она его
уговорила, и он покатал певицу на самолете.
– Я догадываюсь, что было дальше, – кивнул Франсуа.
– Да. Всю зиму молодая актриса копила деньги, а весной 1911 года поступила в летную
школу «Гамаюн». Вертелась, как белка в колесе: репетиции, концерты, аэродром. Ей было
двадцать два года, она все успевала. У нее обнаружились исключительные способности к
летному делу: точная координация движений в полете, чуткое понимание техники! Она
сажала самолет так, словно это была не многопудовая машина, а легчайшее перышко.
Наконец 9 октября 1911 года Любовь Голанчикова получила диплом номер 56. Он давал
ей право летать на самолетах типа «Фарман». Сбылась мечта – она стала авиатрисой!
– Из актрис в авиатрисы, – произнес Франсуа, пробуя эти слова на вкус. – Еще
шампанского, мадемуазель?
– Пожалуй. – Брунгильда рассеянно смотрела на своего собеседника сквозь бокал. – И
знаете, о чем она мечтала теперь? Поступить на авиационный завод, где требовались
летчики-сдатчики. То, что мы сейчас называем «испытателями». Но уж конечно ей
вежливо отвечали, что полеты – неподходящее занятие для особы женского пола.
Поэтому она занялась спортом.
– Во Франс спорт – дорогостоящее дело, – заметил Ларош.
– В России тоже, – кивнула Брунгильда. – Нужно было иметь собственный аэроплан
– ну, для начала. А еще деньги для переездов, для аренды ипподрома...
– Простите, мадемуазель, ипподром – это ведь место, где выступают лошади? —
перебил Франсуа.
– В те времена – и самолеты. Хорошая посадочная площадка, – объяснила Брунгильда.
– А еще нужно было платить жалованье мотористам, ремонтировать аппарат... Но
Голанчикова рискнула. Она бросила сцену и начала выступать на «Фармане», показывая
чудеса в воздухе. В Риге публика показала себя во всей красе: какой-то идиот из числа
«даровых зрителей» просто ради любопытства бросил в самолет палку. Голанчикова упала
вместе с аппаратом и получила тяжелые ушибы. На Второй военный конкурс аэропланов
в Петербург, где собрались летчики и конструкторы с новыми машинами, Голанчикова
прибыла, опираясь на палку.
– Думаю, она опять имела успех, – вставил Франсуа Ларош.
Брунгильда искоса посмотрела на него:
– Да уж, имела. Смогла полетать на самолетах нескольких типов. Ей охотно показывали
новые машины, позволяли подняться на них в воздух, испытать аппарат после
регулировки или ремонта. В те времена интуиция часто заменяла приборы, а у
Голанчиковой она была исключительная. Она точно умела определять недостатки,
присущие тому или иному самолету. Конструкторы начали прислушиваться к мнению
этой удивительной девушки.
– Сейчас должен появиться прекрасный принц! – вздохнул Франсуа Ларош, в третий
раз наполняя бокалы. – Выпьем за прекрасного принца!
– Это был Энтони Фоккер, поставлявший во время войны самолеты немецкой армии, —
сказала Брунгильда. – Довольно одиозная личность. Богатый голландец, помешанный на
самолетах. В те времена – новатор авиационной техники... и невероятный красавец. И
вдруг он просит фройляйн Голанчикову полетать на его новом аппарате и высказать свое
мнение.
Франсуа Ларош вынул носовой платок и обмахнулся, всем своим видом показывая
безразличие к персоне Энтони Фоккера.
Брунгильда не обратила на эту маленькую демонстрацию ни малейшего внимания.
– Вот Голанчикова взлетает на новом фоккеровском «пауке»... Делает круг над
аэродромом... И тут аппарат кренится влево. У Фоккера щемит сердце: русская фройляйн
сумасшедшая и угробит его драгоценную машину! И тут машина выравнивается...
кренится на другое крыло... снова выравнивается... Фоккер видит, что «паук» способен на
такое, о чем он сам, конструктор, даже не догадывался. Полный успех и полный восторг.
Голанчикова рекламирует его продукцию лучше, чем все другие летчики-мужчины,
вместе взятые.
– Он предложил ей работу? – догадался Франсуа.
– Именно. Голанчикова была одной из тех, кто закладывал основы высшего пилотажа.
Вместе с Фоккером она уехала в Германскую империю и с триумфом потом выступала на
его самолетах по всей Европе. В 1913 году она совершила международный перелет
Берлин-Париж на новом двухместном самолете «Моран-Солнье».
– О, Париж! – обрадовался Франсуа. – Голанчикова побывала в столице мира! Очень
правильное решение.
– Перелет оказался невероятно тяжелым. Трасса пролегала над горно-лесистой
местностью, – задумчиво говорила Брунгильда и как будто видела перед собой не
шумный бурлящий офицерский клуб, а темные леса в сердце Европы. – Стояли туманы.
Земные ориентиры почти не проглядывали. Леденящие дожди, сильные ветры... Дождь
колол лицо, словно булавками. А если бы отказал мотор? Куда сажать машину?.. Но
Морану важно было доказать, что летать на его новом самолете безопасно даже над такой
проблемной местностью.

– Голанчикова сама вела этот самолет?
– Нет, летел опытный французский авиатор Летор. Он сам выбрал Голанчикову
навигатором, сказав, что «у нее глаза как у кошки – видит землю днем и ночью».
Наконец стали садиться – самолет перевернулся, его швырнуло на землю, и он накрыл
пилотов. Они лежали и не могли выбраться, пока наконец им не помогли случайные
прохожие, увидевшие аварию. Это произошло в ста километрах от Парижа.
– Жаль, – искренне огорчился Ларош.
– Их все равно встретили в Париже как триумфаторов. А потом владелец аэропланной
мастерской Федор Терещенко взял к себе Голанчикову на должность летчика-испытателя.
Это случилось 1 декабря 1913 года.
Франсуа нахмурился.
– Дальше по сюжету – война.
– Во время войны Голанчикова передала Российскому Воздушному флоту свой «вуазен».
Она к тому времени была замужем за каким-то купцом... О ее муже ничего толком не
известно. Даже имени не сохранилось. Но это не так уж и важно. К авиации он, вроде бы,
отношения не имел.
– А Голанчикова – так до конца жизни и оставалась авиатрисой?
– Во всяком случае, в России. Она приняла революцию, вступила в тренировочную
эскадрилью ВВС Красной Армии. Совершила даже несколько боевых вылетов, но в
основном учила красноармейцев-пилотов. А затем эмигрировала вместе с мужем —
сначала в Германию, потом в Соединенные Американские Штаты.
– Почему?

– Неизвестно. Наверное, была какая-то причина. В сороковые в Нью-Йорке она работала
таксистом, а умерла в шестьдесят первом, там же. Она удивительно говорила когда-то:
«Мы, воздушные странницы, – самые смелые люди. Вечность задела нас крылом. Пусть
до звезд еще далеко, но вольный сын эфира, аэроплан, поднимает воздухоплавательных
Тамар высоко над землей!»
– Поэтично, – согласился Франсуа. – Кстати, о поэзии... Я на минутку.
Он поставил бокал, встал из-за стола и направился к оркестру. После недолгих
переговоров он вернулся к столику и протянул Брунгильде руку.
– Позвольте вас пригласить на танец, мадемуазель! Никаких новомодностей, никакого
фокстрота, никакого даже вальса.
– Что же вы заказали? – изумилась Брунгильда. – Полонез? Котильон?
– Я заказал «гроссфатер»! – с гордостью объявил Франсуа. – И кстати, должен вас
предупредить, мадемуазель: «гроссфатер» я танцевать не умею, так что вам придется меня
обучать. На лету. Как и положено авиатрисе.
© А. Мартьянов. 17.08. 2012.
19. «Королевская кобра»
14 февраля 1941 года, Райт-Филд, конференция USAAC
Джек Стриклер держался уверенно, внешне – спокойно. Его напарник и «правая рука»,
Дэн Фабриев, постоянно находился рядом – помалкивал, наблюдал за реакцией
слушателей, оценивал.
Оба они, конструкторы фирмы «Белл», представляли на конференции, организованной
Авиационным Корпусом Армии США (USAAC) модель нового самолета.
Это был перспективный истребитель, названный ими «Белл Тип 33».

Военные хотели знать: чем новый самолет отличается от Р-39 – «Аэрокобры», которая
уже выпускалась некоторое время.
– Мы разрабатываем самолет под более мощный двигатель, – объяснял Стриклер. – Но
главное отличие нового самолета от стандартной «Аэрокобры» – крыло. Как видите, это
крыло имеет ламинарный профиль. Его передняя кромка – более острая, а максимальная
толщина профиля приходится не на тридцать, а на пятьдесят процентов хорды.
– Позвольте, – перебил один из слушателей, немолодой полковник, – мы уже
встречались с таким типом крыла. Это не новинка: успешно летает истребитель Р-51
«Мустанг». У него тоже ламинарное крыло.
– «Мустанг», – ответил Стриклер, – насколько нам известно, разведчик и легкий
бомбардировщик. Он летает на малой высоте и на относительно небольших скоростях.
При таких условиях все положительные свойства ламинарного крыла сводятся на нет.
– В чем же они? – осведомился полковник.
– Есть свои плюсы и минусы, – признал Стриклер. – Минус в том, что у него несущие
свойства похуже. Плюсы – меньше аэродинамическое сопротивление. Мы хотим
подчеркнуть, что ламинарный профиль полностью себя оправдывает не только при
большой скорости и высоте, но и при условии, если его форма выдерживается идеально.
То есть – никаких вмятин, заклепок и тому подобного. Ничто не должно портить обводов
крыла. Тогда это будет иметь смысл.
Напарник Стриклера решил вмешаться. Он видел, что интерес военных к их самолету то
вспыхивает, то гаснет. Поэтому он добавил:
– Как видите, мы предполагаем установить в новое крыло четыре крупнокалиберных
пулемета. Но главное – мы работали над тем, чтобы излечить главную болезнь
«Аэрокобры» – склонность к попаданию в штопор. Поэтому мы изменили размеры
оперения, на полметра удлинили хвостовую часть фюзеляжа...
Новый самолет заинтересовал. Через полтора месяца фирма «Белл» получила от ВВС
заказ на два прототипа. Эту версию назвали ХР-39Е.
28 января 1943 года, аэродром Мюрок, США
Пилот Джек Вулемс уверенно поднял в воздух самолет.
Это была новинка фирмы «Белл» – ХР-63, будущая «Кингкобра» – «Королевская
кобра».
Цепь неудач преследовала фирму «Белл». Первый опытный экземпляр налетал пятнадцать
часов и разбился при испытании на штопор. Та же участь постигла и второй самолет.
Когда военные оплатили третий – и он тоже разбился, армия отменила свой
предварительный заказ на четыре тысячи Р-39. Она вообще не захотела иметь дел с
фирмой «Белл».
В этот самый момент, как нельзя более кстати, пришел крупнейший заказ от ВВС Красной
Армии. И «Кобры» полетели в Советский Союз.
Конструкторы воспряли духом. Появилась передышка, во время которой продолжились
работы над «Кингкоброй».
Перерабатывали «Аэрокобру» Дон Роув и Боб Лэпп.
– Наша главная задача, – объяснял Роув Джеку Вулемсу перед самым полетом, —
избавить «Королевскую кобру» от плоского штопора. Как видите, весь фюзеляж
значительно сдвинут вперед относительно крыла. Что, соответственно, изменило
центровку.
– Кабина... – проговорил Вулемс с легким сомнением.
– Да, кабина тоже сдвинулась вперед, – кивнул Роув, – но это, так сказать, малое зло.
Придется в кабину не входить, а запрыгивать. Есть опасность сорваться при этом с
гладкой передней кромки крыла... Но мы хотим обратить ваше внимание на то, что эти
неудобства – до полета и после него, – ничто по сравнению с плоским штопором.
Вулемс был не первым, кто поднимался в воздух на «Королевской кобре». До него
испытания самолета производил шеф-пилот фирмы «Белл» Боб Стэнли. Он счел самолет
просто превосходным.
Военные также успели полетать на «Кингкобре». Теперь следовало закрепить успех.
Вулемс провел серию тестов и пошел на посадку.
– Стойки шасси не вышли! – доложил он.
– Черт! Вулемс, повторите попытку! – приказали с аэродрома.
Пилот повторил.
– Буду сажать на брюхо, – предупредил он.
– Сколько у вас горючего?
Горючего хватило на несколько часов. Самолет кружил над аэродромом. Время шло.
Наступал вечер.
Вулемс отдавал себе отчет в том, что пилотирует уникальную машину. Меньше всего на
свете хотелось ему повредить самолет. Топливо закончилось, когда окончательно
стемнело. Луна еще не взошла. На взлетной полосе смутно видны были горящие огни.
Очень осторожно летчик зашел на посадку... и врезался в деревья.
После оглушительного треска все стихло и погрузилось в тревожную муть, а затем
возникло чье-то лицо.
Джек Вулемс тихо спросил:
– Самолет?..
Самолет разбился вдребезги, налетав меньше тридцати часов.
Октябрь 1943 года, Буффало
Первый серийный самолет «Кингкобра» покинул сборочный цех.
«Старший брат», обозначенный как Р-63, выпускался параллельно с Р-39: «Королевская
кобра» рядом с «Аэрокоброй». И те, и другие предназначались для советской авиации – в
первую очередь.
Потенциальному заказчику нового самолета Р-63 была направлена подробная
информация.
Февраль 1944 года, Буффало
Летчик-испытатель Андрей Кочетков с интересом рассматривал новый американский
самолет.
– Что скажете, Федор Павлович? – обратился он к своему спутнику, инженеру Федору
Супруну.
– Тебе решать, – ответил Супрун.
Его брат, Степан Супрун, был известным летчиком-испытателем. Инженеру лучше, чем
кому бы то ни было, было известно: как бы ни старались проектировщики, последняя
инстанция – пилот.
– Сам видишь, – прибавил он, – задача перед нами самая ответственная: прежде чем
эти «Королевские кобры» хлынут в Советский Союз, надо все-таки понять, нужны они
нам или не очень.
– На фронте все нужно, – хмуро сказал Кочетков.
– Если эта машина продолжает свои фокусы со штопором – то нет, – заявил Супрун.
Присутствовавший при разговоре Роув догадывался, что именно обсуждают русские. Он
дотронулся до самолета рукой и через переводчика заверил:
– Проблему штопора мы решили.
– Ну вот, Андрей, сейчас ты и проверишь – решили они там проблему или не решили.
Кочетков взлетел.
...Из плоского штопора самолет уже не вышел. Кочетков отчаянно пытался спасти
«Королевскую кобру».
– Андрей, прыгай! – слышал он голос Супруна в наушниках.
Не отвечая, Кочетков повторял попытку за попыткой. Самолет не слушался. Наконец
Кочетков бросил машину и прыгнул.
В гостинице он сидел мрачный. Вывихи, ушибы – ерунда. Кочетков ожидал страшного
нагоняя. Загубил самолет! Опытный образец! Это какие ж убытки...
– Не убивайся ты так, – пытался утешить его Супрун.
В дверь постучали. Кочетков напрягся, сделал каменное лицо: началось. Сейчас явятся —
и не конструктор, который действительно любил свое детище, а капиталисты, которые
действительно любят свои деньги... Или того хуже – принесут телеграмму от своего
командования. Не оправдал, не сумел.
Явилась красивая девушка с коробкой в руках. За ней – мужчина в костюме.
– Господин Кочетков? Позвольте вручить вам подарки от фирмы Ирвинг, – на недурном
русском произнес мужчина, глядя куда-то в сторону.
– Какие подарки? – растерялся Кочетков. – От какой еще фирмы?
– Наша фирма производит парашюты. Ваш превосходный и абсолютно безопасный —
благодаря парашюту фирмы «Ирвинг» – прыжок с самолета является наилучшей
рекламой нашей продукции.
Когда дверь за посетителями закрылась, Кочетков повалился на кровать от хохота.
– Вот уж поистине: не знаешь, где найдешь, где потеряешь!
Заказ, однако, был сделан. НИИ ВВС испытывало «Королевскую кобру» у себя и