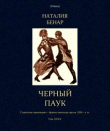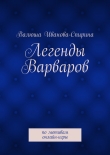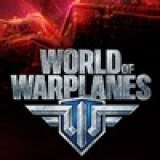
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
экспортировался в Советский Союз и даже выпускался там по лицензии. Хейнкель
работал медленно, последовательно, упорно, совершенствуя свое детище.
Дело сдвинулось, а детище обрело новые – элегантные и чистые очертания, – когда к
Хейнкелю поступили на работу братья Гюнтер, эстет Вальтер и гениальный математик
Зигфрид. Да, именно элегантность. И прочность. Визитная карточка самолетов Хейнкеля.
Все самолеты, разумеется, получили гражданскую регистрацию. В том числе и самый
новый из них – He.51. Германия не имела права наращивать военную мощь своей
авиации.

Испытания проходили в Деберице, на аэродроме, который принадлежал воздушно-
спортивному союзу. Фюреру не сообщали, что пилоты были недовольны новым
самолетом. He.51 не прощал ошибок, летал быстрее привычного, но слушался хуже.
Летчик-испытатель Ганс Лютов наслышан был о капризном нраве He.51. Храбрец, как и
подобает германцу и летчику, он принял новую машину как вызов.
И He.51 оправдал все слухи, ходившие о самолете Хейнкеля. С легкостью входил в крен,
развивал слишком высокую скорость при пикировании.
И наконец, заходя на посадку, ас не удержал биплан и уронил его – с высоты в десять
метров. Самолет совершил серию изумительных по нелепости козлиных прыжков, снес
шасси и перевернулся в канаве.
Лютов повис вниз головой. Он остался жив – благодаря прочной конструкции фюзеляжа,
– но пребывал в дикой ярости.
– На этом невозможно летать! – кричал он, едва выбравшись из самолета.
Министерство авиации решило провести собственное расследование. Лютов был в своем
гневе на He.51 отнюдь не одинок: аварий случалось много.
– В авариях виноваты ошибки пилотирования! – таков был вывод комиссии.
И He.51 запустили в серийное производство.
Война становилась фатальной неизбежностью, и Германии требовались самолеты.
...И вот исторический день 10 марта 1935 года: фюрер официально признал
существование Люфтваффе. И сразу несколько авиационных групп заявили о себе: Первая
– «Рихтгофен», Вторая и, наконец, третья – «Хорст Вессель». Все они получили He.51.
17 июля 1936 года
– Мой фюрер! – Адъютант стоял навытяжку, поедая Гитлера глазами. – В Испании
мятеж!
Гитлер медленно осознавал случившееся. После победы левых он фактически перестал
считать Испанию своим возможным союзником в грядущей великой битве. И вдруг —
подарок судьбы.
Он никогда не сомневался в своей звезде.
Июль 1936 года
Полковник Болина протянул Гитлеру письмо. Письмо взял, однако, не сам фюрер, а
адъютант. Распечатал конверт, вручил шефу.
Гитлер держал письмо, но не читал. Рассматривал посланца «каудильо».
Породистый и надменный, как положено испанцу. Уставший, как положено военному, в
чьих руках будущее целой страны.
– У нас имеется численный перевес над республиканцами, – сказал полковник. – Но
большая часть наших вооруженных сил размещена сейчас в Марокко. Воспользоваться
военно-морским флотом мы не можем – он в руках наших врагов. Остается воздух. Нам
необходима помощь для того, чтобы перебросить марокканские колониальные войска
через Гибралтарский пролив. Генерал Франко...
– Генерал Франко намерен «одолжить» у нас авиацию, – заключил Гитлер.
– Подобная же просьба направлена и итальянскому премьеру Муссолини, – добавил
полковник Болина.
– Просьба будет удовлетворена немедленно, – Гитлер не раздумывал ни секунды. Ему
нужна была Испания, и он ее получит.
Два десятка самолетов из Германии числились теперь в составе «Компании Испано-
Марокко д'Транспортес». Гражданские самолеты, разумеется. Никаких военных поставок
в страну, где идет война. Пилоты? Какие пилоты? Исключительно гражданские лица.
Туристы, по преимуществу туристы. Но есть и ученые – археологи. В Германии очень
интересуются древностями, редкостями... корнями цивилизации.
31 июля из Гамбурга вышел транспорт «Усарамо» с очередной группой туристов с
генералом Шееле во главе. Среди туристического снаряжения числились двадцать
зенитных орудий и шесть истребителей He.51...
15 августа 1936 года, Кадис
Капитан Хоакин Гарсия Морато, прославленный испанский летчик, проводил смотр своей
эскадрилье. Она носила его имя – «Эскадрилья Морато». Под руководством германских
союзников испанские летчики изучали немецкие истребители. На «хейнкелях» им
предстояло одерживать победы для каудильо.
Морато поморщился: до него донесся крик. Очередная свара. Когда это прекратится?
Очевидно, никогда. Германский и романский темпераменты схлестнулись.
– Если вы будете и дальше так дергать самолет, – зло и резко говорил немецкий
инструктор, – нам придется выковыривать ваши останки из обломков. Что нежелательно,
потому что самолетов у нас мало.
– Вы разговариваете с благородным идальго! – заносчиво отвечал испанский летчик. —
Кем был ваш отец? Слесарем? Мои предки помогали Кортесу завоевывать Америку!
– Ваши предки останутся без потомков, если вы и дальше будете сажать самолет
подобным образом, – мрачно отвечал немецкий инструктор.
– Я летал, когда вы еще не...
– Вы летали на крылатых гробах, а это – современный истребитель! – перебил
разъяренный немец. – Извольте слушать, когда вам говорят!
Испанец разразился отборными ругательствами, достойными, очевидно, самого Кортеса, а
в ответ тихо, но отчетливо щелкнул курок.
– Хватит, господа! – вмешался Морато. – Наша задача – как можно скорее освоить
эти самолеты и нанести предателям сокрушительный удар!
Спорщики подчинились, но Морато слышал, как немец проворчал что-то насчет
«несносных грандов».
Конец октября 1936 года
Шла битва за Мадрид.
– Мы не будем бомбить и обстреливать столицу, – заверил Франко. – Помилуй нас
Мадонна! Там живут ни в чем не повинные люди, которых я не хочу подвергать
опасности.
Газета «Пти паризьен» честно напечатала эти слова.
Знаменитый «Легион Кондор», который к тому времени был уже окончательно
сформирован, схватился в небе над Мадридом с... русскими туристами.
Они прибыли в середине октября на сухогрузе «Большевик». Боеприпасы, стрелковое
оружие, аритиллерия, медикаменты, а заодно тридцать один истребитель И-15 – «чато»,
«курносые». Через несколько дней другой транспорт доставил еще тридцать один «чато».
Двадцать пятого в Аликанте пришел пароход «Комсомол» с полусотней И-16 «моска».
«Туристы» быстро назвались испанскими именами, уселись на свои самолеты и поднялись
в воздух.
– Откуда? Откуда? – ломали голову в штабе генерала Франко.
Франко требовал немедленного отчета, и ему доложили:
– Республиканцы получили, по непроверенным данным, поставки из Соединенных
Штатов. – Таково мнение ведущих аналитиков. Агентурные данные также подтверждают

это предположение. Нам известно о большом количестве «добровольцев» из Америки,
которые прибыли в Испанию с целью сражаться против нас.
– И, таким образом, из чего состоит пополнение наших врагов? – потребовал Франко.
– Мы считаем, что это «Мартин-бомберы», «Кертиссы» и «Боинги».
«Мартин-бомберы» очень скоро оказались скоростными бомбарщировщиками СБ,
«Кертиссы» – И-15, а «Боинги» – И-16...
«Обман» раскрылся в начале ноября, когда несколько «чатос» нанесли визит на аэродром
Авилла и уничтожили один Ju.52 и два He.51...
Пятница тринадцатое, ноябрь 1936 года, Мадрид
С аэродрома Авилла, прикрываемые девяткой He.51, взлетели пять Ju.52 и три He.46. Они
вышли к городу, чтобы нанести удар по позициям республиканцев в районе банка.
Внезапно немецкие самолеты были атакованы шестеркой «чатос». Обер-лейтенант Крафт
Эберхардт заметил противника и приготовился к бою...
...Комэск Сергей Тархов, «Антонио», поднял девятку истребителей по тревоге. Второй
отряд во главе с Владимиром Бочаровым – «Хосе Галарса» – ввязался в бой с
«хейнкелями» и «фиатами», стремясь отсечь их от бомбардировщиков.
Небо было затянуто облаками, и в каждом облачном разрыве летчиков ждала нешуточная
опасность.
Бочаров подбил один из истребителей – и дал команду уйти с набором высоты в
образовавшееся в облаках «окно». На встречных курсах на него бросились «фиаты».
Бочаров резко бросил машину в крутое пикирование с левым разворотом и ушел под
облака. И исчез.
...Спустя несколько дней его изуродованное тело немцы сбросят на позиции
республиканцев на парашюте...
Бомбардировщики франкистов начали беспорядочно сбрасывать бомбы на Мадрид и
поворачивать назад. Вокруг кипел бой: схватились истребители. Эберхардт, числивший за
собой четыре победы, впоследствии был найден мертвым среди обломков самолета.
Сергей Тархов вступил в бой с шестью He.51. Они набросились на него со всех сторон,
пулеметной очередью перебили управление, и самолет заштопорил. Тархов попытался
вывести машину из штопора, но не вышло. Пришлось прыгать.
Ветром «Антонио» понесло на сторону франкистов, и он затянул прыжок – раскрыл
парашют в четырехстах метрах от земли. Странно было ему смотреть, как приближается
улица. Приближается – а он даже не знает, в чьих руках она сейчас находится, кто здесь
заправляет, свои или враги!
С земли начали стрелять, и тут у Тархова «загорелось в животе» – попали!..
Он умер от ран в госпитале через несколько дней.
...Герман Геринг места себе не находил. Ему докладывали о потерях.
– Мои мальчики! – волновался он. – Как же туго им приходится под Мадридом!
«Мальчикам» были отправлены еще и еще He.51 – фирма «Физлер» получила заказ на
двести самолетов. Шестьдесят из них были доставлены в Севилью, а с ними прибыли
«туристы» и «горные инженеры» из Германии. С ними прибыла «сельскохозяйственная
техника».
– Друзья! Товарищи! – обратился к вновь прибывшим майор Байер. – Вы должны
знать, что наш противник – не дитя. Германскому летчику ничего не стоит одолеть
летающие гробы устаревшей конструкции, но что касается И-15 – здесь следует
соблюдать осторожность.
Осторожность следовало соблюдать и майору Байеру, который вскоре, с сердечным
приступом, был отправлен в Берлин.
Однако испытания трофейных «чатос» и «москитос» показали неутешительные
результаты. He.51 уступал «чато» по всем статьям, за исключением характеристик
пикирования. И-16 имел подавляющее превосходство в скорости, и He.51 оставалось
уповать только на маневренность.
Война продолжалась...
He.51 «остался в Испании». Для грядущей великой битвы он оказался непригоден.
© А. Мартьянов. 09.08. 2012.

15 В небе над Астурией
7 мая 1937 года, Картахена
– Утром – Картахена! – разнеслось по транспортному судну «Большевик».
Добровольцы из Советского Союза, направлявшиеся в Испанию, оживились.
– Скоро, уже скоро!
А ведь еще несколько лет назад, вспомнилось вдруг Ивану Евсевьеву, был в штабе
авиачасти такой разговор. Молодые летчики смотрели на ветеранов, вздыхали: «Не
удалось повоевать за народное дело – поздно родились!» И тогда начальник штаба
товарищ Лаворик сказал тихо и как-то особенно строго:
– Напрасно вы переживаете, друзья мои. Выпадет и на вашу долю испытаний...
Это было в тридцать третьем, таком далеком... Сейчас Евсевьеву двадцать семь. Уже есть
опыт. И, главное, – силы, желание драться.
– Ты чего так рано ложишься спать? – спросил его сосед по каюте, добрый друг Петя
Бутрым.
– Не хочу проспать Испанию! – ответил Иван.
«Будильник» не понадобился: на рассвете всех разбудили разрывы бомб и артиллерийская
канонада. Свет в каюте не включился, одевались в темноте.
По серому предрассветному небу шарили лучи прожекторов. Непрестанно били зенитки.
Их вспышки вырывали из тьмы очертания портальных кранов, силуэты кораблей. Выше

громоздились горы, над которыми, лавируя среди лучей прожекторов, выходил на боевой
курс бомбардировщик.
– Фашист!
Бомбы сыпались совсем близко, но ни одна, по счастью, не попала в «Большевик».
– Вот что, – обратился капитан корабля к военным летчикам, высыпавшим на палубу,
– высаживайтесь прямо сейчас. В порт заходить не будем. Не хочу рисковать.
Когда Евсевьев садился в шлюпку, уже рассвело. Фашистский бомбардировщик давно
улетел, но между лопаток постоянно и неприятно проходил холодок: враг обязательно
вернется. Нужно успеть добраться до берега, пока этого не случилось.
И вот снова донесся характерный звук: приближались самолеты.
– Слышишь? – спросил Петя Бутрым.
Иван чуть наклонил голову:
– Звук другой. Родной как будто...
Из-за туч вынырнуло звено истребителей.
– Да это же И-16! – закричали кругом. – Здорово, братцы!
– По машинам, по машинам! – раздалась команда.
И-16 оставались в воздухе, пока добровольцы рассаживались по грузовикам. Предстояло
ехать в Альбасете, где находился штаб ВВС Испанской республики.
– Мда, – выговорил наконец Евсевьев. – Не похожа эта Испания на ту, которую я себе
представлял.
– А что ты себе представлял? – Петя непрерывно кашлял. С машин были сняты
выхлопные трубы, от попадавших в кузов газов почти невозможно было дышать.
– Я думал, Испания – край апельсинов и буйной зелени, – признался Иван, – а здесь
сплошные голые скалы да пересохшая земля. Как мы привыкнем к такому климату?
Зажаримся, как караси на сковородке!
– Главное, ребята, мы здесь для того, чтобы фашистов поджарить, – подал голос Сергей
Кузнецов. – А русский человек к любому климату привыкает.
В штабе ВВС их ждали. Вызвали всех сразу, кратко обрисовали задачу.
– Базируетесь на аэродроме Лос-Алькасарес. Там примете и облетаете только что
собранные И-16. Отработаете групповую слетанность, проведете учебные воздушные бои.
Одновременно с этим вам предстоит прикрывать Валенсию от возможных налетов
фашистской авиации. Командир группы, – начальник штаба взглянул в бумаги и затем
поднял глаза на Ивана: – Евсевьев. Свободны.
...В Альбасете был бассейн, и сразу же после получения задания летчики полезли в воду,
остужаться.
– Ну, так еще жить можно! – сказал Сергей Кузнецов, приглаживая мокрые волосы.
18 июня 1937 года, аэродром Алькала-де-Энарес в тридцати километрах от Мадрида
Был вечер. Жара спала. Обычное боевое дежурство на подступах к Мадриду на сегодня
позади.
– Евсевьев, к командующему!
Иван отправился в штаб.
Советник командующего ВВС Птухин встретил летчика, сидя за столом. Политкомиссар
Агальцов при виде Евсевьева встал, протянул ему руку.
– Мы вызвали вас, товарищ Евсевьев, – заговорил Птухин, – чтобы спросить: согласны
вы выполнить очень ответственную и опасную задачу?
Евсевьев, не понимая, переводил взгляд с Птухина на Агальцова.
– Товарищ Мартин, – Иван назвал испанское имя Агальцова, – я прибыл в Испанию
воевать против фашизма. Другого ответа у меня быть не может.
– Хорошо, – кивнул Агальцов. – Об этом разговоре, пожалуйста, не разглашайте. В
ближайшее время вам сообщат о задаче.
Евсевьев вышел, недоумевая.

...Пройдет сорок лет, прежде чем Герой Советского Союза Иван Евсевьев узнает: в те дни
Северный фронт находился в крайне тяжелом положении. Республиканские войска
практически не могли уже сопротивляться. Встал вопрос об эвакуации морем. Чтобы
прикрыть эту эвакуацию с воздуха, было принято решение срочно сформировать из
советских добровольцев истребительную эскадрилью И-16 и перебросить на Северный
фронт.
– У фашистов там было собрано столько воздушных и наземных войск, что у вас
практически не оставалось шансов уцелеть, – объяснил товарищ Мартин. – Могли
погибнуть все, до последнего человека.
– Мы же поехали добровольцами, – напомнил Евсевьев.
– Бывают ситуации, когда и среди добровольцев приходится отбирать добровольцев, —
ответил Агальцов.
21 июня 1937 года, аэродром Альберисия
Утром эскадрилья берет курс на север. Внизу – полыхающая огнем линия фронта.
Стреляют зенитки. Самолеты летят сквозь взрывы, сквозь огонь...
Внизу – аэродром Альберисия.
– Что за?.. – слышится голос в наушниках.
Это высказался Антонио, итальянский коммунист, стрелок на корабле ведущего —
Сенаторова.
Выразительная реплика Антонио ясна без перевода: над аэродромом стояло большое
облако пыли. Сквозь марево видно было, что все летное поле изрыто воронками.
«Вот так сюрприз! – подумал Евсевьев. – Аэродром-то только что бомбили. Вон, даже
пыль еще не осела... Хоть и засекречен был перелет – недаром товарищ Мартин
предупреждал, чтобы помалкивали, – а «пятая колонна» в Мадриде не дремлет...»
«Досадно» – это, в общем, совершенно не то слово в сложившейся ситуации. Горючее на
исходе, а сажать самолеты негде.
Впереди вдруг появился самолет. Евсевьев прищурился: пыль мешала рассмотреть как
следует. «Хейнкель»? Или... Нет, это наш – И-15! Самолет покачал крыльями. Где-то
поблизости есть запасной аэродром!
Точно, в пятнадцати километрах от Альберисии нашлась очень маленькая полевая
площадка. Там, один за другим, приземлились самолеты звена Евсевьева. Остальные
садились в Альберисии, на узкой полоске, чудом не разрытой воронками...
И-15 пилотировал испанский летчик. Он весело приветствовал советских гостей, показал
им новый «дом», названный аэродромом Экис.
Евсевьев осматривался, обдумывал положение. Экис – маленькая полоска луга, в длину
метров шестьсот, да еще уходит вниз, хоть и полого. Для взлета и посадки удобно, но с
одного конца полосы другого не видать, а вот это уже опасно. Взлетая, особенно по
тревоге, можешь наскочить на стоящую внизу машину, которую не видишь!
Да, ситуация. Зато есть, где маскировать самолеты, – к летному полю примыкают две
небольшие рощицы.
Скоро на Экис прибыл командир эскадрильи Валентин Ухов.
– Ну что, как вы здесь устроились? Удобно? Резиденция у тебя, Евсевьев, как у графа! —
засмеялся он. А потом посерьезнел: – Похоже, придется тебе принимать жильцов, Иван.
Того и гляди в Альберисию опять гости нагрянут, а у тебя местечко укромное.
– Согласен, – сказал Евсевьев. – Здесь нас по крайней мере не найдут. Только вот
взлетать и садиться придется только по одиночке.
– В тесноте да не в обиде, – сказал Ухов. – Решено. Перебазируемся к вам.
Аэродром Экис и стал основной базой на время боевых действий на Северном фронте.
В июне 1937 года вся авиация республиканских войск Северного фронта состояла из
одной эскадрильи И-15 «чато» да нескольких машин старых марок – английские
«бристоль», французские «потез» и «ньюпор».
– Летающие гробы, – вздыхал Ухов. – Пятиногие телята.
Что правда, то правда. Использовали их лишь для бомбардировок позиций противника
непосредственно за линией фронта и только при низкой облачности. Как только
развиднялось, они становились легкой добычей.
– Тревога!
Не успели летчики расположиться на своем новом маленьком аэродроме, как сообщили о
приближении к линии фронта противника.
Эскадрилья поднялась в воздух.

На высоте около трех километров Евсевьев увидел, чуть ниже, на встречном курсе девять
«фиатов». Имея хорошее преимущество в высоте, И-16 атаковали. Один «фиат»
перевернулся и упал. Резко пошел к земле второй... Остальные теряют высоту и уходят в
глубь своей территории.
– Не преследовать! – приказывает командир звена Евсевьев. – Наша основная задача
– прикрывать наземные войска.
Боевая работа на Северном фронте началась.
© А. Мартьянов. 15.08. 2012
16. Сикорский-маленький
1900 год, Российская империя, Киев
Мальчик спал.
Сон его был странен, пожалуй, даже тревожен.
Во сне он шел по узкому коридору, мимо отделанных орехом дверей – как на пароходе.
Сверху падал мягкий голубой свет электрических светильников.
Пол под ногами слегка вибрировал, и это тоже напоминало о пароходе. Но мальчик знал,
что это не пароход – это огромный летающий корабль.
– Невозможно, – сказали одиннадцатилетнему Игорю Сикорскому взрослые, когда он
рассказал им свой сон. – Человек не создавал еще удачного летающего аппарата, да к
тому же настолько большого.
...Сон сбылся – с пугающей достоверностью, вплоть до деталей, вплоть до светильников
и ковра под ногами, – спустя тридцать лет.
Игорь Сикорский долго, упорно и успешно работал ради того, чтобы пригрезившееся
стало реальностью.
Начало сентября 1911 года, Киев
Командующий войсками округа генерал-адъютант Иванов пожал руку молодому летчику.
– Поздравляю вас, Игорь Иванович. Государь обратил внимание на ваше выступление во
время больших маневров. Особенно ему понравилось, что вы убедительно
продемонстрировали превосходство своего самолета над моделями иностранных марок.
Кое-кто уже начал называть вас «русским Фарманом», но мы надеемся, что вы
превзойдете даже этого знаменитого француза.
Игорю Ивановичу было двадцать два года.
Для него самолеты не стали ни видом спорта, ни модным увлечением. Он видел в них
вестников научно-технического прогресса.
Но сначала требовалось сделаться пилотом, и Сикорский сдал экзамен. Он летал не на
«фармане», как большинство, а на аэроплане собственной конструкции – «Сикорском-5».
И практически сразу же установил на нем первый рекорд продолжительности полета на
русском аэроплане.
Вот тогда-то и последовало приглашение от генерала принять участие в маневрах в
Высочайшем присутствии. После нового успеха Сикорский представил свою «пятерку»
как экспонат на Воздухоплавательной выставке в Харькове.
Февраль 1912 года, Петербург
Лейтенант Императорского Российского Военно-Морского флота Георгий Лавров удобно
вытянул ноги, устроившись в «покойном» кресле. Сикорский поглядывал на друга
детства, чуть улыбаясь.
– Ты знаешь мою мысль, – говорил Сикорский. – Сейчас все летают на маленьких
самолетах с одним мотором. Обычно и пилот один. Если мотор заглохнет, некому
исправить неполадку. Следствие – самолет просто падает. А я думаю о больших
самолетах – с несколькими моторами, с большим экипажем. Чтобы люди могли
страховать и поддерживать друг друга.
– И люди, и моторы, – подхватил Лавров. – Ты же знаешь – я с тобой, что бы ты ни
задумал.
Сикорский задумал новый самолет «Сикорский-6» – с более мощным двигателем и
трехместной кабиной.
– А ты все прежний, не угомонишься, – заметил Лавров с удовольствием.
– Не угомонюсь.
Друзья, киевские студенты, не вылезали из мастерской Сикорского на Куреневском
аэродроме. Внешне эта мастерская напоминала обычный сарай. Но там происходили
интересные вещи. Там создавались самолеты. Товарищи Сикорского заказывали ему
аэропланы – и получали их. Всегда разные.
Сикорскому нравилось быть не только конструктором, но еще и испытателем, и учителем.
Каждый новый самолет означал следующий шаг в освоении воздушного пространства.
И вот теперь – Петербург...
– Сейчас Акционерное Общество Русско-Балтийского вагонного завода переводит
авиационный отдел из Риги в Петербург, – продолжал Сикорский. – Мне предложили,
собственно, организовать этот отдел – здесь, в столице.
– Будешь заниматься своими тяжелыми самолетами?
– И не только. Я раздумываю также над гидроаэропланами. Мне уже передавали, что
морское ведомство сильно угнетено необходимостью зависеть от капризов иностранной
промышленности. Нужны русские гидроаэропланы!
– Как ты все успеешь? – поразился Лавров.
– Я ведь только что рассказал тебе основную концепцию, – ответил Сикорский. —
Материальная база у меня серьезная. И я, как и большой самолет, не собираюсь работать
один.

Ты пойми, – продолжал Сикорский, постепенно утрачивая спокойный вид и чуть
разгорячась, что было для него нехарактерно, – ведь для России с ее немыслимыми
расстояниями аэропланы особенно важны! Воздушная дорога всегда свободна, ее не
нужно ремонтировать. Свой путь аэроплан совершает в два, три раза быстрей, чем поезд.
Значит, спешные грузы будут доставлены куда скорее! Да и пассажиры в случае спешных
дел, например, государственных, вовремя попадут на место. А теперь представь себе,
какие огромные залежи полезных ископаемых не исследуются и не разрабатываются
просто потому, что люди не хотят ехать в отдаленную экспедицию, подолгу не иметь
связи с врачами, с почтой. Все это преодолеет аэроплан!
– Когда я смотрю на тебя и слушаю твои рассуждения, – отозвался Лавров, – мне
вспоминаются мечты Леонардо да Винчи о летательных аппаратах. Помнишь, ты о них
рассказывал, – как ты увлекался этим в детстве?
– Я уверен, что эти мечты можно воплотить, – серьезно ответил Сикорский.
– Ты намерен наконец получать диплом в университете? – перевел разговор Лавров.
Вопрос был не праздный: Сикорский начал учебу в Париже, в Технической школе
Дювиньо де Лано, продолжил в Киевском политехническом, но потом забросил – занялся
летательными аппаратами.
– Попробую получить в Петербургском Политехническом, – ответил Сикорский.
...Диплом инженера он получил в 1914 году, накануне войны.
Октябрь 1914 года, Петербург
Игорь Иванович принял Лаврова в своем кабинете. Лаврова отозвали с фронта по
требованию Сикорского.
– А помнишь, как мы года два назад рассуждали?.. – заговорил Лавров.
Принесли чай, сладкие сухари. По этой примете Лавров понял, что разговор предстоит
долгий и серьезный.
Сикорский кивнул.
– Все помню и сейчас повторю: если работать в одиночку, ничего не получится. Я сейчас
занят тяжелыми многомоторными гигантами. Они летают далеко и хорошо бомбят. Из
них будет сформирована боевая эскадра воздушных кораблей – первое в мире
соединение стратегической авиации.
– Из твоих «муромцев»? – Лавров чуть улыбнулся. На огромном «Илье Муромце»,
который получил после этого полета титул «Киевский», они летали вместе в Киев... Это
было до войны. Теперь огромные самолеты Сикорского воюют.
– Да. Сейчас не это тема нашего разговора, – строго ответил Сикорский. – Нужен
новый,
одно-
или
двухместный
скоростной
учебно-тренировочный
биплан.
Принципиально новый. Прежние успели устареть. Время, Георгий, побежало как-то
неизмеримо быстро... Может быть, потому, что человек поднялся в воздух, – кто знает? В
любом случае, самолет этот, назовем его С-16..
Да. За несколько лет Сикорский успел построить шестнадцать разных типов самолетов. И
доводить до ума «шестнадцатый» предстояло Лаврову.
Сикорский подготовил эскизы общего вида, компоновку, весовой расчет, эскизы
некоторых основных частей нового аппарата. Его сотрудники, чертежники со средним
техническим образованием, сделали подробную конструкторскую проработку этих
деталей. Исследования по аэродинамике машины проводились в лаборатории
Петербургского Политехнического института – крупнейшей в России. А наблюдение за
постройкой и испытаниями доверили лейтенанту Лаврову. Самолет С-16 был нужен
армии в кратчайшие сроки.
– Расскажи вкратце, – попросил Лавров, когда Сикорский показал ему пачку чертежей.
– Вкратце – это самолет по типу «Таблоид». Помнишь, английский самолет, имя
конструктора Сопвич? Хорошо выступил на международных соревнованиях на кубок
Шнейдера. Быстрый и вообще – удачный.

– Помню, конечно, – кивнул Лавров. – «Кавалерийский» самолет. Маленький,
скоростной. Подобно конному разведчику, внезапно появляется в районе расположения
противника, производит наблюдения и быстро доставляет сведения своему
командованию. Британцы их называют еще «скаутами».
– Все точно схватываешь, – одобрил Сикорский. – Строим «скаут». Чистый биплан.
Два пилота. Кабина получается тесная, но в тесноте да не в обиде.
– Ты верен себе, – улыбнулся Лавров.
– Да. Работа в команде. В общем, схема отчасти знакомая. Помнишь «пятерку»? Потом
еще были «восьмерка» и «десятка»... Все легкие бипланы. Приблизительно такой.
Ознакомься с документацией, осмотрись в мастерских – и завтра приступай.
– Сразу назови главную головную боль, – попросил Лавров. – Только честно.
– Когда я был нечестен?.. Главная и непрерывная головная боль – моторы. Прямо
моторный голод какой-то! Из Франции поставки нарушены, отечественные авиамоторные
заводы ни черта толком не выпускают. Ненавижу, когда хаос стоит на пути. Все, кажется,
продумано, найдены средства, люди трудятся – и тут какая-то ерунда, глупость какая-то
– и все псу под хвост.
Он помолчал немного, чтобы успокоиться, и вдруг засмеялся:
– Ну все. Высказался. Теперь давай работать.
Январь 1915 года, станция Яблона, к северу от Варшавы
Император Николай Второй стоял на аэродроме. На нем была простая шинель. Лицо
государя сохраняло спокойное, доброжелательное выражение.
Он прибыл с инспекцией в Эскадру воздушных кораблей, которая базировалась в Яблоне.
Здесь собрались все «муромцы», а также множество легких самолетов.
Генерал Михаил Шидловский встречал императора. Тот приветливо поздоровался с
генералом, нашел глазами среди прочих встречающих знакомое лицо – молодого
конструктора Сикорского. Вспомнил: кавалер ордена Святого Владимира IV степени.
Кивнул, как доброму знакомому.
Затем начался осмотр самолетов.
Возле С-16 государь остановился. Летчик, ждавший рядом с самолетом, вытянулся.
– Как служится? – спросил Николай.
– Хорошо, ваше величество!
– Как самолет?
– Очень хорошо, ваше величество!
– Например? – Император продолжал смотреть широко раскрытыми, очень светлыми
глазами.
Пилот ответил уже проще:
– Удобный самолет, ваше величество. Управлять легко. И быстрый! Аж до ста
пятидесяти километров в час, может, поменьше, но немного. Ну и поднимается быстро, на
километр от земли минуты за четыре. Его и иностранцы осматривали, и летчики из других
частей, – всем по душе.
Император благосклонно кивнул, пошел дальше.
По обыкновению, государь ничего не сказал прямо. Генерал Михаил Шидловский,
председатель правления Русско-Балтийского вагонного завода после этого визита шепнул
Сикорскому:
– Я ему напишу
...После
неоднократных
ходатайств
Шидловского
Ставка
Верховного
Главнокомандующего обратилась в штаб с телеграммой:
«Ввиду необходимости малых аппаратов для выполнения некоторых задач и тренировки
личного состава Эскадры воздушных кораблей в табель введено двенадцать легких
аэропланов. Часть этих аппаратов фактически уже имеется в Эскадре. Однако составляет
собственность Вагонбалта. Ввиду желательности иметь аппараты «Сикорский-16», о чем
ходатайствуют и летчики, благоволите о распоряжении приобрести имеющиеся
аппараты»...
Говоря проще, государство покупало у Вагонбалта имеющиеся С-16 и делало заказ на
следующие экземпляры.
Каждый самолет стоил девять с половиной тысяч рублей. И еще чуть меньше этой суммы
– за комплект запчастей.
Сикорский считал: пилоты должны иметь возможность ремонтировать самолет. Никаких
аварий из-за того, что «не хватило гайки» или из-за того, что летчик был оставлен наедине
со своей проблемой.

Декабрь 1915 года
Лейтенант Лавров прибыл с фронта и сразу же отправился на завод.
– Разведчик-скаут – это хорошо, – заговорил он с Сикорским, – но по-моему, пора
вооружить «Сикорского-маленького».
Сикорский даже не улыбнулся, услышав это прозвище, которое дали С-16 летчики.
– Говори.
– Необходимо сформировать отряд истребителей. Производить разведку, намечать цели
для Эскадры – хорошо, но мало, – объяснил Лавров. – С-16 может больше.
Он привез с собой «подарок» – разработанный еще осенью и построенный в мастерских
Эскадрильи первый в России «синхронизатор» – «приспособление для автоматической