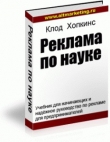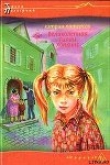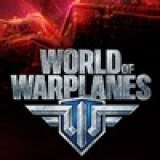
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
кулак был заменен кукишем, а внизу написано: «Наш ответ Керзону».

Да, таким был ответ молодой Советской Республики на ультиматум британского
империализма. Новая эскадрилья. Она так и называлась – «Ультиматум».
Каждый самолет имел собственное имя – «Ультиматум московских рабочих», «Наш
ответ Керзону», «Нижегородский ультиматум», «Абхазский ультиматум»...
Председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин произносит речь. Он растроган,
голос дрожит, ветер относит слова в сторону, – но ведь все понятно и без слов.
Самолеты, которыми вооружили эскадрилью, были английской постройки. Такая вот
смешная ирония судьбы.
Это были «Де Хэвилленды» – DH-9А, носящие имя своего создателя, сэра Джеффри Де
Хэвилленда. Надежный биплан, «Де Хэвилленд» был выпущен в огромных количествах
– более четырех тысяч экземпляров. А потом усовершенствованный вариант, с лучшим
мотором, – еще почти четыре тысячи.
После войны в Англии оставалось много этих самолетов. И годных, и поломанных. И с
моторами, и без моторов. А Советская Россия готова была платить. Что ж, буржуазный
мир есть буржуазный мир: нажива прежде всего – и сделка состоялась.
DH-9А поставлялись из Англии в СССР, где изучались, дорабатывались, приводились в
порядок. На какие средства? Да на те самые, которые собирали активисты ОДВФ.
Это потом уже армейский разведчик-биплан DH-9А превратится в первенца советского
авиастроения, Р-1, машину, на которой учились все: и летчики, и конструкторы. Она
помогала не только осваивать летное дело, но и создавать новые самолеты.
Пока что он, еще в «первозданном виде», стоит на московском аэродроме под гром
«Авиамарша» (как тогда писали – «Авио Марша»). Готовый дать достойный ответ
Керзону – свой собственный пролетарский ультиматум.

Январь 1924 года, Лондон
Лорд Керзон закрыл дневник, опустил веки. Его тонкое лицо было бледным, высокий лоб
с залысинами покрылся потом. Все-таки он сумел добиться многого.
Советское правительство трусливо пошло на уступки. Заплатило за расстрел британских
шпионов. Священников, правда, не выпустило – да и черт с ними, с православными
мракобесами. Главное – за британскую кровь уплачено золотом.
В какой-то мере это – успех его, лорда Керзона. Успех британской дипломатии. Он
может быть удовлетворен. В его мемуарах появится новая красивая страница.
...И не знал вице-король Индии, потомок знатного рода, что в историю он войдет вместе с
жизнерадостным пролетарским кукишем на самолете английской конструкции, а имя его
сделается поговоркой совсем не в дипломатическом контексте.
© А. Мартьянов. 12.10. 2012.

28. Крылья Червонного
Март 1912 года, аэродром Червонное Волынской губернии
...К обломкам аппарата уже бежали люди.
Летчик Яновский с трудом выбрался из-под обломков. Он сильно пострадал, но был жив и
в сознании.
Инженер Зембинский пришел в ярость.
– Вы это сделали умышленно! – кричал он на Яновского. – Я обо всем доложу Федору
Федоровичу!
Имение Червонное и аэропланная мастерская принадлежали Федору Федоровичу
Терещенко, богатому помещику и сахарозаводчику. Он сам устроил аэродром на выгоне
для скота – площадью в сорок один гектар.
С юности Терещенко заинтересовался аэропланами. И поскольку был богат, а семья во
всем содействовала увлечениям «Федорика», как его называла матушка, то скоро уже у
помещика имелась собственная мастерская.
Сергей Сергеевич Зембинский прибыл в Червонное по приглашению хозяина после того,
как тот лишился своего главного конструктора, талантливого Дмитрия Павловича
Григоровича.
«Дезертирство» Григоровича обернулось для Терещенко поначалу настоящей бедой. Но с
Петербургом не потягаешься – а именно туда, на завод Первого Всероссийского
товарищества воздухоплавания, сманил конструктора один из основателей этого
товарищества, господин Щетинин.
Зембинский же с удовольствием «принял хозяйство». Червоннская авиамастерская
существовала на доходы от производства сахара и спирта. Она являлась передовым
предприятием: собственное конструкторское бюро, четыре авиамотора, три самолета —
один «Блерио-XI», купленный Федором Терещенко за границей, и два моноплана
собственной постройки.

Затем были разработаны и созданы еще два самолета: «Терещенко № 2» и «Терещенко №
3» – наследие Григоровича, который проделал основную конструкторскую работу.
Зембинского эти «Терещенки» не устраивали, и он, после «бегства» Григоровича,
вплотную занялся новым монопланом – «Терещенко № 4».
– Четвертый номер будет гораздо лучше летать, – утверждал Зембинский. – Мы не
станем разбрасываться усилиями. Раз уж Федор Федорович вывез из-за границы
«Блерио», то станем изучать «Блерио» и на его основе конструировать собственные,
лучшие монопланы. А испытания покажут, где недостатки и где достоинства.
Впрочем, в достоинствах своего самолета Зембинский не сомневался. Этот аппарат
готовили к показу на Московской воздухоплавательной выставке. Тем ужаснее оказалась
катастрофа Яновского.
...– Вы это нарочно сделали! – напустился Зембинский на летчика.
Яновский, вытирая кровь с лица, пытался возражать:
– Зачем бы я стал сам себя гробить, помилуйте, Сергей Сергеевич?
– Да уж не знаю, зачем! – злился Зембинский. – Может, доказать хотели, что
Григорович лучше меня самолеты строил. Вы умышленно заложили крутой вираж на
малой высоте и крылом за землю зацепили. Я видел!
Вечером пилота навестил управляющий имением – Вашкевич.
– Мне, господин Яновский, нужно писать сейчас донесение Федору Федоровичу, —
сказал он. – Вы уж соблаговолите дать объяснения. А то от господина Зембинского, сами
знаете, толку не добьешься, он только ругается.
– Да я вообще летать сегодня не собирался, – признал пилот. – Хотел сделать два
прыжка. А тут аппарат попал на вспаханное поле. По всей вероятности, зацепил одним
противокапотажным полозом за почву и сделал резкий поворот. Это и вызвало падение.
Никакого злого намерения у меня, Боже упаси, и в мыслях-то не было!
– А зачем вы хотели делать два прыжка?
– Да у Зембинского ведь не выспросишь, чего он хочет! – в сердцах сказал пилот. – То
лети, то не лети. Думал проверить кое-что в самолете. Говорил бы определенно, а то ведь
клещами не вытянешь, чего добивается, а потом других винит.
– Думаю, господину Зембинскому придется покинуть Червонное, – сдержанно
проговорил Вашкевич.
Федор Федорович поддержал своего управляющего. Инженер был уволен.
Октябрь 1913 года, Гатчина
– Господин Терещенко поручил мне передать аппарат Офицерской воздухоплавательной
школе! – Такими словами завершил свою речь новый конструктор Червонного, француз
Альфред Пишоф.
Щедрый дар известного промышленника был встречен общими рукоплесканиями.
К конкурсу военных аэропланов самолет – «Терещенко № 5-бис» – не успел. Жаль —
ведь новый конструктор предложил интересные решения.
– Я намерен принять участие в конкурсе и получить заказ от военных, – объяснял
Терещенко Пишофу. – А они хотят, чтобы самолет можно было быстро доставить к
месту назначения наземным транспортом. Поэтому новая конструкция должна быть
простой в сборке и разборке. Сумеете?
...Когда Пишоф показал Федору Федоровичу самолет, который разбирался за несколько
минут, Терещенко поначалу даже не поверил. Но факт оставался фактом: «Терещенко №
5» можно было подготовить к транспортировке практически мгновенно.
– Вот еще кое-какие новшества, – Пишоф обратил внимание работодателя на
применение роликов в системе тросового управления. – Ну и наконец – главное. Теперь
двигатель можно запускать силами одного летчика, без наземного персонала.
– Опоздали – не страшно! – говорил потом Терещенко. – Выступим вне конкурса.
Главное – показать наш самолет в Петербурге. Придемся ко двору – так и без всяких
конкурсов заказ получим.
На аэродроме он с интересом наблюдал за полетами самолетов других конструкторов.
Пишоф стоял неизменно рядом, морщил лоб, делал заметки в блокноте.
– Я вот думаю, мсье Пишоф, – обратился к нему Терещенко, – завести у нас в
Червонном аэродинамическую лабораторию. Я получил положительное письмо от
Жуковского, где он дает мне дельные советы на сей счет. Что скажете?
– Скажу, что вон тот самолетик – голландский, что ли? – выделывает большие чудеса,
– отозвался Пишоф.
Терещенко прищурился.
– Вы правы, – признал он. – Летчик высококлассный. Выжимает из машины все, что
только можно. Вот бы нам такого.
– Хотите сманить? – удивился Пишоф.
– А почему бы нет? – вопросом на вопрос ответил Терещенко.
Каково же было его удивление, когда ему представили пилота, и это оказалась женщина!
– Голанчикова, – она протянула руку по-мужски.
Терещенко замешкался, не зная, перевернуть ли ладонь дамы для поцелуя или же ответить
ей рукопожатием. Остановился на втором.
– У меня есть к вам предложение, госпожа Голанчикова, – сказал украинский
предприниматель. – Мне необходим летчик-испытатель. Господин Яновский в основном
лежит в госпитале, потому что часто разбивается, но вы, кажется, по госпиталям скакать
не намерены.
– Со мной тоже бывало, – призналась Голанчикова. – Если вас это не пугает...
– Меня абсолютно ничего в вас не пугает, – заверил ее Терещенко. – Согласны ли вы
работать на меня?
– Почему бы нет! – задорно ответила молодая женщина.
– Не пожалеете, – сказал Терещенко. – У меня интересно. В мастерской пять
металлообрабатывающих станков, столько же станков по дереву. Все технологии самые
передовые. Оплата – пятьсот рублей ежемесячно, квартира в Червонном и стол.
Голанчикова получила на руки объемный трактат и углубилась в чтение.
«Обязуюсь в течение года летать на аппаратах, которые мне будут даны фирмой
Червоннской аэропланной мастерской. На других же аппаратах производить полеты не
представлю себе права».
«Принимаю на себя полную ответственность в случае могущих произойти со мной
несчастных случаях, не дай Бог, во время полетов».
Голанчикова прочитывала и подписывала. Условия казались вполне справедливыми.
31 января 1914 года, Червонное
– Думаю, нам трудно заинтересовать заказчиков самолетами собственной разработки. —
К такому неутешительному выводу Терещенко пришел после возвращения из Петербурга.
– Поэтому, господа, – он остановил взгляд на своем новом конструкторе Василии
Иордане, который начинал свой путь с Сикорским, но перешел к Терещенко в надежде на
самостоятельную работу, – временно переходим к копированию французских образцов.
На столе уже лежал контракт на поставку восьми аэропланов типа «Фарман XXII» с
двигателями «Гном» в восемьдесят лошадиных сил.
– Это хороший договор. – Терещенко говорил твердым голосом, уверенно. – Цену
одного самолета установили в девять тысяч рублей. Общая сумма контракта – свыше
девяноста трех тысяч рублей.
– А чертежи? – спросил Иордан мрачным тоном.
– Чертежи прилагаются. И оговорено специально, – Терещенко усилил в голосе нажим,
– что аппараты должны быть поставлены во всем сходно с прилагаемым чертежом. Все
операции по изготовлению и сборке производятся под наблюдением офицеров,
назначенных Воздухоплавательной частью.
– А испытания? – подала голос Голанчикова.
– Да, теперь об испытаниях. Они проводятся перед комиссией. Ее решения
безапелляционны. Если провалимся – это наши риски, – ответил Терещенко.
– Мы не провалимся, – уверенно произнесла Голанчикова.
– Надеюсь, – кивнул Терещенко. – От нашего самолета требуется, чтобы он с полной
полетной массой мог набрать высоту в пятьсот метров за двенадцать минут. Полет, не
касаясь земли, – в течение полутора часов. И после посадки должно быть констатировано
осмотром, что аппарат может повторить полет без каких-либо исправлений.
Пишоф поднялся с места:
– Братья Фарман уполномочили меня как своего земляка оговорить условия оплаты
лицензии.
Терещенко спохватился:
– Позвольте представить вам нового директора Червоннского аэропланного завода —
господина Пишофа. Сам же я намерен работать над стратегическими путями нашего
развития – и над собственными самолетами.
Июнь 1914 года, Киев
Альфред Пишоф поднял в воздух «Терещенко № 5-бис». Руководить заводом, конечно, —
прекрасное и важное дело, но Пишоф еще и летчик. А господин Терещенко ясно дал
понять, что копирование зарубежных образцов (кстати, оплату лицензии Фарманам он
произвел быстро и аккуратно) – временная мера. Нужно развивать собственные
самолеты.
На «Терещенко» стоял мотор «Рон» мощностью в шестьдесят лошадиных сил. Впервые в
России. Он был куда надежнее «Гнома», хотя и менее распространен.
Маршрут намечался из Червонного до Киева через Городище и Кагарлык. Общая
протяженность – почти пятьсот верст. Пишоф решил не брать с собой механика.
«Терещенко» – надежный самолет, и первое лицо завода бралось это доказать
собственным примером.
Последний перегон, из Кагарлыка до Киева, оказался трудным: поднялся сильный ветер,
пошел дождь. Небо было затянуто тяжелыми облаками, и Пишоф потерял ориентировку.
Пришлось ему вернуться к месту взлета и начать расспрашивать жителей.
Самолет шел на высоте не более двухсот метров. Качало, как на море в шторм, но Пишоф
не сдавался – и через сорок минут благополучно опустился на Киевский военный
аэродром.
«Полная удача! – рапортовал он Терещенко уже из Киева. – В течение всего
путешествия аппарат и мотор были в полной исправности, несмотря на то, что спускаться
приходилось на незнакомую и крайне неудобную местность и аппарат вынужден был
находиться целую ночь на открытом воздухе под дождем».
Осень 1915 года, Червонное
Управляющий имуществом Терещенко Вашкевич был совершенно вымотан.
Линия фронта приближалась. Необходимо было как можно скорее эвакуировать
авиационный завод.
Как на грех, Вашкевич сейчас остался «на хозяйстве» один: Пишоф перебрался в Одессу
на завод Анатры, еще одного промышленника, занимавшегося самолетами; Иордан
находился на военной службе и был назначен начальником авиационной базы Восьмой
армии; а сам Федор Федорович Терещенко выехал во Францию – вместе с другими
членами комиссии по заготовке авиационного и автомобильного имущества.
В пятнадцатом году завод мог сдать примерно пятьдесят самолетов – за год. Французы, с
которыми был заключен договор, срывали поставки. Имелись и другие сложности,
связанные с тем, что русские конструкторы постоянно вносили изменения в «фирменные»
чертежи.
Так что Вашкевич фактически один перетаскивал завод в Киев. Ситуация сложилась
трудно: от военных пришло уведомление – завод Терещенко может рассчитывать на
дальнейшие заказы от армии лишь в том случае, если обеспечит выпуск ста пятидесяти
самолетов в год, никак не меньше. Поэтому предстояло приобрести новый земельный
участок площадью в полторы тысячи квадратных саженей, да построить новые
производственные здания, на персонала нанять – аж четыреста человек. Хлопот полон
рот, а хозяин в Париже.

Неудивительно, что Вашкевич не совладал с задачей. Зато удалось достроить в Киеве
новый
аэроплан
–
«Терещенко
№
7».
...Червоннский завод в срочном порядке вывезли в Москву и разместили прямо на
Ходынском поле. Начались переговоры с заводом «Дукс», который предлагал купить все
это добро за сто тысяч рублей.
Пока шла распродажа, испытывали новый самолет. Москва – не Киев, здесь к Терещенко
относились плохо. «Сахарная голова летать вздумал!» Самолет «Терещенко № 7» имел
много недоброжелателей – «на почве конкуренции» – и заглох.
19 декабря 1916 года, Действующая Армия
Терещенко перечитал приказ.
Великий Князь Александр Михайлович личным приказом направлял «поезд-мастерскую»
в состав действующей армии.
Терещенко лично возглавлял свое новое детище – передвижную мастерскую по ремонту
самолетов. В Москве этот поезд – «остаток» Червонного завода – начал работу под
открытым небом, под дождем и снегом. Личный состав торопился освоить ремонт
самолетов и моторов. А уж потом появились и вагоны, и паровоз.
И вот – фронт.
За руководство передвижной мастерской во фронтовых условиях Терещенко был
награжден орденами Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени.
20 февраля 1948 года, Париж
Звучал Шопен.
Федор Федорович Терещенко опустил руки, но музыка, казалось, задержалась в комнате.

Прошло столько лет... Революция, отобравшая у него любимое Червонное. Горькие годы
эмиграции. Любимый Париж, оккупированный немцами...
Уже давно Федор Федорович не строил самолетов и не помышлял о полетах. Как далекие
годы юности, когда он самозабвенно писал любящим маме, отцу, тете о своих первых
впечатлениях и уверял их, что летает «всего на двенадцати метрах над землей» и что
«опасности никакой нет»! Университет, ранняя женитьба на графине Елизавете
Кейзерлинг, старше его на пять лет, даме флегматичной – и все же не простившей
супружеской измены... Развод в шестнадцатом году – со скандалом, с епитимьей, с
выплатой компенсации оскорбленной жене...
Музыка – вот великий целитель души. Терещенко сделался специалистом по Шопену,
давал концерты, писал статьи.
Другим его увлечением стала астрология. В Париже имелось общество любителей, и
Терещенко сделался среди них завсегдатаем, даже выпустил книгу об астрологических
принципах медицины.
Жить оставалось недолго – в январе 1950 года Федор Федорович Терещенко скончается.
На Родине о нем ничего не знали. Но это его не беспокоило. Настанет время – и История
всех расставит по местам.
© А. Мартьянов. 12.10. 2012.
29. Эскадра: «Святогор» против «Ильи
Муромца»
20 июля 1914 года, Гатчина
Великий князь Александр Михайлович не скрывал раздражения.
– Вся эта затея с большими кораблями представляется весьма сомнительной.
Как полевой генерал-инспектор авиации и воздухоплавания, великий князь вынужден был
принимать решение касательно тяжелых самолетов Сикорского. И это его нервировало.
Конструктор Игорь Сикорский всегда считал, что настоящий успех возможен лишь при
коллективной работе. Отчасти поэтому он построил самолет «Илья Муромец» —
большой, тяжелый, с экипажем в несколько человек, с четырьмя моторами. И буквально
за три недели до начала войны совершил на нем долгий перелет – из Петербурга до
Киева.
– Мы доказали, что воздушный корабль, мощный, снабженный хорошими моторами,
способен преодолевать неблагоприятные условия воздушной стихии, при которых
обычные аэропланы лететь не в состоянии, – заметил Сикорский.
Великий князь поморщился:
– Опять вы со своим «Ильей Муромцем Киевским»! Это неповоротливая машина. Как ее
использовать на войне?
– Мы считаем, что «Илья Муромец» – отличный тяжелый бомбардировщик, – ответил
вместо Сикорского начальник Гатчинской авиашколы полковник Ульянин. – Для него
потребуются специальные авиабомбы и стрелковое вооружение. Главное артиллерийское
управление уже получило заказ.
– Но что он будет делать на фронте? – нахмурился великий князь.
– Разберемся на месте, – ответил Ульянин. – Штабы с командирами кораблей примут
решение согласно обстановке.
– Ладно, пока занимайтесь комплектованием отрядов, – сдался Александр Михайлович.
– Сейчас необходимо собрать все наши силы в кулак, чтобы дать отпор коварному врагу.
Ноябрь 1914 года, Барановичи, Ставка

Генерал-майор Шидловский нервничал. Ситуация с «Муромцами» – его любимым
детищем – складывалась самым неблагоприятным образом.
Сперва на фронт были отправлены два воздушных корабля. Их предоставили самим себе,
и действовали они без руководства и технической помощи. Ничего удивительного, что
тяжелый бомбардировщик, могущий нанести врагу значительный урон, выглядел сейчас
беспомощно и жалко.
А тут еще постоянные донесения штабс-капитана Руднева, командира одного из
воздушных кораблей. Руднев пользовался репутацией храброго офицера, поэтому ему
верили.
Штабс-капитан неустанно писал, что «Муромец» не в состоянии подняться на боевую
высоту, что аппарат ненадежен. Между тем экипажи Эскадры сидят без дела, и таким
образом лучшие летчики страны отвлекаются от фронта ради «сомнительного
изобретения» Сикорского.
Шидловский не мог спокойно смотреть, как погибают лучшие надежды на применение
такого мощного оружия, как «Муромцы». И написал лично Верховному
Главнокомандующему – великому князю Николаю Николаевичу.
Теперь его ждали в Ставке.
– Вам известна позиция великого князя Александра Михайловича, – такими словами
встретил его Верховный. – Он не доверяет новейшей технике, тем более – русской.
Аппараты Сикорского, по его мнению, – не более, чем раздутая авантюра.
– Это не так! – возразил Шидловский прямо. – И мы беремся доказать свое мнение.
– У вас уже найден способ? – прищурился Верховный Главнокомандующий.

– Мы предлагаем организовать Эскадру Воздушных Кораблей десятикорабельного
состава, – ответил Шидловский. – Поделить авиацию на тяжелую, подчиненную
Главному командованию, и легкую – подчиненную войсковым соединениям.
– Где предполагаете базирование? – заинтересовался великий князь Николай
Николаевич.
– Идеально подходит местечко Яблонна близ Варшавы. – У Шидловского на все был
готов ответ: он обдумывал этот разговор не один день. – Яблонна находится недалеко от
фронта. С севера защищена Ново-Георгиевской крепостью, с запада – позициями по реке
Бзуре, с юга – Варшавской оборонительной системой. Поблизости имеется поле, годное
под аэродром.
– Я просмотрю бумаги, – обещал великий князь Николай Николаевич. – Вам придется
обождать несколько дней.
Через несколько дней Шидловский был назначен начальником Эскадры.
21 января 1915 года, Яблонна
Прибытие великого князя Александра Михайловича стало для Эскадры неожиданностью.
Великий князь изъявил желание познакомиться с Эскадрой, и скоро на аэродроме
выстроился весь летный состав.
Шидловский с тяжелым сердцем принимал высокого гостя. Он знал, что мнение
Александра Михайловича о «Муромцах» не переменилось.
– Ну что ж, – проговорил великий князь, – как вижу, вы тут неплохо устроились.
Сначала забрали себе в подчинение Эскадру, отвлекли от боевой работы лучших пилотов
и многочисленный технический персонал. А сами сидите без дела.
Шидловский понимал: великий князь страшно недоволен тем, что Эскадру организовали
без его участия.
– Я советовался со специалистами, – продолжал Александр Михайлович, – и все они
держатся единого мнения: «Муромцы» разработки Сикорского совершенно непригодны.
Кто такой Сикорский? Недоучка, дилетант! Его аэропланы обладают серьезными
дефектами, которые ведут к неминуемой катастрофе.
– Можно ли просить вас привести пример? – осведомился Шидловский.
– Извольте! – отвечал великий князь, неплохо разбиравшийся в аэронавтике. – Корабль
и особенно шасси недостаточно прочны. Фюзеляж настолько длинен и тонок, что при
крутом вираже не выдержит крутящего момента, создающегося мощными рулями, и
гибель экипажа неизбежна. Расстояние между верхними и нижними планами слишком
мало – будут образовываться вихревые токи, а они породят вибрацию всего корпуса.
Корпус же, как уже говорилось, недостаточно прочен. Шасси, стойки и стяжки создают
сопротивление, уменьшающее высоту и скорость корабля. Плоский профиль крыла не
обладает необходимой подъемной силой – не лучше ли было поставить толстое крыло?
– Таково мнение вашего высочества? – тихо спросил Шидловский.
– Разумеется, я многократно советовался со специалистами! – был резкий ответ
великого князя. – Да если непонятны все эти научные доводы, приведу более простые:
высота полета «Муромца» будет недостаточно большой. А сам корабль – отличная
мишень. Вас будут расстреливать, как уток во время охоты. Такой довод недостаточен?
– У «Муромцев» уже был успешный опыт планирования при остановке всех моторов, —
сказал Шидловский. Он понимал, что нет смысла возражать сразу на все.
– Можете продемонстрировать?
– Извольте.
Командир третьего корабля штабс-капитан Бродович подготовил своего «Илью Муромца»
к полету. Набрав высоту, он выключил один, потом второй, затем и третий моторы.
Помедлив, выключил и четвертый. Самолет продолжал держаться в воздухе, перейдя на
кратковременное планирование. Затем Бродович снова включил мотор и произвел
успешную посадку.
– Штабс-капитан Бродович может показать спуск корабля и при всех выключенных
моторах, – прибавил Шидловский. – Впрочем, боясь совсем их заглушить, он
временами их включал, снижаясь, как говорят летчики, «на тыркалке».
– «Тыркалка»! – фыркнул великий князь. – Господи, о чем мы только говорим! Такой
метод я знаю, он годится, если мотор слабый. А у ваших «Муромцев» – до трехсот сил.
Таковой мотор дает слишком сильный рывок, чего делать категорически не
рекомендуется.

И великий князь сердито замолчал.
– Теперь насчет шасси, – продолжал Шидловский, стараясь не замечать растущего
раздражения собеседника. – Мы весьма долго дискутировали посадку «Муромца».
Практиковался обыкновенно один способ – посадка с большой скоростью и с поднятым
хвостом при дальних заходах. При работе моторов почти на полном газу корабль
выводился на прямую линию против ветра. Снижение доводилось до пятнадцати футов. В
момент пролета кромки аэродрома моторы выключались, и корабль проваливался до
упора колесами.
– Стукался, стало быть, изо всех сил и давал «козла», как говорят ваши летчики, —
заключил великий князь. – Изумительно, учитывая слабые шасси.
– Вовсе не слабые, – возразил Шидловский. – Мы проводили опыт, который можем
повторить хоть сейчас: на крыльях «Муромца» выстраивался весь отряд капитана
Горшкова, все двадцать четыре человека, – и хоть бы что!
– Идет война, а вы тут в игрушки играете, – стоял на своем Александр Михайлович.
– Командир второго корабля, поручик Панкратьев, недавно показал совершенно
инструкторскую посадку, – Шидловский упорно пропускал мимо ушей выпады великого
князя. – Подвел корабль к земле на наименьшей скорости. Это позволило произвести
посадку на три точки – без всяких там «козлов». При подобной посадке командир имеет
в резерве регулировку газом, которая позволяет исправить возможную ошибку в расчете...
А шасси держат. И корабль вполне надежен!
– Я попрошу вас сейчас оставить меня наедине с летным составом, – неожиданно
распорядился великий князь.
Шидловский откозырял и удалился.

– Господа, – обратился к офицерам Эскадры Александр Михайлович, – лично я не
верю в эту авантюру с «Муромцами». Мне жаль вас. Вы все молодые люди, лучшие
летчики российской авиации. И волей судьбы лишены возможности отличиться, получить
чины, награды. Война не каждый день бывает, а вы просидите случай без всякой пользы.
Предлагаю переходить ко мне в легкую авиацию. Там вы получите такие посты, где
сможете в полной мере проявить свои таланты. Записки подавайте до конца этого дня. Все
свободны.
Летчики были ошеломлены. Предложение выглядело заманчивым – как любой соблазн,
– и как любой же соблазн таило в себе подвох. Уверенно и не колеблясь, лишь один
человек подал прошение – капитан Руднев. Никто в Эскадре не сомневался: Руднев
попросту боялся летать на «Муромце» и потому постоянно говорил о недостатках этого
корабля.
21 февраля 1915 года, Яблонна
– С Богом! – Сикорский пожал руку штабс-капитану Горшкову и отступил.
Вместе с Шидловским он провожал «Илью Муромца Киевского» в первый боевой полет.
Было шесть часов утра.
Набрав высоту, аппарат быстро скрылся из глаз.
Погода стояла ясная, почти не было никакого ветра. По земле шли длинные тени. Форты
Ново-Георгиевской крепости видны были из люков, как нарисованные.
Шидловский передал по телефону в штаб крепости о полете «Ильи Муромца». Обычно из
крепости открывали огонь по любому пролетающему аппарату, во всяком подозревая
немца. Несколько раз уже русские самолеты терпели ущерб от русских же стрелков.
Следовало предупредить заранее.
Скоро уже из люков самолета видны были зигзаги укреплений и окопы. Дальше
начиналась «война». Фронт.
Следовало произвести фотосъемку вражеских укреплений. В Эскадре имелась
собственная фотолаборатория, где полученные данные тотчас же будут обработаны. Плюс
к тому, согласно приказам, следовало фотографировать и результаты бомбежек.
Объектом была указана станция Вилленберг. Горшков сбросил пять бомб и, сделав новый
заход, позволил фотографу снять станцию, окутанную дымом разрывов.
Уже в штабе рассмотрели, как прошла бомбежка: все бомбы попали в цель и уничтожили
состав на станции. Заметен был также огонь врага, открытый по кораблю, но никаких
пробоин в корпусе или крыльях «Ильи Муромца» не обнаружили.
– Вот молодцы! – похвалил от души Шидловский. Видно было, что он испытывает
облегчение. – Начало положено, скоро мы покажем, на что способны наши богатыри!
Ноябрь 1915 года, Москва
– Мы исправили все ошибки, допущенные этим дилетантом Сикорским! – горячо
говорил инженер Слесарев. – Наш аэроплан построен с учетом всех новейших
достижений науки. Размеры верхнего и нижнего крыльев одинаковы – это позволило нам
уменьшить количество стоек и растяжек. Профиль крыла значительно полнее. Фюзеляж
короче и толще. Два двухсотсильных мотора. И совершенно оригинальное шасси – два
огромных колеса, смонтированные на особых подвесках, минуя лишние стойки и стяжки.
Эти стойки и стяжки перетянули всего «Муромца» и сделали его неудобоваримым, если
можно так выразиться! Мы же избавились от этих недостатков.
– Как назовете корабль? – осведомился великий князь Александр Михайлович.
Слесарев ему нравился. Он организовал в Москве кружок авиаконструкторов, энергично
добивался признания, везде размещал свою рекламу и, главное, считал своим основным
советником и покровителем великого князя.
– Я предлагаю дать новому русскому чудо-богатырю имя «Святогор»! – сказал
Александр Михайлович. – Теперь надлежит испытать его в полете.
Слесарев вынужден был просить Шидловского прислать опытного летчика, летавшего и
ранее на тяжелых аэропланах.
Прибыл штабс-капитан Горшков.

К тому времени он имел уже десяток боевых вылетов.
Название «Святогор», судя по всему, никого не смущало. Хотя если вспомнить былины —
именно Святогор был настолько могучим богатырем, что даже шагу ступить не смог,
ушел в землю. Зато Илья Муромец по земле скакал так, словно летал, проделывал путь от
Мурома до Киева за считанные часы и бил Змеев – врагов Земли Русской...
...В кабину «Святогора» зашли Горшков, Слесарев, механик и моторист. Заработали
моторы. Штабс-капитан уверенно повел машину.
«Святогор» выкатился из ангара и побежал по аэродрому.
Сперва корабль шел против ветра. Аэродром закончился, а самолет все ехал и не взлетал.
Горшков развернул аппарат по ветру и снова повел его на взлет.
И снова «Святогор» не оторвался от земли.
Четыре раза пробовал Горшков поднять аппарат в воздух. Затем повернулся к Слесареву и
попросту объявил ему:
– Ваша корова не полетит. Позвольте на том откланяться.
Через день Горшков уже отбыл в Яблонну.
© А. Мартьянов. 17.10. 2012.

30. Эскадра: «Муромец» штабс-капитана