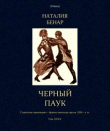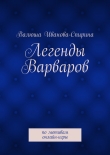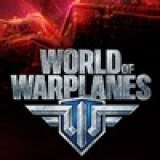
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
продемонстрировать успехи воздухоплавания, а заодно Ламберт хотел взять реванш за
одну большую неудачу: полет над Ла Маншем ему не удался.
– Зато над Парижем покрасовался, – сказал Вася.
– Между прочим, за этот полет Французский аэроклуб наградил Шарля де Ламберта
Большой золотой медалью, а Общество Поощрения Авиации вручило ему денежный приз
в пятьдесят тысяч франков. Спустя несколько дней граф стал кавалером Почетного
легиона.
– А что самолет? – поинтересовался Вася. – О нем что-нибудь известно?
– К сожалению, ничего утешительного, – вздохнул Ларош. – Этот биплан был передан
на вечное хранение в петербургский Аэромузей, организованный Императорским
Всероссийским Аэро-Клубом. Его продемонстрировали российской публике на
Московской выставке 1912 года. А после Октябрьской революции самолет был
уничтожен. Но вообще-то еще в двенадцатом году ничего хорошего с ним не
происходило. Журнал «Аэро и автомобильная жизнь» тогда же возмущался «вандальским
отношением к священной реликвии авиации». Аэроплан не собрали, а просто свалили все
отдельные части на стенд, прислонили к столбам сбоку порванные крылья... и
успокоились.
Вася содрогнулся.
– Я даже слушать об этом не могу.
– Ладно, не будем сосредотачиваться на ужасном, – кивнул Ларош. – Мне тоже как-то
больно...
– А граф Ламберт что? – спросил Хопкинс. – В Россию возвращался?
– Остался во Франции, – сказал Ларош. – Всю жизнь работал с самолетами и умер в
Париже 26 февраля 1944 года. Во время нацистской оккупации немцы его, кстати,
разорили, закрыли его фирму и оставили без средств к существованию.
– Да, – после долгого молчания произнес Вася. – Вот это была жизнь!.. А фотографию
знаменитого полета кто сделал?
– Неизвестный фотограф, – ответил Ларош. – Но спасибо ему за эту память.
– Летчик номер восемь, – не мог успокоиться Вася. – Это ж надо! А вот я, к примеру,
летчик номер какой, интересно бы знать?
Он даже зажмурился, представляя себе все эти тысячи и миллионы.
– Да ладно тебе, Вася, – спокойно произнес Хопкинс. – Какая разница! Лишь бы летал
хорошо.
* * *
На фотографиях:
Граф Ламберт. Фото из журнала «Аэро и автомобильная жизнь» №3/1911.

Самолет Ламберта на Московской выставке 1912 года. Видно, что кресла пилота
заменили
стульями
с
отломанными
ножками
(это
особенно
возмущало
корреспондентов).
Лист из журнала «Наше время» за 22 октября 1909 года с фотографией знаменитого
полета
© А. Мартьянов. 12.07. 2012.
08. В небе над Курском
7 мая 1943 года, аэродром базирования Муковнино, у города Полотняный Завод
Капитан Альбер Литольф, заместитель командира группы, майора Жана Тюляна,
проводил последний инструктаж.
– Немцы, как мы знаем, готовят наступление под Курском. Наша задача – упредить их.
Предстоят бомбардировки транспортных коммуникаций противника. Будем уничтожать
основные аэродромы авиации противника, на которых разведкой установлено скопление
самолетов. Цельтесь точнее и не опаздывайте с открытием огня. Не допускайте
бесполезных заходов. Бейте как можно больше бошей, но избегайте вынужденных
посадок. Вопросы?
– Насчет еды, – подал голос аспирант Ив Майэ. – Нельзя ли там передать, что этот
птичий корм просто невыносим?
Вокруг засмеялись, но кое-кто оставался серьезным.

Майэ, как и многие другие «нормандцы», был аспирантом. Русские обращались к нему —
«товарищ младший лейтенант».
В советской армии все пилоты имели офицерский статус, поэтому с самого начала было
предложено – для соответствия статуса – присваивать «аспиранта» тем французам, кто
офицерских званий изначально не получил.
В Красной Армии звания аспиранта не было. А во французской армии не было звания
старшего лейтенанта. Поэтому аспиранта французской армии приравнивали к младшему
лейтенанту Красной Армии, младшего лейтенанта французской армии – к лейтенанту
Красной, и лейтенанта – к старшему лейтенанту. От капитана и выше сохранялось
соответствие воинских званий Франции и СССР.
И все французы – от аспирантов до капитанов – дружно страдали от непривычной
пищи.
Когда Майэ высказал старую претензию вслух, кругом зашумели. Советская Россия с
самого начала оказалась для французов страной весьма экзотической (даже не ожидали):
одни только морозы и сугробы чего стоили! А землянки? А жуткая весна – разливанное
море непобедимой грязи! Да мало ли что еще... Однако ко многому присмотрелись и
притерпелись.
Но вот гречневая каша поставила французских летчиков в тупик – сразу и навсегда. Они
не могли взять в толк, как этим странным продуктом можно питаться – да еще месяцами!
– Вообще-то идет война, – напомнил майор Тюлян. Он встал и заговорил сам, вместо
своего заместителя. – С продуктами тут не очень. И потом. Вы знаете, что у русских
другой подход. Фронтовики получают лучшее довольствие, нежели тыловики. Без
исключений. Рядовой, если он сражается, ест лучше, чем офицер в тылу. Это то, что мы
видели.
– Так насчет каши, – не унимался Майэ. – Давайте напишем их начальству.
Невозможно же.
На самом деле «начальство» знало про кашу и французов. Жалобы дошли до самого
«всесоюзного старосты» – Михаила Ивановича Калинина, которого иностранцы
называли «президентом СССР». Но и дедушка Калинин не проявил никакого сострадания.

«Солдаты всегда бурчат», – сказал он безжалостно. И если не считать посылок, которые
приходили крайне нерегулярно, французы продолжали питаться кошмарной русской едой.
Был, правда, отрадный перерыв, когда из Киргизии «для французских товарищей-
антифашистов» прислали несколько ящиков мороженых куропаток. Поначалу случился
настоящий взрыв восторга, но затем, приевшись, французы вновь принялись стенать.
– Ладно, хватит о ерунде. – Тюлян показал на карте. – Наша цель – немецкий
аэродром в Спас-Деменске. Уничтожаем все. Самолеты, цистерны, личный состав. Атака
проходит одновременно на десятках аэродромов противника. В общем... – Он замолчал,
блеснул глазами.
Все было ясно без дальнейших объяснений. То, ради чего они с такими трудами
добирались до России, началось.
Было известно, что немцам предписано относиться к летчикам «Нормандии» как к
партизанам, то есть в плен их не брать – расстреливать на месте. Известно было и другое:
в вишистской Франции многие из них были объявлены дезертирами, предателями,
поставлены вне закона. Кое-кому – например, Литольфу, – был вынесен на родине
смертный приговор.
Сейчас предстояло начать отрабатывать эти смертные приговоры.
– Все, вылетаем.
Одиннадцать «Яков» появились над аэродромом Спас-Деменск.
Сразу же открыли ураганный огонь зенитные орудия. А внизу так отчетливо видна была
цель: «Мессершмитты», «Фокке-вульфы», «Юнкерсы» на стоянках.
– Делаем как на учениях!
Один за другим истребители «Нормандии» пикировали на немецкие самолеты с черными
крестами на крыльях. Отчетливо было видно, как те загораются – один за другим, как
люди бегут в траншеи и падают, скошенные пулеметными очередями, – маленькие
фигурки на поле.
Аэродром был буквально распахан.
– Сбор на высоте три тысячи метров, – сквозь треск донесся в наушниках голос Тюляна.
Пять, шесть «Яков»... десять. Одиннадцатый – Ива Майэ – так и не появился: попал под
огонь зенитки.
«Пропал без вести».
Еще одна потеря «Нормандии». Четвертая.
Но Майэ не погиб, как подумали его товарищи. Раненый в голову, он сумел посадить
самолет. Произошло то, от чего предостерегал Литольф, когда говорил, что следует
дотягивать до своей земли любой ценой.
В двадцати километрах от Спас-Деменска «Як» развалился, летчик, весь в крови,
выбрался наружу... и скоро наткнулся на детей в лесу.
Это были самые обычные русские дети. Уже привыкшие к оккупации, к странной жизни
во время войны, когда с неба может упасть незнакомый человек и заговорить с тобой на
непонятном языке.
И дети сделали то, о чем их, как им казалось, просил летчик: привели немецкий патруль.
...Ив Майэ вернется к своим, в «Нормандию», уже после войны, после лагерей и побегов.
Его встретят как выходца с того света. А в пятидесятые именно он будет командовать
авиаполком «Нормандия – Неман». Но до этого оставалось еще – как до звезд.
15 июля 1943 года
В офицерской столовой сильно шумели.
После тяжелых боев, после страшных потерь в полк – словно с неба – прибыли пятеро
новых летчиков. Подкрепление. Добирались, как и остальные, фантастическими путями,
едва ли не проделав кругосветку: трое, например, прилетели с Мадагаскара.
Новички пытались рассказывать о своих приключениях, но Литольф перебил их:
– Все, что было у вас до сегодняшнего дня, – это цветочки. Настоящие ягодки впереди.
Вы здесь на своей шкуре поймете: то, что происходит тут, даже близко не стоит к тому,
что вам уже знакомо.
– Эх, – вздохнул Жан Тюлян, – когда-то еще удастся поесть марсельского супа из
устриц и омаров.
– Или парижских бифштексов с жареным картофелем, – вставил парижанин Марсель
Альбер.
Разговор плавно перешел на одну из любимых русских диковин – на водку. Многие уже
освоили коронный русский трюк – выпить положенные «сто грамм» одним глотком.
Тема была как будто увлекательная, но разговор велся через силу – все невероятно
устали.

Глаза лихорадочно блестели от бессонницы, лица перечеркнули морщины. Почти
постоянно летчики находились в воздухе. На отдых удавалось выкраивать буквально по
несколько часов в сутки.
16 июля 1943 года, район села Красниково
– В небе что-то стало тесно, – заметил Альбер Литольф.
Жан Тюлян не ответил. Самолеты «Нормандии» столкнулись с плотной группой
бомбардировщиков «Юнкерс-87» в сопровождении больших групп истребителей «Фокке-
Вульф-190», эшелонированных по высоте.
Литольф и еще двое зашли со стороны солнца и атаковали бомбардировщики. Тюлян и
Альбер прикрывали своих товарищей от немецких истребителей. Завязался бой с двумя
немцами.
Воспользовавшись тем, что солнце ослепляет врага, Тюлян расстрелял его почти в упор.
Вражеский самолет, дымясь, словно сырое полено, рухнул на землю, и Тюлян проводил
его глазами.
В этот самый момент его атаковали еще четыре вражеских истребителя. Тюлян —
отличный летчик, и ему удалось ускользнуть.
Полностью израсходовав боекомплект, с почти пустым баком, он вернулся на аэродром.
Французы вылетают вместе, возвращаются по одиночке. Русские с огромным трудом
научат их другому – позднее. Но еще вернее будут учить их этому немцы...
Когда Тюлян сел, его поразили мрачные лица товарищей.
– Что?.. – отрывисто спросил Жан Тюлян.
Спросил – «что?», а подумал – «кто?»..
– Литольф...
Окруженный несколькими «Фокке-вульфами» и «Мессершмиттами», в багровом от
пожаров небе под Смоленском он сбил в неравном бою двух немцев и врезался в землю на
объятой пламенем машине.
А через день с боевого задания не вернулся и майор Тюлян. В последний раз видели, как
самолет Тюляна врезался в группу «Фокке-вульфов». После этого Тюлян просто исчез.
Никто в точности не знает, как он погиб.
С 13 по 17 июля «Нормандия» совершила одиннадцать боевых вылетов, в которых было
сбито семнадцать вражеских самолетов. В этих боях погибли шесть французских
летчиков.
Великая битва под Курском продолжалась.
© А. Мартьянов. 19.07. 2012.

09. Баронесса
– Мадемуазель Брунгильда! – окликнул задумчивую фройляйн Шнапс Франсуа Ларош.
Брунгильда шла, опустив голову, и явно о чем-то размышляла.
Услышав голос у себя за спиной, она остановилась, медленно повернулась и уставилась на
Франсуа тяжелым, типично нордическим взором.
– Франсуа Ларош! – отрекомендовался француз.
Брунгильда сказала:
– Я помню...
– Позвольте вас проводить, – Франсуа галантно предложил ей руку, но Брунгильда как
будто не заметила.
– Я бы хотела, чтобы ко мне относились как к мужчине! – выпалила она.

– Но почему, мадемуазель? – искренне изумился Франсуа. – Ведь это невозможно с
точки зрения ла натур!
– Что, «натур» вам мешает видеть во мне равное мужчине существо?
– О, мадемуазель – феминистка! – восхитился Франсуа.
– Что вас так забавляет?
– Просто впервые сталкиваюсь... А что говорит по этому поводу Горыныч?
– Горыныч – дракон, – сказала Брунгильда. – А у драконов насчет девиц совершенно
предубежденное мнение. Обусловленное древней и мифологической историей.
– Гм, – сказал Ларош. – У меня к вам уже давно один вопрос, мадемуазель.
– Слушаю вас.
– Это касается той баронессы Ларош, о которой вы упоминали.
– Между прочим, в самом начале, когда воздухоплавание было еще неизведанной
территорией, – сказала Брунгильда, – очень много женщин становились пилотами. Как
вы это объясните?
– О, – сказал Франсуа, – думаю, мне лучше ничего не объяснять. А какое мнение у
вас?
– Потом уже было не так, – продолжала Брунгильда, словно не расслышав вопроса. —
Потом уже женщины играли меньшую роль. Но поначалу почти двадцать процентов
авиаторов были девушки. И очень красивые. В большинстве своем.
– Для мадемуазель это так естественно – быть шарман! – охотно поддержал Франсуа.

– Вы невыносимы, – вздохнула Брунгильда и все-таки оперлась на его руку. – Ладно,
признаюсь вам во всем! Баронесса Раймонда де Ларош на самом деле никакой баронессой
не была. И настоящее имя у нее было тоже другое. Ее звали Элиза Леонтина Дерош.
Поэтому, кстати, многие называют ее «Элиза Ларош».
– Запутанное дело, – поддакнул Франсуа и ненароком прижал локоток Брунгильды.
Она как будто не заметила.
– Элиза была парижанкой, дочерью рабочего, – продолжала Брунгильда. – Если
говорить совсем точно, то слесаря-водопроводчика. Вот так непоэтично. Но она была
красива, как юная богиня, и, думаю, талантлива. А еще – дерзка. В общем, она поступила
на сцену.
– Имела успех? – заинтересовался Франсуа.
– Я даже не знаю толком, в каком театре и в каких пьесах она выступала, – призналась
Брунгильда. – Впрочем, полагаю, этого вообще никто толком не знает. Разве что поднять
газеты того времени... Став актрисой, Элиза взяла себе имя «баронесса Раймонда де
Ларош». Так ее и называли. Русские газеты, которые тоже о ней писали, не вдавались в
подробности: сказано – баронесса, значит, баронесса.
– А что, она бывала в России?
– Бывала и в России... А вообще весь мир тогда с увлечением следил за успехами
воздухоплавания, – вдохновенно продолжала Брунгильда. И покосилась на своего
собеседника: – Да вы сами все знаете! Зачем вы меня расспрашиваете? Хотите
посмеяться?
– О, – с самым серьезным видом отвечал Франсуа, – и в мыслях ничего подобного нет!
Мне приятно с вами беседовать. И кроме того, я действительно ничего не знаю о
мадемуазель Ларош.
– «Баронесса» очень быстро поняла, в чем ее истинное призвание. Вообще характер у нее
был, по тем временам, современный. «Эманципе», как тогда выражались. Она увлекалась
велосипедным спортом и автомобилями. Поднималась на воздушных шарах. В начале ХХ
века это было модно. В Шалоне, где она летала на этих самых шарах, она и познакомилась
с Шарлем Вуазеном. Вуазен был авиатором и конструктором аэропланов. Очень
интересный мужчина.
– Если бы я был интересным мужчиной, конструктором и авиатором, – сказал Франсуа,
– и познакомился бы с красивой мадемуазель, которая летает на воздушном шаре, я бы
непременно предложил ей покататься на моем аэроплане.
– Собственно, так и произошло, – кивнула Брунгильда. – Он не устоял перед
баронессой, а баронесса – перед аэропланом. Вообще-то Шарль позволил ей именно
«покататься», то есть проехаться по земле. Но Элиза...
– Раймонда? – перебил Франсуа.
– Будем называть ее «Элиза» – так ее именуют чаще... Элиза разогнала машину и
оторвалась от земли. Пролетела несколько сот метров.
– Вуазен разозлился?
– Он был очарован... Это случилось в 1909 году, ей было двадцать три года... То есть,
сперва он испугался, а потом очаровался. Он показывал ей самолеты и учил летать. Через
пару недель при посадке самолет задел дерево и плюхнулся. Элиза сломала ключицу и
заработала сотрясение мозга.
– А потом?
– Потом Вуазен понял, что Элиза в любом случае будет летать, так что «дешевле»
помочь ей получить летную лицензию – не будет такой страшной ответственности за ее
безопасность. В общем, он помог Элизе подготовиться к экзамену. 8 марта 1910 года она
получила удостоверение пилота номер 36. Первой из женщин Франции. Да, я знаю, о чем
вы подумали! – Брунгильда предостерегающе подняла палец. – Восьмое марта! Но это
просто совпадение.
– Ни о чем таком я не подумал, – заверил ее Франсуа. – Я вообще не понимаю, что
такое «восьмое марта». Да еще 1910 года.
– Вот и хорошо, – сказала Брунгильда. – Вот и не понимайте. Баронесса де Ларош
прославила свое имя! Даже если это был псевдоним... В том же десятом году,
единственная женщина среди участников, она летала на соревнованиях в Гелиополисе и
заняла шестое место.
– Вы что-то говорили о том, что она побывала в России, – напомнил Франсуа.
– Да, и разговаривала с русским императором Николаем, – кивнула Брунгильда. – В
том же 1910 году де Ларош разъезжала по миру с «летающим цирком». Звучит как

балаган, но на самом деле Элиза вместе со своими товарищами служила великому делу
пропаганды авиации. Нужно было показать, на что способны самолеты. В те годы их не
считали
чем-то
серьезным.
Управляемые
аэростаты
представлялись
более
перспективными. Чудные были времена, странные... – Она вздохнула. – Наконец судьба
завела баронессу де Ларош в Санкт-Петербург. Там она выступала в соревнованиях и
стала четвертой. Николай II был восхищен храбростью этой дамы. Элиза рассказала о
своем разговоре с царем в интервью журналу «Колье». С милым простодушием она
поведала: «Он спросил, что я чувствовала, а я ответила, что сердце едва не выпрыгнуло у
меня изо рта!»
– Прелесть, – подтвердил Франсуа.
– После этого она разбилась. Это было в Реймсе. Сломала ноги, получила сотрясение
мозга. Но не испугалась и не сдалась! Люди тогда были куда увереннее в своих силах, чем
теперь!
– Настоящая парижанка, – одобрил Франсуа Ларош.
– Именно. Через два года она снова участвовала в состязаниях... А потом случилось
ужасное несчастье. Она с Шарлем Вуазеном попала в автокатастрофу. Вуазен погиб...
Мрачная история: летчик – а разбился на земле. Баронесса сильно пострадала, газеты
постоянно писали о состоянии ее здоровья. Одно время боялись, что она не справится. Но
Элиза встала на ноги. И через год, то есть в тринадцатом, выиграла кубок на женских
соревнованиях, – летчиц к тому времени было уже достаточно! Потом еще кубок – за
четырехчасовой беспосадочный полет!
– А потом? Ведь мы приближаемся к тому моменту, когда начинается Первая мировая
война! – сказал Франсуа.
– Во время войны женщины были официально отстранены от полетов, – сказала
Брунгильда. – Правильно или нет, но так было. Поэтому Ларош стала водителем
автомобиля. Служила, естественно, в армии! Хотя жизнь показала, что автомобиль может
быть более опасным, чем самолет...
– Жизнь вообще полна опасностей, – заметил Франсуа. – Помните Красную Шапочку?
Такая простая вещь, как прогулка к бабушке с пирожками, может обернуться серьезным
испытанием.
– Вы напрасно шутите, – сказала Брунгильда.
– Я вовсе не шучу! Многие летчики, как это ни странно, если не разбивались на
самолетах, то погибали в автокатастрофах. Есть какая-то связь... Возможно – любовь к
скорости.
– Элизу все-таки миновала такая участь, – сказала Брунгильда. – Она погибла на
самолете.
– Я не знал... – с виноватым видом признался Франсуа. – Давно?
– 18 июля 1919 года, недалеко от Парижа. Если точнее – в Кротуа, департамент Сомма.
В качестве второго пилота она принимала участие в тестовом полете нового аэроплана
«Кодрон». Предполагается, что она планировала сдать экзамен на допуск к
профессиональным полетам. Но самолет разбился, и оба пилота погибли.
– И все?
– Да. Разве этого мало?
© А. Мартьянов. 26.07. 2012.

10. Кряхтит, но летит
Лето 1903 года, Париж
Анри Фарман лежал на кровати и грустно смотрел в окно.
Время уходит впустую. Ему почти тридцать. А спорт, кажется, потерян для него навсегда
– травма.
Он подумал о ворохе картонов, которые сохранила мать, – еще со времен его учебы в
Парижской Школе изящных искусств. Мама надеялась, что сын станет художником. Но
Анри счел, что технические новинки наступающего нового века гораздо изящнее, гораздо
художественнее.
В общем, сначала – велогонки, а затем и нечто более серьезное – автогонки. Он
выступал за команду «Рено». Был пятым на автогонках «Париж – Берлин» в 1901 году,
через год первым – на гонке «Париж – Вена». Еще через год – третьим в гонке на
кубок Гордона Беннета.
Это произошло в Ирландии. Правительство Франции запретило гонку из-за повышенной
опасности. Неприятно признавать, но и правительство, и мама оказались правы, во всяком
случае, для Анри: травма надолго приковала его к постели.
Никаких автогонок. Никакого спорта. Слишком опасно.
Он еще раз вздохнул и развернул газету.

30 сентября 1907 года
Засунув руки в карманы, Морис Фарман стоял на аэродроме и смотрел, как в воздух
неуверенно поднимается аэроплан. Во всем происходящем ощущалось что-то
средневековое: когда очередной местный мечтатель привязывал к рукам полотняные
крылья и головой вниз сигал с колокольни...
Но сейчас это был не просто мечтатель – это был его брат Анри.
Конечно, Анри интересовался успехами воздухоплавания. Его всегда занимали
технические новинки. Особенно когда он бросил спорт.
Никто не видел в увлечении Анри ничего криминального. Мама тоже читала журналы и
рассматривала фотографии аэропланов. А потом Анри сообщил, что Габриэль Вуазен
продает аэропланы. И что он, Анри, сразу же купил один.
– Ты сошел с ума, – сказал Морис.
– Приезжай на аэродром, увидишь, – был ответ.
...Первый полет Анри Фармана – тридцать метров.
Анри был счастлив.
– Что ты скажешь маме? – осведомился Морис.
– Аэропланы – это совсем не то, что автомобили, – заверил его Анри. – Это
совершенно безопасная штука. К тому же, думаю, их можно усовершенствовать.
Через месяц он уже предложил Вуазену кое-какие изменения, которые и были внесены в
конструкцию.
10 ноября 1907 года, Париж
В доме адвоката господина Аршдакона раздался телефонный звонок.
– Мсье, вам придется выплатить объявленный вами приз в пятьдесят тысяч франков!
Адвокат подскочил на кровати.
– Невозможно!

– Увы! Или, точнее, – ура! Ваш вызов принят и, более того, с блеском побит.
– Что ж, увы моим пятидесяти тысячам франков и ура всему человечеству, —
философски заметил адвокат.
Он тоже интересовался воздухоплаванием и почти год назад поместил объявление, в
котором обещал значительную премию тому, кто сумеет пролететь на аэроплане по
замкнутой кривой расстояние не менее километра. Вообще-то возможность такого полета
представлялась маловероятной. Однако – факт!..
Анри Фарман совершил «невозможное».
От этого полета, как от камня, брошенного в пруд, по всему миру расходились волны.
Дошли они и до России.
Русское военное министерство встревожилось и заинтересовалось. Бумаги с этажа на этаж
начали поступать с удвоенной скоростью и интенсивностью. До сих пор аэропланы даже
не рассматривались всерьез как орудие воздушного боя. Управляемые аэростаты – вот
это действительно надежный летательный аппарат. С его помощью можно было
осуществлять разведку, бомбардировку позиций противника.
А аэроплан? Тарахтящая этажерка с экипажем из двух человек. Скорость – как у тех же
дирижаблей, а расстояния преодолевает ничтожные.
Анри Фарман своим полетом буквально взорвал мозги русских военных чиновников.
Из Главного инженерного управления пришел доклад:
«В настоящую минуту аэропланы еще не делают больших перелетов, не поднимаются на
большую высоту и вообще пока еще для военных целей непригодны, но в будущем их
роль в военном деле должна быть громадна и потому, несомненно, они будут введены в
снаряжение армий».
13 января 1908 года
– Я считал этого человека своим другом! – кричал Анри.
Морис вошел в комнату как раз в тот момент, когда в стену летела чернильница.
– Что случилось?
– Полюбуйся! – Анри швырнул ему письмо.
Морис взглянул на подпись – «Габриэль Вуазен».
– «С огорчением вынужден сообщить...» – машинально прочел вслух Морис.
Анри отобрал у него письмо, скомкал и бросил в корзину.
– Я заказал ему еще один аэроплан, и он обещал, но в последний момент продал другому
покупателю. На деньги польстился! Никогда ему этого не прощу. Это не спортивно.
Фарманы были англичанами. Их отец, журналист, приехал работать в Париж – и больше
уже семья этот город не покидала. С головы до ног парижанин, Анри Фарман, тем не
менее, сохранял чисто английское представление о том, что «неспортивное поведение» —
это худшее, что только можно сказать о человеке.
– Создадим собственную компанию, – предложил Морис. – Ты кое-что смыслишь и в
авиации, и в конструкторском деле. Я тебе помогу. Вот увидишь, мы сможем успешно
конкурировать с Вуазеном. Он еще десять раз раскается в своем поступке.
Первый аэроплан компания Farman Aviation Works произвела в 1909 году. А
просуществует она до 1937 года, когда заводы Farman вместе с большей частью
французской промышленности были национализированы, потом еще раз возродится в
1941 – ненадолго... За эти годы братья Фарманы сконструировали около двухсот типов
самолетов.
Осень 1909 года, Париж
– Что будем делать с сумасшедшим русским? – спросил Морис у своего брата.
Анри пожал плечами:
– Учить! Я слишком хорошо понимаю, что с ним произошло: он «отравлен» авиацией.
Так что летать он будет в любом случае. Лучше уж я его научу, чтобы он не сразу свернул
себе шею.
«Сумасшедший русский» – Павел Кузнецов – до поры до времени жил себе в
Пензенской губернии и служил техником-строителем. Учился он в Пензенском
техническом железнодорожном училище и технические новинки ценил и уважал.

А потом – на беду – отправился в Москву, где видел выступления французского
авиатора Леганье. Работу бросил и рванулся в Париж. Взял с собой все имеющиеся
наличные деньги.
Париж ошеломил богатством выбора. Два вида аэропланов: моноплан Блерио и биплан
Фармана. Что выбрать?
Русский выбрал оба.
Для начала он выложил пачку купюр и заказал для себя «Блерио-IX». Затем поступил в
авиашколу Фармана и начал летать на бипланах.
Пока учился, падал и снова учился – закончилась постройка заказанного аэроплана.
Освоив биплан, Павел Кузнецов перешел в школу Блерио. Поучился и там. Наконец
деньги кончились, и, к облегчению французов, Кузнецов вернулся в Россию. С
аэропланом.
1910 год.
«Самолет типа Фарман» – так называли в те годы любой ферменный биплан с
толкающим винтом и дополнительным рулем высоты на балках перед крылом.
«Фарман-IV» стал одним из самых массовых самолетов довоенного периода. Благодаря
простой конструкции и неплохим летным данным, он стал эталоном для множества
конструкторов. Его выпускали по лицензии, делали по его «образу и подобию».
«Фарманы» действительно находились «на передовом крае» авиационного спорта.
На этом самолете летчик Луи Полан выиграл приз десять тысяч фунтов за перелет из
Лондона в Манчестер в апреле 1910 года. Женский приз за самый дальний беспосадочный
перелет в том же году получила бельгийка Элен Дютрийѐ – за полет протяженностью в
167 километров, общее время в полете два с половиной часа.
Десять «Фарманов» и двадцать «Блерио» участвовали в сентябре 1910 года в маневрах
французской армии. Летая с трех организованных «аэронавтических станций», самолеты
вели разведку и осуществляли быструю доставку донесений.
Время специализированных машин еще не пришло: на все аэропланы в зависимости от
обстоятельств устанавливалось то стрелковое оружие, то кассеты с бомбами, то
фотооборудование. Только война разделит поначалу единый класс аэропланов на
разведчики, истребители и бомбовозы.
Братья Фарманы долго придерживались аэродинамической схемы с толкающим винтом.
Она была признана устаревшей уже к началу Первой мировой. В результате «Фарман»
был отстранен от крупных военных заказов.
Однако «Фарман» стал незаменимым учебным самолетом: на нем учились летать почти
все пилоты Первой мировой. Именно лицензионные «Фарманы» были (по крайней мере,
до 1915 года) наиболее распространенными самолетами российской постройки – свыше
полутора тысяч.
Середина 1911 года, Санкт-Петербург
– Докладывайте, господин полковник.
В Мраморном дворце было холодно. В широкие окна смотрела мрачная Нева.
Полковник Ульянин представил доклад о своей командировке во Францию, куда он был
направлен как представитель Генерального штаба.
Русский царь поступил с размахом: разослал гонцов по всем краям света, то есть в
Германию, Францию и Англию, дабы изучили они добродетели тамошних аэропланов и
решили, какой из них «сосватать» для российской армии.
Ульянин сообщил:
– Из всего виденного за границей у меня составилось следующее мнение: лучшими
аппаратами в смысле применения к военному делу могут считаться бипланы Фармана,
особенно маленькие...
Европу, вооружавшуюся аэропланами, следовало догнать и перегнать. И времени
оставалось мало.
К концу одиннадцатого года во Франции было уже двести военных аэропланов. И семь
учебных центров для подготовки квалифицированных пилотов.
В России же только приступили к формированию авиационных отрядов. До сих пор к
авиации относились как к балагану.
Чего только стоил этот энтузиаст Кузнецов, выступающий «по ярмаркам» автор книг об
авиации – «Обучение летанию на аэроплане», «Описание аэроплана Блерио № 11»!..
Взлетал и бился, взлетал и бился. Едва только починил аэроплан – решилась полетать его
супруга. «Дорогой, позволь же мне...» «Дорогой» позволил. Красавица вдребезги разнесла
машину. Удивительно, как вообще жива осталась...

(Кстати, Кузнецовы потом авиацию оставили: Павел вернулся к прежней специальности, а
супруга его сделалась актрисой; они жили долго и умерли уже в шестидесятые).
Аппараты по лицензии Farman изготавливали на заводах Щетинина в Петербурге, Русско-
Балтийском заводе в Риге и на московском «Дуксе».
Был также утвержден план создания шести авиационных отрядов – в Киеве,
Новогеоргиевске, Гродно, селе Спасском, Чите и Карсе. Открывались авиационные
школы.
...Большинство русских «Фарманов» были списаны к восемнадцатому году.
18 июля 1958 года, Париж
Умер Анри Фарман.
Он прожил долгую жизнь.
Вся она была связана с Парижем и с самолетами.
Двадцатый век ускорил время, и огромную роль в этом ускорении сыграла авиация.
Сейчас уже невероятным кажется тот день, когда полет в один километр произвел такой
фурор...
И вместе с близкими людьми Анри Фармана провожали в последний путь незримые его
спутники, его самолеты:
Farman MF.7 – одномоторный двухместный разведчик, 1913—1915
Farman MF.11 – одномоторный разведчик, 1914—1917

Farman F.60 «Голиаф» – двухмоторный тяжѐлый бомбардировщик и транспортный
самолѐт, 1919—1921
Farman F.121 – транспортный самолѐт, 1923