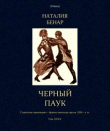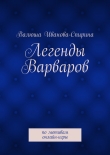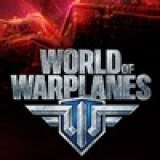
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Farman F.222 – двухмоторный бомбардировщик, 1935—1938
Самые знаменитые самолеты Анри Фармана.
© А. Мартьянов. 27.07. 2012
11. Антимессер
Декабрь 1938 года, Москва, приемная наркома оборонной промышленности
М.М.Кагановича.
Время тянулось медленно. Каганович был занят. Секретарша печатала на машинке с такой
скоростью и отчетливостью, что производила впечатление не живого человека, а
автомата.
Начальник отдела Главного управления авиационной промышленности Владимир
Петрович Горбунов откинулся на спинку стула. Бумаги лежали у него на коленях. Второй
ожидающий, подчиненный Горбунова, конструктор Семен Алексеевич Лавочкин, ходил
по приемной. Секретарша готова была рявкнуть ему: «Сядьте, товарищ!», когда он и сам
опустился на стул.
Третьим ожидающим был Михаил Иванович Гудков. Он курировал авиационные заводы и
принес Кагановичу на подпись несколько писем.
Горбунов повернулся к Гудкову:
– Кто там у Михаила Моисеевича, не знаешь?
– Несколько военных. Просил никого не пускать. Долго они там...
– Да уж...
Секретарша отложила в сторону пачку напечатанных листов и яростно треснула по ним
дыроколом. Все трое ожидавших даже подпрыгнули от неожиданности. Она с торжеством
заправила в машинку новый лист и снова принялась стучать.
Горбунов, не последний человек в главке, знал, о чем постоянно идет речь. И о чем почти
наверняка разговаривает Каганович с теми военными.
О недавно закончившейся войне в Испании.
В «безоблачных» небесах впервые встретились в воздушных боях скоростные
истребители-монопланы И-16 и Bf.109. Поначалу «мессеры» явно проигрывали нашим, но
затем немцы взялись за модернизацию своего самолета, и уже в августе 1938 года
господство в воздухе полностью перешло к франкистам.
Из этого следовало извлечь надлежащие уроки. В условиях «вынужденной посадки»
нескольких конструкторов, директоров заводов, части штаба ВВС и летчиков, ситуация
становилась для советской авиации сложной.
В то же время все, включая Сталина, понимали: необходим новый скоростной
истребитель.
В свое время Горбунов раздумывал над ситуацией недолго. Вызвал к себе Лавочкина:
– Слушай-ка, Семен, не надоело тебе переписывать в нашем ГУАПе бумажки? Давай
выйдем к наркому с предложением построить истребитель. Обстановка благоприятная.
Результатами воздушных боев в Испании «наверху» у нас крайне недовольны. Появились
совершенно новые требования к современному истребителю. Выделю я тебе комнатку,
прикреплю машинистку – садись да работай...
Лавочкин засел в выделенной ему комнатке. Приходил с утра, швырял на стул свое
кожаное пальто, с хрустом разворачивал чертежи. Раздумывал.
Облик будущего самолета определили во многом два фактора: материал, из которого
планировали его построить, и мотор фирмы Ilispano Suiza, закупленный во Франции. Он
позволял установить пушку в развале цилиндров.
Горбунов передал Лавочкину требования военных: максимальная скорость самолета – не
менее шестисот километров в час, летчик должен быть защищен броней, вооружение —
пушечное, протектированные баки.
Лавочкин сразу сказал:

– Будем делать самолет цельнодеревянный.
Идея только на первый взгляд казалась безумной: в то время деревянные самолеты уже
выглядели анахронизмом.
«Крылатого металла» – дюралюминия – не хватало. Зато имелись оригинальные
разработки в области других материалов.
Имелась в виду особая пластифицированная древесина. Она имела примерно вдвое
большую, чем простая древесина, объемную массу, но зато и значительно большую
прочность.
Эскизный проект был закончен Лавочкиным через неделю. Еще неделю доводили до ума
и вот – явились на прием к Кагановичу.
Дверь кабинета наконец отворилась, вышли военные. Один обтирал на ходу лоб платком.
Секретарша подняла на Горбунова злые глаза.
– Заходите.
– Я с вами, – сказал Гудков. – А то вы там засядете на сто лет со своими чертежами.
Мне-то только пару писем...
Вошли втроем.
Михаил Моисеевич сидел под портретом Сталина, интуитивно копируя позу
изображенного за его спиной вождя.
– Ну, что там у тебя, Владимир Петрович? – с партийной простотой заговорил он с
Горбуновым.
– Пришли рассказать о нашем предложении, – ответил Горбунов, – о новом
истребителе.
– Ну-ну, показывай...
Горбунов начал доклад, перешел к захватывающему описанию технологии изготовления
дельта-древесины.
– Выходит, фактически мы можем строить самолет из сосны и березы? – Каганович
выглядел довольным. Достать качественную древесину было делом почти таким же
непростым, как и добыть дюралюминий.
– Фактически – да, – кивнул Горбунов.
Лавочкин молча стоял в стороне. Гудков тихо сложил приготовленные для подписи
письма, сунул в карман.
Каганович кивнул:
– Очень интересно, товарищи, очень интересно! Я доложу в правительстве о вашем
предложении. – Он поднялся из-за стола, пожал руки всем троим. – Очень интересно,
что вы трое будете делать один самолет! Поздравляю, товарищи!
Только после того, как дверь кабинета закрылась у них за спиной, Гудков обратился к
Горбунову:
– Вы уж меня не отпихивайте. Мне ведь во как осточертело по кабинетам с бумажками
бегать!
– Ладно уж, – сказал Горбунов, посмеиваясь, – третьим будешь.
Весна 1939 года
Для строительства цельнодеревянного истребителя «триумвирату» передали КБ завода
номер 301 (бывшей мебельной фабрики). Горбунов устроился в отдельном кабинете,
Гудков взял на себя производство и снабжение, Лавочкин засел в общем зале
конструкторского бюро.
Тишь, гладь, божья благодать – вырисовывается новый истребитель.
От других истребителей он отличался очень мощным вооружением. В развале цилиндров
установили пушку Таубина калибром 23 мм, над двигателем два крупнокалиберных
пулемета БС. Можно было еще добавить два пулемета ШКАС.
Февраль 1940 года
В один прекрасный день к директору завода Эскину явились бригадиры:
– Товарищ Эскин, а кто руководит работами?
– В смысле? – не понял Эскин. – Товарищ Горбунов возглавляет проект. У него и
кабинет собственный имеется.
– Товарищ Горбунов на заводе появляется крайне нерегулярно, – доложили директору.
– У него проблемы... гм... личного свойства.
– Не понял, – сказал директор. – Здоровье?
– Женщину он встретил, – кашлянул один из рабочих. – Ну и... сами понимаете.
Товарищ Гудков постоянно занят на производстве. Поэтому предлагаем главным
конструктором назначить товарища Лавочкина. Пусть он подписывает техническую
документацию и представляет самолет на комиссию и испытания.
Эскин подумал немного и согласился. Пусть Лавочкин. Он, по крайней мере, человек
надежный. Интеллигентный.
– Я доложу мнение нашего коллектива в наркомате, – обещал Эскин.
Наркомат утвердил.
Когда Горбунов узнал об этом, то только рукой махнул – и обещал поддерживать по
мере сил.
И Лавочкину выпало представлять на летные испытания «рояль». Назывался он И-301 (по
номеру завода).
Весна 1940 года
Первая машина поражала воображение: покрытая лаком и отполированная густо-
вишневая поверхность так блестела, что в нее можно было смотреться, как в зеркало.
Слухи о «диве» дошли до товарища Сталина.
– Значит, какие-то три главных конструктора строят цельнодеревянный истребитель из
нового материала? – спросил вождь. – Покажите-ка мне эту «дельта-древесину», чтобы
не случилось потом какого-нибудь надувательства.
– Ты, Лавочкин, теперь главный – ты и будешь со Сталиным разговаривать, —
обрадовали Семена Алексеевича.
Лавочкин сложил в коробку разные детали из дельта-древесины и отправился «на ковер».
– Вот, товарищ Сталин, привез вам показать новый материал. Смотрите сами, – с этими
словами Лавочкин разложил на столе несколько деталей, – разработка советских
изобретателей. По прочности материал не уступает дюралю и не горит.
Сталин, казалось, не слушал. Лавочкин говорил, следя за вождем глазами, а тот
расхаживал по кабинету и о чем-то думал, на демонстрацию даже не глядел.
Затем он приблизился к столу, набил трубку, раскурил ее как следует, взял одну из
деталей – с тонкой частью – и сунул в трубку. Начал пыхтеть, как паровоз.
Лавочкин молча смотрел, как вождь выпускает клубы дыма. Спокойный, без тени улыбки
в глазах.
Шли минуты. Трубка дымилась. Наконец Сталин вытряхнул пепел, осмотрел деталь.
– Не горит, – сделал вывод вождь. – Хороший материал.
Осень 1940 года

Роскошный зал Большого театра сдержанно сиял позолотой. Поднялся занавес, полилась
божественная музыка Чайковского.
Семен Алексеевич Лавочкин смотрел на слаженные движения кордебалета... и думал о
своем самолете.
В принципе, все шло хорошо: самолет И-301 был рекомендован в серию. А между тем он
не прошел испытания на штопор, пикирование и высший пилотаж. Да и вооружение не
доведено до ума.
Недостатков хватало: жара в кабине, плохой обзор из-за некачественного остекления
фонаря, перегрев воды и масла при наборе высоты, большие нагрузки на ручке от
элеронов и руля высоты, недостаточная продольная устойчивость...
Теперь сложные отношения между Одеттой и принцем отошли куда-то совсем далеко, на
задний план.
Взрыв отчаяния, прозвучавший в лебединой теме, вдруг коснулся души Лавочкина. Он
вздрогнул – и тотчас ему представились топливные баки. Это была главная проблема.
Уже готовый самолет предстояло переделывать.
От военных пришло требование к еще не доведенному до ума истребителю: увеличить
дальность полета с шестисот километров до тысячи. Вот это была беда: дополнительное
топливо ухудшает летные характеристики самолета. Кроме того, требуется найти место,
где разместить топливо.
Смутно вырисовывались перед глазами отдельные детали...
Антракт. Лавочкин вышел в зал, принялся расхаживать по коврам, отражаясь в зеркалах.
– Товарищ, осторожнее! – сделала ему замечание красивая девушка, когда он случайно
толкнул ее.
– Простите.
Она присмотрелась:
– С вами все в порядке? Вы бледный.
– Нет, ничего. Я работаю, – объяснил он и только потом понял, насколько неуместным
было это объяснение...
Идея складывалась постепенно, и только после того, как она целиком выстроилась в
сознании конструктора, он перенес ее на чертеж и представил на обсуждение.
– Да критикуйте же, черт вас подери! – потребовал конструктор, и дискуссия вскипела...
В отъемных частях крыла пришлось оборудовать два кессон-бака. И-301 с тремя
топливными баками стал известен как самолет ЛаГГ-1 (по именам: Лавочкин – Горбунов
– Гудков).
– Знаете, что я думаю? – сказал наконец Лавочкин, когда крики поутихли. – Вот мы
стараемся, чтобы всего было побольше: скорости, дальности, огня. А ведь принцип «всего
побольше» – совсем не остроумный. Иногда важнее летать всего каких-нибудь
пятнадцать минут, но в эти пятнадцать минут быть полным хозяином воздуха...
Февраль 1942 года
Плотная сетка огненных трасс перечеркнула заснеженные поля, лесные массивы, лед на
Волге, мутные зимние облака. Летчик Алексей Николаевич Гринчик на ЛаГГе уходил от
вражеского огня. «Мессеры» как будто главенствовали в небе, но Гринчик атаковал при
малейшей возможности.
За несколько минут первый «мессершмитт» был сбит, второй поврежден... Однако
попадания в ЛаГГ следовали одно за другим. Снаряд разорвался прямо в моторе.
Немцы расстреливали планирующую машину, как учебную мишень. И с каждой атакой
Гринчик чувствовал, как умирает его самолет. Крылья и фюзеляж пробиты в нескольких
местах. Из перебитых трубопроводов бьют бензин, вода, масло, фонарь кабины сорван...
Вместо приборной доски – каша...
Но самое удивительное – ЛаГГ летел! Немцы расстреливали его в упор. Один, не
рассчитав, на миг оказался впереди ЛаГГа, и Гринчик длинной очередью выпустил весь
боекомплект. «Мессер» взорвался.
Гринчик благополучно приземлился на своем аэродроме...
Сталин вызвал к себе конструктора.
– А скажите, товарищ Лавочкин, как это вы ухитрились создать такую жизнеспособную
машину?
Лавочкин ответил, по обыкновению спокойным, тихим голосом:
– Не знаю, Иосиф Виссарионович. Оно как-то само так получилось.
© А. Мартьянов. 26.07. 2012.

12. Леди-ястреб
Брунгильда Шнапс выбралась из «фармана». Посадка была неудачной, машина
наполовину развалилась. Брунгильда быстро поправила прическу, потуже затянула пояс.
Один сапог снялся с ноги при аварии и потерялся где-то в обломках самолета.
Брунгильда сняла и второй и горделивым жестом отшвырнула его в сторону.
И только после этого осторожно осмотрелась: не видит ли ее кто-нибудь. Она сильно
надеялась, что приземление и гибель «фармана» останутся незамеченными.
К сожалению, поблизости оказался никто иной как Вася. И, судя по всему, наблюдал он за
действиями фройляйн Брунгильды уже некоторое время.
– Здравствуйте, фройляйн лейтенант, – сказал Вася, улыбаясь.
– Добрый день, – невозмутимо отозвалась Брунгильда Шнапс. – Хороший сегодня
денек.
– Несомненно, – отозвался Вася и уставился на ее босые ноги.

– Так и хочется пробежаться, знаете ли, без обуви, – сказала Брунгильда. – Очень
освежает.
– Гм, – несколько двусмысленным тоном произнес Вася. – Вообще-то с кем не бывает.
Смущаться нечего.
– Вот именно, – заявила Брунгильда.
Вася, против ее ожидания, пошел рядом.
– Мы могли бы зайти в офицерский клуб, посидеть, – предложил он.
– Не могу, – отрывисто бросила она. – Я не по форме.
– А вы всегда по форме?
– Нет. Но нам, женщинам, это особенно непростительно. Вы знаете, что вызвало
наибольший скандал в прессе, когда первая бельгийская авиатриса Элен Дютрийе давала
свое интервью?
– Это, простите, когда было?
– Все в том же десятом году... – Она задумалась, опустила голову и тут же вызывающе
вскинулась: – Ну так вот, когда Элен совершила очередной потрясающий полет, пресса
обступила ее и начала задавать вопросы. Ее уже тогда стали называть «Леди-Ястреб» – за
дерзкий характер.
– А что, она кому-то надерзила?
– Она бросила вызов судьбе, – объяснила Брунгильда.
– Давайте про скандал, – попросил Вася.
– Предвкушаете, герр... то есть, товарищ лейтенант? Ладно... В общем, Элен взяла да и
брякнула, что во время полета на ней не было корсета... Публика – просто в шоке!
Повисла пауза.
– Да, – уронил наконец Вася, – и вправду удивительное было время, ничего не
скажешь... Авиатриса – и летает без корсета. Как такое пережить!
– Напрасно смеетесь. Авиатрисы были символом всего, что добивались тогдашние
женщины. Свободы, равенства с мужчинами. И все они были красивы.
– И Элен?
– Уж не сомневайтесь!
– А можно нескромный вопрос – сколько ей было лет, когда она вздумала фигурять без
корсета? – прищурился Вася.
– Давайте подсчитаем... Она родилась в 1877-м. Значит – тридцать три. Не девочка уже.
– Молодец! – искренне похвалил Вася. – Поздно начала. Летать, я хочу сказать. То
есть – сравнительно поздно. Для тех времен, в смысле.
Брунгильда махнула рукой:
– Ладно, можете не извиняться. Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, Элен удивляла.
Как и другие авиатрисы, она пришла в авиацию через другие виды спорта. Ее брат Эжен
был одним из ведущих велосипедистов Северной Франции. Это он заинтересовал Элен
гонками. В самом-самом конце девятнадцатого века она участвовала в велогонках в
составе группы «Симпсон Левер Чейн» и даже установила несколько рекордов скорости.
– Скорость, – кивнул Вася. – В этом все дело.
– Именно, – подхватила Брунгильда. – Вы-то это должны понимать! Элен увлекалась и
мотоциклетным спортом, и автомобильным. И как-то раз после аварии на соревнованиях в
Берлине она полгода вынуждена была лечиться.
– Как я понимаю, тогда многие бились, но потом возвращались в спорт? – заметил Вася.
– Правда, жили недолго.
– Вспоминаете баронессу Ларош? – Брунгильда кивнула. – Да, она погибла рано. А вот
Элен Дютрийе, хоть и попадала в аварии, хоть и летала всю жизнь, прожила очень долго.
Она умерла в 1961 году.

– Ничего себе! – изумился Вася.
– Я тоже восхищаюсь этой женщиной, – кивнула Брунгильда. – Ее отвагой... и ее
долголетием. Кстати, впервые она поднялась в воздух, не взяв ни одного урока
пилотирования. Просто из любопытства. Раз – и взлетела на легком «Санто-Дюмоне»
типа «Демуазель». Она и потом на таких летала.
– Ну и как? – заинтересовался Вася. – Удачно взлетела?
– Нет, – покачала головой Брунгильда. – Все эти истории о прекрасных уборщицах,
которые без единой репетиции заменяют на премьере прима-балерину, – полная чушь.
Для того чтобы хорошо летать, как и для того, чтобы хорошо петь, нужно учиться.
Вася схватился за голову:
– Что я слышу? Какая скучная проза жизни! А где же романтика?
– Товарищ лейтенант, позволю себе напомнить вам, что я – тоже офицер, пусть не такой
опытный пилот, как вы, но все же... И я не стала бы офицером, если бы не обладала
трезвым взглядом на жизнь... Да, я восхищаюсь Элен Дютрийе, но тогда, в декабре
восьмого года, она как взлетела, так и шлепнулась, потому что ничего не умела. Поэтому,
кстати, и поступила в школу Фармана. Она сдала экзамен 23 августа 1910 года. Стала
четвертой. Диплом номер четыре!
– Ого! – выговорил Вася.
– Это вот мы с вами считаем, что «ого», а в Бельгии ее французскую лицензию сочли
недействительной. Ну конечно, ведь речь шла о женщине! Кто поверит, что женщина
способна быть пилотом? В общем, ей пришлось пересдавать экзамен. Вторую лицензию,
уже в Бельгии, она получила 25 ноября того же года. И тут же начала удивлять.
Сорок пять километров без посадки – от Бланкенберга до Брюгге и обратно.
Беспрецедентный полет! Публика просто ревет от восторга. Но самое удивительное в этом
полете – Дютрийе была с пассажиром. Ее сопровождал ее механик. А вот полеты с
пассажирами были тогда вообще в диковину.

– Я так понимаю, перед Первой мировой войной она в основном развлекалась тем, что
ставила рекорды?
– Вы напрасно, Вася, так иронически говорите – «развлекалась»... Да, они тогда все
ставили рекорды. И Элен была одной из самых выдающихся авиаторов. На соревнованиях
во Флорении, например, она получила кубок из рук итальянского короля. Она принимала
участие в соревнованиях в Америке, где выиграла приз за самый продолжительный полет.
Она была первой женщиной, сумевшей продержаться в воздухе больше часа. И это, не
смейтесь, – достижение. В 1911 году она пролетела 254 километра за три часа.
– Я вовсе не смеюсь, – пробормотал Вася, сраженный этим потоком фактов. – И в
мыслях нет, фройляйн! Где бы мы были сейчас, не будь таких, как эта ваша Элен
Дютрийе.
– В 1913 году она, между прочим, стала рыцарем французского ордена Почетного
Легиона, – добила собеседника Брунгильда.
– А во время войны она что делала? – поинтересовался Вася. – Мне как-то трудно
представить себе, чтобы такой человек, как Элен Дютрийе, просто отсиживался где-
нибудь в Бельгии или там в Париже.
– Официальных данных нет, – ответила Брунгильда. – Но кое-кто вспоминает, что она
оставалась летчиком и в годы Первой мировой. Хотя вообще-то, опять же, официально,
женщины во время войны не летали. Но она поднималась в небо и вела наблюдения за
противником. Потом водила санитарный автомобиль.
– В общем, не выпускала из рук штурвала, – подытожил Вася. – Не так, так иначе.
– Именно. Она была очень активна, руководила женской секцией Французского
аэроклуба и...
– Погодите-ка, – перебил Вася. – Не сочтите мой вопрос бестактным, но... А как у нее
было с личной жизнью?
– Все в порядке было у нее с личной жизнью, – отрезала Брунгильда. – В двадцать
втором Элен вышла замуж за Пьера Мортье, приняла французское гражданство. Осталась
с мужем во Франции.
– В двадцать втором? – призадумался Вася. – Это же сколько ей было лет?..
– Что за манера – вечно подсчитывать, сколько женщине лет! – рассердилась
Брунгильда. – Сколько надо, столько и лет! Всем бы иметь такую внешность и такое
обаяние, не говоря уже об энергии. Когда началась Вторая мировая, Элен руководила
полевым госпиталем. Можете подсчитать, сколько ей было лет в сороковом году. И
ничего! Руководила.
– Она же рыцарь, – сказал Вася примирительно.
– Вот именно. – Ноздри Брунгильды раздувались. – Рыцарь без страха и упрека. Леди-
ястреб. Она всю жизнь была связана с авиацией, с аэроклубом, помогала женщинам
подниматься в небо и учредила премию в двести тысяч франков для женщин,
совершивших самый длинный беспосадочный полет.
– Ее, наверное, считают национальным достоянием, – предположил Вася.
– А как вы думали! – сказала Брунгильда. – Уж конечно. Королевский монетный двор
Бельгии выпустил в ее честь памятную серебряную монету в пять евро. Элен —
национальное достояние Бельгии... Вася! Вы так и будете смотреть, как я хромаю
босиком, или все-таки подадите мне руку?..
© А. Мартьянов. 26.07. 2012.

13. Фронтовая авиатриса
Капитан Хирата чуть замешкался, отвечая на приветствие Брунгильды Шнапс.
Брунгильда покраснела. Она точно знала, что все сделала правильно. Приветствовала его
первым, поскольку он старше по званию. Он мог бы и не улыбаться так ехидно.
Впрочем, рассуждая о японце, она не вполне понимала, ехидно он улыбается или не
ехидно. И улыбается ли вообще. Капитан Хирата был человеком замкнутым и нечасто
позволял себя понимать. Точнее, совсем не позволял.
Брунгильда, в полном соответствии со своим героическим именем, решила идти
напролом.
– Позвольте обратиться, герр гауптманн!
– Да? – Он посмотрел на нее как будто с удивлением.
Она решила расценивать это как согласие. Хотя, по правде говоря, «да?», произнесенное
подобным тоном, скорее, напоминало выражение удивления.

– Господин капитан, вас как будто удивляет наличие на аэродроме женщины-пилота! —
выпалила Брунгильда.
Капитан Хирата молчал несколько секунд. Видно было, как меняется выражение его глаз.
Он как будто решал: отвечать формально или искренне. И тщательно отмеривал в уме
уместную дозу вежливости, которой будет сопровождаться ответ.
Наконец решение было принято, и капитан Хирата – очень, очень вежливо – произнес:
– Да, Frau Leutnant, мне непривычно видеть женщину – военного летчика. Это меня
смущает. Настоящая японская женщина никогда не позволила бы себе стать военным
летчиком. В более традиционном обществе это сочли бы неприличным.
Он слегка поклонился, показывая, что сожалеет о столь резких словах.
Брунгильда сделалась совершенно пунцовой. Она сама чувствовала, как пылают ее уши.
– Я вынуждена напомнить вам, господин капитан, о том, что женщины очень рано
начали летать на самолетах, – проговорила она.
– Если я правильно понял ваши предыдущие рассказы, – сказал Хирата, – речь шла о
любительницах. Для них авиация была чем-то вроде модного приключения. Спорта. Как
это называется? Чем-то вроде игры в гольф. Таким образом они знакомились с
мужчинами, выходили замуж... Японские женщины, – прибавил он, – также посещают
кружки икэбаны для того, чтобы выйти замуж.
– Майн готт! – воскликнула Брунгильда. – Неужели завидные японские женихи
посещают подобные кружки?
– О нет, – японец тонко улыбнулся. – Но в этих кружках занимаются сестры и матери
завидных женихов.
– Очень сложно и очень по-японски, – сказала Брунгильда. Она искренне считала, что
это комплимент.
Очевидно, Хирата понял и оценил ее старания, потому что сделал ответный шаг:
– Однако, Frau Leutnant, мне показалось, что вы хотели опровергнуть мое, быть может,
ошибочное представление о первых летчицах.
– Я... – Брунгильда замялась, но тут же нашлась: – Да, господин капитан. Женщины
относились к авиации не только как к икэбане. Были и военные летчицы.
– В Германии? – еще более вежливо спросил Хирата.
– Первой военной летчицей считается русская дама – Евгения Шаховская, —
вынуждена была признать Брунгильда. Но она тотчас оживилась: – Это была
выдающаяся личность! Авантюристка, красавица, сорви-голова!
– Я плохо знаю русские имена, – заметил капитан Хирата, – однако мне кажется, что
«Шаховская» – имя знатного даймѐ... как это по-русски?
– Это княжеская фамилия, да, – кивнула Брунгильда. – Правда, до сих пор трудно
разобраться, кто была на самом деле Евгения Шаховская. Одни говорят, что – дочь купца
Михаила Андреева из Петербурга, которая вышла за князя и овдовела. (По другой версии
– развелась). Другие – что она никогда не была замужем, и Шаховская – ее первая и
настоящая фамилия, а ее отец был, мол, эстляндским губернатором. Есть еще версия, что
ее отец – князь Михаил Шаховской, тайный советник и сенатор. Кое-кто считает ее
авантюристкой, которая просто назвалась «княгиня Шаховская» – в начале двадцатого
века были и такие.
– Но в России, мне кажется, как и в Японии, строго велся учет знатных семейств, —
сказал Хирата. – Россия была традиционным обществом.
– Евгения Шаховская была международной авантюристкой, – ответила Брунгильда. —
Если можно так выразиться. Она училась летать в Германии. Вообще ее судьба – как и
судьба многих выдающихся женщин, – определилась любовью.
Она покосилась на капитана Хирату – не смеется ли он. Но японец с большим уважением
слушал о любви. Очевидно, в японской культуре это считается почтенным сюжетом.
Брунгильда приободрилась:
– Она влюбилась в кумира «всей прогрессивной Европы» – известного летчика и
инструктора Всеволода Абрамовича. Он прославился несколькими мировыми рекордами,
совершил, между прочем, перелет из Берлина до Петербурга. Его называли лучшим
пилотом-инструктором. В общем, он был действительно выдающийся!
– Да, такой мужчина производит сильное впечатление на женское сердце, – признал
капитан Хирата.

Брунгильда вдохновенно продолжала:
– Шаховскую завораживали полеты. Абрамович ее просто сразил! Поэтому она и
отправилась в Иоганнесталь, в Германию, и уже 16 августа 1911 года получила диплом.
– А Абрамович – он тоже находился в Иоганнестале? – спросил Хирата.
– Разумеется. Ради него, я думаю, она там и осталась. Они летали вместе, и вот однажды
поднялись в небо на двухместном аэроплане. Считается, что вела самолет Шаховская, а
Абрамович был пассажиром. Они упали с высоты в шестьдесят метров, и Абрамович
погиб. Это случилось в апреле 1913 года.
– А она? – спросил Хирата.
Брунгильда с удивлением заметила, что у капитана блеснули слезы.
– Японцы сентиментальны, – объяснил капитан Хирата. – Такие истории у нас
показывают в театре, их записывают писатели. Мы читаем их для того, чтобы испытывать
сильные чувства. Я благодарен вам за рассказ.
– Мой рассказ только начался, – заявила Брунгильда. – Мы ведь не дошли до самого
интересного: как Шаховская стала военным летчиком!
– О, – вежливо сказал капитан Хирата. – Прошу меня извинить. Я был нетерпелив.
– После катастрофы Шаховская объявила, что летать больше не будет. Но, конечно, не
удержалась. Она отправилась в Петербург, там бывала в доме Распутина, вообще
увлекалась всем модным, включая, надо полагать, и кокаин... Ее очень угнетало то

обстоятельство, что Абрамович погиб по ее вине, а она сама даже не пострадала. К
счастью для нее, началась война.
Капитан Хирата одобрительно кивнул.
– Война помогает самураю ощутить в себе истинный дух.
– Разумеется, женщине трудно было попасть в действующую армию, если только не с
госпиталем, – продолжала Брунгильда. – Но здесь следует отметить одно
обстоятельство. Россия была более передовой страной – в том, что касается женской
эмансипации. Да, да, она считается отсталой страной, и это как будто бы «общее место»,
но если сравнивать с той же Францией... Французским авиатрисам наотрез было отказано
во фронтовой службе. А Шаховская отправилась на поле боя. Она получила чин
прапорщика и была зачислена в авиаотряд. Занималась корректировкой огня батарей и
разведкой.
– Прекрасное дело, – одобрил Хирата.
– Про нее, конечно же, распускали слухи, что она занята не столько выполнением боевых
задач, сколько романами с офицерами. Ну и конечно же шпиономания. В русской армии
во всех, кто хоть как-то был связан с Германией, видели германских шпионов. Даже
императрицу в этом обвиняли. А Шаховская несколько лет жила в Германии, училась там!
Ее арестовали уже через месяц и приговорили к расстрелу.
– Это позорная смерть, особенно если обвинение несправедливое, – нахмурился Хирата.
– Вы забываете, господин капитан, о том, что Шаховская была близка с Григорием
Распутиным, а через него – с царской семьей. Николай II помиловал ее, и она была
заключена в крепость.
– Но в России произошла революция, которая все поставила – как это говорят? – с ног
на голову, – заметил Хирата.
– Именно. Шаховская была освобождена большевиками как узница царского режима.
Одно время она работала в Гатчинском дворце, который превратили в музей. Вроде бы
там произошла кража. Сейчас трудно во всем разобраться, ведь прошло столько лет, а
участники тщательно замели следы... Известно, что какие-то ценности из этого дворца
продавали за рубеж, но вот кто это делал и по чьему указанию? Это было очень темное
время.
– Шаховская больше не летала? – спросил Хирата. – И не влюблялась?
– Насчет любви ничего сказать не могу, а вот полеты для Шаховской точно закончились.
Она поступила на службу в ЧК, сначала в Петрограде. Потом ее переправили в Киев. И
вот в Киеве она была застрелена – в двадцатом году. Ей был тридцать один год.
– Расстреляна? – переспросил Хирата.
– Нет, именно застрелена, – пояснила Брунгильда. – В перестрелке. Одни говорят, что
Шаховская была пьяна, другие – что она находилась под действием наркотиков. Кокаин
был тогда модным увлечением, так что вполне может быть... История неясная – как и все
в жизни и смерти Шаховской. Мне кажется, – прибавила Брунгильда с какой-то
несвойственной ей застенчивостью, – что единственным ярким, светлым пятном в жизни
Шаховской была ее служба в качестве военного летчика. Те несколько дней, когда она
летала над линией фронта и помогала батареям корректировать огонь. Она такая красивая
в военной форме!
Капитан Хирата долго молчал, обдумывая услышанное.
Наконец он произнес:
– Военная форма, как и кимоно, очень идет по-настоящему красивым людям.
Он поклонился Брунгильде и ушел. Она долго смотрела ему вслед, раздумывая: что,
собственно, он хотел сказать последней фразой? Может быть, он признал правоту
Брунгильды? Хорошо бы так!
© А. Мартьянов. 09.08. 2012.

14. Элегантный испанский неудачник
20 апреля 1935 года, Берлин
Гитлер чувствовал себя растроганным. Какой удивительный подарок преподнес ему друг,
партайгеноссе Геринг! В парадном строю над фюрером, стоявшим на трибуне в
окружении ликующей толпы, пронеслась эскадрилья «Хорст Вессель», сформированная
всего несколько дней назад. Какие незабываемые воспоминания навеяло это имя! И какое
прекрасное будущее Германии сулят эти самолеты!
Для полного оснащения эскадрильи серийных машин не хватило, поэтому для парада
были использованы все самолеты, какие нашлись. И в том числе были представлены He.51
– в своем роде новинка.
«В своем роде» – потому что профессор Хейнкель давно уже работал над подобным
самолетом – одноместным бипланом. Еще в тридцатом был создан первый – HD-37. Он