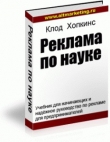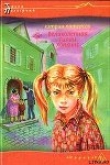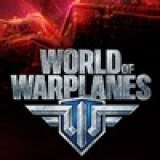
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Полковник Стоматьев кивнул Арцеулову на кресло.
– Садитесь.
Тот сел, все еще настороженный: неурочный вызов к начальству мог означать абсолютно
все, что угодно.
– Как известно, я был против назначения штопора в число обязательных фигур, – начал
полковник. – Того же мнения придерживались и наши французские коллеги. А ведь
именно они построили самолет, который впервые благополучно вышел из этой... гм...
безнадежной ситуации! Правда, под управлением летчика русской армии.
Он сделал паузу.
– Что тоже необходимо учитывать.

Арцеулов сделал почти незаметное движение, которое выдало его нетерпение.
Стоматьев кивнул:
– Что ж, рад вам сообщить, господин прапорщик, что вы были правы. Ваша инструкция,
которую вы написали для авиационных частей, очень помогла. Я, собственно, хотел вам
показать одно письмо. Вот тут летчик Петренко пишет, что он и его товарищи применяют
в воздушных схватках, среди других фигур высшего пилотажа, преднамеренный штопор.
Таким образом они уходят от артиллерийского огня или от самолета противника. Вот так-
то.
Он с торжеством прихлопнул бумаги ладонью.
– Не знаю, будет ли вам повышение в чине за ваши старания, а от меня и от русской
авиации вам – благодарность.
Штопор – некогда непобедимый «злой демон» начального периода воздухоплавания —
был побежден летчиком русской армии на самолете «Ньюпор».
Продолжение следует.
© А. Мартьянов. 30.01.2013.
48. «Ньюпор» (4): «Мальчик из Шервуда»
– Мы сохранили имя Ньюпора в названии фирмы, – так говорил новый глава компании
– Анри Дойч де ла Мерт. – Это же имя будут носить производимые нами самолеты.
Сколько бы ни просуществовала фирма, какие бы наименования она ни получала
впоследствии, – самолет останется «Ньюпором».
Анри Дойч де ла Мерт, этот истинный энтузиаст развития воздухоплавания, глубоко и
серьезно переживал гибель братьев Ньюпор – Эдуарда и Шарля.
– Мы пережили нелегкие времена, – продолжал он. – Недавно нас покинул главный
конструктор Франц Шнейдер. Что ж, он гражданин Швейцарии и при всей его
одаренности, оставался, очевидно, просто наемником... Его куда больше занимала борьба
с Антоном Фоккером за патент на синхронизатор для пулемета, нежели работа в нашей
компании. Новый генеральный конструктор, господин Гюстав Делаж, которого я имею
удовольствие вам представить, продолжит работу над текущими проектами, – так
заключил свою речь перед сотрудниками фирмы де ла Мерт.
Для начала Гюстав Делаж приступил к разработке гоночного полутораплана.
Полутораплан отличался от биплана тем, что верхнее его крыло имело нормальную
ширину и находилось над фюзеляжем, а нижнее, размещавшееся под фюзеляжем, при том
же размахе было значительно более узким.
Между собой крылья соединялись распорками в форме буквы «V».
Самолет назвали «Ньюпор Х».
Именно в эти дни военный министр Александр Мильеран призывал сограждан к созданию
воздушного флота:
«Мы должны задаться целью дать нашему отечеству бесчисленные полчища аэропланов
для неутомимой охраны наших границ, – гремел министр со всех газетных полос. —
Будущая судьба Франции, защита нашей собственной безопасности и чести зависят от
этого!»
Делаж не раз обдумывал эти слова.
Каким образом «полчища аэропланов» могут защитить честь Франции?
Самолет может быть разведчиком. Или, положим, корректировщиком артиллерийской
стрельбы, если отработать взаимодействие с наземными частями. Возможна также
бомбардировка воздушных объектов.
Однако «Ньюпор Х» все-таки оставался в первую очередь спортивным самолетом.
– Есть ли шанс ли переделать его в самолет военный? – поставил вопрос де ла Мерт.
Делаж задумался.
– Возможности подобного использования полутораплана имеются, – ответил он
наконец. – У пилота хороший обзор вперед и вниз – поэтому роль разведчика «Ньюпор
Х» освоит без труда. Наверное, сможет он выступить и в роли истребителя.
– Каким вы представляете себе бой между двумя самолетами? – продолжал де ла Мерт.
– Как, по-вашему, могло бы протекать подобное сражение?
– Полагаю, нам следует с самого начала отказаться от средневековых фантазий, вроде
гири на длинном тросе или пилы на хвосте аэроплана, – предположил Делаж.
– Как насчет бомб, которые сбрасываются на машину противника? – поинтересовался
де ла Мерт.
– Звучит как будто современно, но мне кажется, это неэффективно. – Делаж вздохнул.
– Неужели дойдет до войны? Мне отвратительно представить себе, что летательные
аппараты будут уничтожать друг друга прямо в воздухе.
– Тем не менее, следует готовиться ко всему, – заключил де ла Мерт. – Хочешь мира
– готовься к войне. И так далее.
22 мая 1916 года, район Мауэнвилля, Франция, Западный фронт
Капитан Альберт Болл поднял свой одноместный истребитель «Ньюпор XI».
...Как и предвидели Делаж и Дойч де ла Мерт, спортивный самолет без больших «потерь»
смог превратиться в истребитель.
Первым из таковых стал «Ньюпор XI» – уменьшенный вариант самолета «Ньюпор Х» —
маленький, маневренный.
Этот самолет не имел приборной доски. Немногочисленные приборы – буссоль,
хронометр, тахометр и альтиметр – размещались в разных углах кабины. Это заставляло
пилота постоянно вертеть головой.
Новый «Ньюпор», одиннадцатый, быстро получил прозвище «бебе», «крошка» – потому
что был почти таким же, как его предшественник... только маленьким.
И смертоносным – в умелых руках. Ведь он был создан специально для борьбы с
аэропланами противника.
Пулемет «Льюис», установленный на верхнем крыле, стрелял поверх пропеллера.
Поскольку дотянуться до пулемета летчик не мог, спуск осуществлялся с помощью
гибкого тросика.
Диск вмещал только 47 патронов. Позднее появится девяностошестизарядный – но
только позднее.
В ходе боя пилоту то и дело приходилось отстегивать ремни, вставать в кабине и,
удерживая ручку ногами, перезаряжать пулемет. В этот момент летчик оставался
полностью беззащитным, а мог и просто выпасть из кабины.
Наведение осуществлялось «на глазок» – по следам трассирующих пуль. Что, в свою
очередь, вело к перерасходу боеприпасов.
И все-таки это был первый боевой самолет, выпущенный фирмой «Ньюпор», и он хорошо
себя показал.
Первая эскадрилья, оснащенная «бебе», приступила к боевым вылетам уже 5 января 1916
года, а через месяц на фронте действовало почти сто таких самолетов.
Капитан Альберт Болл, родом из «робин-гудовского» Шервуда, двадцатилетний красавец
с задумчивым лицом, был героем Англии, гордостью своей страны.
В девятнадцать лет он получил летное свидетельство и через три недели уже сражался на
фронте.

Сначала – разведка, затем – несколько боев, сбитый змейковый аэростат – «Военный
Крест» за боевые заслуги... И снова полеты и сражения.
В июне 1916 года он установил на своем самолете одну «хитрую штучку», изобретение
механика 11 эскадрильи Королевских ВВС сержанта Фостера.
Еще в середине апреля Фостер взял да установил на самолет своего пилота капитана
Купера пулемет «Льюис» на выгнутой направляющей. Таким образом, пилот получил
возможность, не вставая с кресла, опускать пулемет вниз и менять диск или передергивать
заевший затвор.
В верхнем положении пулемет был отъюстирован с телескопическим прицелом «Олдис»,
установленным перед кабиной на уровне глаз пилота.
Система Фостера была опробована и оценена по достоинству. Скоро почти все машины
французского производства, летавшие в составе английских частей, получили такую.
Сами французы, кстати, ею не пользовались.
Ну и напрасно.
Болл считал, что воевать нужно с максимальной эффективностью. Несмотря на свою
молодость, он оставался холодным и расчетливым человеком. Охотничий азарт, ярость
битвы, опьянение полетом – все это, казалось, было ему чуждо.
У него имелась боевая задача: произвести разведку, уничтожить вражеский самолет.
Остальное, в том числе и личные эмоции, не имело значения.
Ну все, пора. Взлет.
«Ньюпор XI» отрывается от земли.
Первый «гунн» – двухместный «Роланд». Хорошо... Тихий подход, затем —
стремительное сближение. «Ньюпор» резко пикирует... Но что это? Немцы сперва
насторожились, затем расслабились – англичанин ушел вниз.
Обычно атака происходит сверху. Снизу никто не атакует.
Очередной глупый англичанин.
Но «мальчик из Шервудского леса» был не глуп – напротив, дьявольски хитер и
хладнокровен.
Оставаться близко под ускользающим противником в течение времени, достаточного для
нанесения удара, – трудно. Но Болл умел это делать.
И вот, оказавшись под противником, он подтащил пулемет вниз по раме и начал стрелять
вверх с расстояния в тридцать футов – прямо в беззащитное брюхо вражеского самолета.
А теперь нужно быстро уходить. Подбитый немец начал падать, и хорошо бы не упасть
вместе с ним...
Готово. Сверкая крыльями, «Ньюпор» летит дальше.
Боллу не нравилось сражаться в команде. Он любил одиночество. И не потому, что не
хотел делиться славой. Во время этой войны славы хватит на всех. Не обязательно даже
оставаться в живых, достаточно задержаться на этом свете на пару лет...
Семь «гуннов». Вот это уже плохо. С семью даже капитан Болл, пожалуй, не совладает. А
внизу уже германская территория.
Немцы быстро распознали «Ньюпор» и всей стаей устремились к нему. Со всех сторон,
казалось, летели пулеметные очереди.
Болл пристально всматривался в противника, выжидая и прикидывая – как лучше уйти
от атаки.
«Прикинуться мертвым», – понял он. Еще одна пулеметная трасса сверкнула совсем
близко от его головы. Болл упал лицом вперед и ввел самолет в штопор.
Теперь он был абсолютно спокоен. Каждое мгновение он знал, что следует делать. Время
как будто остановилось. Сейчас нужно застыть. А вот сейчас – пора!..
Над самой землей Болл хладнокровно выровнял машину и ушел за линию фронта.
– Сбили? – Немецкие летчики быстро обменивались сигналами, взмахами рук
показывали на землю. – Но где он?
– Где-то валяется, – решили они наконец. И принялись спорить о том, на чей счет
записать победу над английским истребителем...
Вечером героя разыскивал командир эскадрильи.
– Он, как всегда, в моторе копается, – доложил механик.
И точно, герой был обнаружен в ангаре. Его одежда была вымазана маслом, рукава
закатаны, руки черны.
– Мой Бог, в каком вы виде, сэр! – не выдержал командир. – У вас же есть механик для
такой грязной работы.
– Мне спокойнее, если я все отрегулирую, исправлю, проверю и, главное, заряжу сам,
сэр, – ответил Болл. – Это привычка.
– Вы неряха, сэр, – строго произнес командир. – Дошло до того, что вы взяли
привычку летать без шлема и защитных очков.
– В небесах нет девушек, которые могли бы оценить мой элегантный внешний вид, —
усталым голосом ответил Болл. Но поневоле он покраснел.
– Вас отправляют на отдых, капитан, – сказал ему командир после паузы.
Болл молча отсалютовал и продолжил работу.
– Вы... – Командир хотел сказать: «Какой же вы еще мальчик», но вместо этого сказал
другое: – Вас опять не видели в столовой.
– Я беру с собой кексы в самолет, – ответил Болл. – Мне так вкуснее. Вы же знаете,
сэр, что я живу в воздухе. На земле истребители «гуннов» не попадаются.
– Болл, одинокие волки долго не живут, – сказал командир. – Вам лучше бы сражаться
в команде.
– Ах, сэр, я люблю мою работу, – спокойно ответил «мальчик из Шервуда».
7 мая 1917 года, район Камбре, Западный фронт
Командир эскадрильи 56 авиакрыла истребителей капитан Альберт Болл снова поднялся в
небо.
Недавно он вернулся из отпуска. Самым выдающимся событием этого отпуска газетчики
сочли диалог между капитаном Болом, знаменитым английским асом, и английским же
премьер-министром.
Встреча произошла на званом обеде. Присутствовали, помимо двадцатилетнего капитана,
несколько генералов.
– Что нового на фронте, сэр? – обратился к Боллу премьер-министр.
Болл ответил исторической фразой:

– Приятного аппетита, сэр!
Премьер немного удивился:
– Что я могу сделать для героя Британии?
– Отправьте меня на фронт, – попросил Болл.
И снова начались боевые вылеты, один за другим.
...Надвигалась гроза, однако Болл считал, что вылет вполне возможен. Он поднял самолет
в воздух.
Немцы тоже считали, что плохая погода – не настолько плоха, чтобы отсиживаться дома.
Двенадцать «Альбатросов» кружили над полем близ Камбре.
– Одиночка-англичанин! Отличная добыча! – вскричал в азарте Лотар фон Рихтгофен,
младший брат знаменитого своей кровожадностью «красного барона». – Ату его!
Недаром брат называл Лотара «мясником»...
«Альбатросы» ринулись на Болла. Тот ответил пулеметным огнем, затем поднялся
повыше, и туча скрыла его.
– Где он? – Лотар готов был стрелять в то же мгновение, когда появится цель.
Из тучи выпал английский самолет.
– Подбит! – закричал Лотар в восторге. Он испытывал почти экстаз, глядя, как
англичанин вошел в штопор и понесся к земле.
Болл не был подбит. Он снова уходил в штопоре – как делал уже не первый раз.

Усталость ли, дурное самочувствие, погода – или просто удача оставила его?
Болл не сумел вывести самолет из штопора. Он едва уловил краем сознания каких-то
людей – местных крестьян, – подбежавших к нему и лопотавших на своем смешном
французском. Они пытались вытащить упавшего летчика из-под обломков.
Но потом пришел врач, перечислил переломы, постоял секунду и на своем – совсем не
смешном немецком – констатировал смерть.
Альберт Болл был похоронен немцами с воинскими почестями. Уже после войны его отец
выкупил этот клочок земли, чтобы поставить сыну памятник.
© А. Мартьянов. 30.01.2013.
Продолжение следует.
49. «Ньюпор» (5): Раздевающийся самолѐт
14 июля 1917 года, Исси-ле-Мулино
Густав Делаж никогда не задумывался над тем, что ему, в сущности, уготована
выдающаяся роль в истории фирмы «Ньюпор»: он вел ее самолеты сквозь величайшую
войну, которая когда-либо потрясала Европу.
Слишком уж был он поглощен основной своей задачей: разработкой все новых и новых
самолетов.
До сих пор это были версии «Ньюпора X» – полуторапланы.
«Ньюпор 28» должен был стать первым самолетом фирмы «Ньюпор» с двухлонжеронной
конструкцией как верхнего, так и нижнего крыльев. Полноценным бипланом.
Вообще-то задача формулировалась «по-детски» просто: сделать самолет лучше
«Фоккера». Лучше «Альбатроса». В общем, построить машину, на которой можно будет
побить германцев.
«Двадцать восьмой» «забрал себе» уже испытанные на других моделях Делажа
новшества: фюзеляж округлого сечения, имевший фанерную обшивку передней части и
полотняную – хвостовой; скругленные стабилизатор и киль с деревянным набором и
фанерной обшивкой. Вместо V-образных крыльевых стоек – наклонно-параллельные.
Теперь – вооружение. Из чего, собственно, предстоит немцев бить.
– Я хочу установить два пулемета «Виккерс», – заметил конструктор, когда испытания
закончились, и летчик благополучно покинул кабину.
На первой, опытной, модели стоял лишь один – по левому борту. Делаж сделал пометки
у себя в блокноте.
– Да, два пулемета лучше, – повторил он задумчиво. – Времени мало, господа, – он
обратился к собравшимся на аэродроме сотрудникам фирмы, пилотам, механикам. – Мы
обязаны помочь нашим летчикам, сражающимся сейчас за Францию!
12 марта 1918 года, Париж
– Мне жаль огорчать вас... – В приемной у военного министра пахло хорошим
одеколоном, а карта с воткнутыми в нее флажками имела нарядный вид. – Нам известны
ваши заслуги перед отечеством.
Делаж хмуро смотрел на свои руки. Он ожидал неизбежного «но».
И это «но» прозвучало.
– Но, – военный министр поднял палец, – мы вынуждены отозвать заказ из вашей
фирмы. Наши летчики хорошо освоили истребитель SPAD VII. Они не хотят
переучиваться на «Ньюпор 28».
– Но с начала года наши самолеты на фронте и, кажется, неплохо себя зарекомендовали,
– начал было Делаж.
– Мсье, мне жаль вас огорчать, – повторил военный министр, – но нарекания к нему
большие. Кабина тесная, система управления мотором неудобная – что неудивительно,
учитывая все прелести «Гнома». Имеются дефекты топливной системы – а пожар в
воздухе, знаете ли...

– Но мы же устранили... – опять попытался было заговорить Делаж.
– Я еще не закончил, мсье! – грозно произнес военный министр. – У меня лежит пачка
рапортов об авариях. При затяжном пикировании обшивка верхнего крыла вашего
самолета отрывается. Поэтому французским эскадрильям рекомендовано использовать
«Ньюпор 28» исключительно для тренировок. С вооружения мы их снимаем. Это не
обсуждается.
Делаж вышел из кабинета совершенно раздавленным.
Он понимал, что при таких обстоятельствах крах фирмы неизбежен.
– Мистер Делаж? – Его остановил высокий, худощавый человек, непростительно
молодой, с очень светлыми, прищуренными глазами. – Я военный атташе САСШ... Я
слышал, у вас появились «бесхозные» самолеты?
– Слухи расходятся быстро, – угрюмо ответил Делаж. – А уж военные в этом
отношении далеко опередили любую старую деву.
Американец рассмеялся:
– Меня восхищает манера французов шутить, даже когда дела идут плохо. Однако
надеюсь, скоро все исправится. Я хотел бы поговорить с вами об этих самолетах. Нашей
Первой истребительной авиагруппе не помешало бы... скажем, шестьсот «Ньюпоров 28».
Как вы полагаете?
19 мая 1918 года, район базирования 94-й истребительной эскадрильи, Западный фронт,
Франция
– Как думаешь, долго мы будем торчать в Туле? – спросил Алан Уинслоу.
– Сколько прикажут, – не задумываясь, ответил Рауль Лафбери.
Лейтенант Уинслоу вздохнул:
– В апреле было скучно. Почти не летали.
– В апреле вы с Кэмпбеллом сбили «Альбатрос», – напомнил Лафбери. Сам он считался
асом и числил за собой немало воздушных побед.
– Французы считают, что «Ньюпор 28» лучше немецких истребителей, – продолжал
Уинслоу. – По маневренности и скороподъемности, наверное, – да. Пока мы тут
патрулируем да изредка перехватываем разведчиков, этого толком не выяснишь.
– Ну, мы еще аэростат над линией фронта уничтожили, – напомнил Лабфери.
– По машинам! – раздался приказ.
– Началось, – обрадовался Лабфери.
Он поднял самолет, и скоро увидел внизу Тул, а затем – поля и редкие кудрявые рощи.
Блеснула лента реки. «Ньюпор» повернул. «Альбатросы»! Двое, как и обычно. Воздух
расчертили пулеметные трассы. Лабфери направил самолет в хвост одному из них, и в
этот момент «Ньюпор» вспыхнул.
Уинслоу, мчавшийся на выручку майору Лабфери, мог теперь только смотреть, как падает
самолет американского аса...
«Альбатросы» уже приближались, и Уинслоу ушел от них в резком пикировании.
Он увидел то, чего видеть не хотел бы ни один пилот «Ньюпора»: как срывает обшивку
крыла.
Нужно садиться. Дотянуть до своей стороны и сесть. Уинслоу помнил, как не повезло
другому летчику – Джеймсу Холлу: он потерял обшивку и плюхнулся на немецкой
стороне.
Несколько раз расцвели «букетами» на земле зенитки. К счастью, промахнулись:
использовать пресловутую маневренность «Ньюпора 28» сейчас бы не удалось, самолет
разрушался.
Все. Касание.
«Ньюпор» пробежал по земле, подскочил несколько раз, ткнулся… Шасси подломились,
крыло окончательно развалилось.
Уинслоу выбрался и упал на землю, просто радуясь тому, что находится на твердой почве.
Самолет, летчик, земля – все вокруг было залито маслом. «Прелести» мотора «Гном»
давали себя знать...
2 июня 1918 года, Исси-ле-Мулино
– Разумеется, все пожелания летчиков будут немедленно учтены! – Делаж
разволновался, когда американский военный атташе лично привез ему рапорты.
– Мы хотим обратить ваше особое внимание на тот факт, что велики небоевые потери
техники, – заметил американец. – Поломки при вынужденных посадках. Недостатки
топливной системы, которая может загореться в самый неподходящий момент. Хотя
трудно определить подходящий момент для пожара топливной системы... Но самый
«выдающийся» дефект, мистер Делаж, – ваш самолет имеет неприятную манеру
раздеваться.
– Вы говорите о разрушении обшивки крыла? – нервно уточнил Делаж.
– С самолетом Джеймса Мейснера это произошло дважды, – атташе пролистал рапорты,
– Эдвард Риккенбакер претерпел таковой ущерб однажды. Джеймс Холл из-за этого
попал в плен. Были и другие случаи. Вы уж проследите, сэр, чтобы ваши самолеты больше
не раздевались перед противником.
14 июля 1918 года, Западный фронт, Франция, расположение 95-й истребительной
авиаэскадрильи САСШ
– Говорят, скоро нас пересадят на «SPAD», – заметил лейтенант Чарльз Миллер.
Лейтенант Джеффри Хант поморщился:
– Только не это! Отобрать наши любимые «Ньюпоры» и посадить на какие-то
железяки!..
Лейтенант Риккенбакер хмыкнул:
– Сейчас мы летаем на переделанных «Ньюпорах 28», а раньше как было – на старых?
Те такие фортели выкидывали!.. Рассказать, как моя машинка разделась прямо перед
«Альбатросом»?
Все засмеялись: Риккенбакер возвращался к этому повествованию неоднократно, всегда
уснащая его новыми, не вполне пристойными эпитетами.
– А если серьезно, – добавил он, когда смех утих, – я считаю, что «двадцать восьмой»
ничем не уступает «Фоккеру» – при лучшей скороподъемности и маневренности. И
превосходит любой «Альбатрос» – по всем параметрам. «Пфальцу» проигрывает лишь в
скорости на пикировании.
Он помолчал и сказал немного другим тоном:
– Конечно, существуют и другие мнения. Никого не стану разубеждать. У нас в
эскадрилье многие недовольны «Ньюпором», что правда – то правда. А мне эта машинка
жизнь спасала. Я на ней шесть немцев сбил.
– Возвращаются. – Миллер встал, всматриваясь в небо.
Возвращались пилоты, уходившие на задание к линии фронта.
На патрулирование вылетало обычно шесть самолетов.
– ...Четыре, пять, – считал Миллер. – Кто не вернулся?
Они побежали к самолетам.
Погиб лейтенант Квентин Рузвельт.
Это был сын двадцать шестого президента САСШ. Его сбили над линией фронта, и только
позднее, из газет, узнали имя немецкого летчика: унтер-офицер Карл Эмиль Грѐпер.
1 августа 1918 года, Западный фронт, район Фере-эн-Тарденуа
Восемнадцать истребителей «Ньюпор 28» из Двадцать седьмой эскадрильи поднялись в
воздух.
Это был последний боевой вылет «Ньюпоров»: пришел приказ о перевооружении.
Американцы вслед за французами пересаживались на «SPAD».
– Ненавижу переучиваться, – ворчал Миллер. – Только-только привыкнешь к
самолету...
– «SPAD» надежнее, – возражал ему лейтенант Чарльз Сандс. – Обидно погибнуть
только потому, что у противника техника лучше.
– Еще вопрос, что лучше, – проворчал Миллер.
«Фоккеры», как всегда, появились стаей и атаковали. Такие сражения – с участием
множества самолетов – назывались «собачьими схватками».
Сандс привычно поднялся выше «Фоккера», затем сделал маневр и зашел к нему в хвост.
Несколько очередей, и немец загорелся.
В тот же миг «горох» рассыпался по самолету Сандса. Еще одна очередь, толчок – и
«Ньюпор» вспыхнул.
...Вечером Миллер грустно сказал:
– Сандс хотел получить «SPAD» и погиб на «Ньюпоре». А я хотел бы и дальше летать на
«Ньюпоре», но, похоже, войну закончу на самолете «SPAD»...
В этот день эскадрилья потеряла шесть самолетов и трех летчиков.

1 марта 1919 года, Мендоса-Сантьяго де Чили
Винсенте Сантос Альмоасид остановился перед «Ньюпором 28», чтобы фотограф мог
запечатлеть его на фоне самолета.
Альмоасид служил во французском Иностранном легионе, а затем и во французских ВВС.
Бизнесмен, пилот, спортсмен, азартный человек, он пожелал принять участие в Великой
войне, а когда боевые действия закончились, купил самолет и доставил его в Аргентину
– к себе на родину.
Он еще не решил, как будет использовать эту машину. Возможно, имеет смысл наладить
почтовые перевозки. Это – золотая жила.
Но для этого нужно научиться летать через Анды.
Лейтенант Питер Занни успешно пролетел от Эль-Паломар до Маар дель Плата. Капитан
Антонио Пародии поднимался на высоту в шесть с половиной тысяч метров. Для
покорения Анд все готово.
Альмоасид решил лично вести принадлежащий ему «Ньюпор». Хорошо ведь лично
установить рекорд и войти в историю!
Но Анды не пожелали покориться летчику Первой мировой. Сильный ветер, проблемы с
высотой... Альмоасид вернулся.
Снова фотографы...
Не теряя присутствия духа, Альмоасид сказал репортерам:
– На войне меня научили: для достижения победы не обязательно бежать прямо на пули.
Можно отступить и затем атаковать новыми силами.
– Вы не отступитесь? – наседали репортеры.
– Боюсь, время героев-одиночек заканчивается, – уклончиво отвечал Альмоасид.
28 марта 1919 года, Аргентина
Теперь для покорения Анд был сформирован авиаотряд. К делу подключились военные.
Самолет Альмоасида был «мобилизован», к нему присоединились еще два – «Ансальдо
SVA».
– К вылету готов! – доложил лейтенант Матьенцо.
Для перелета он выбрал «Ньюпор 28».
– Сильный ветер, снег, лейтенант! – сообщил диспетчер. – Погода не слишком
подходящая.
– Нам придется возить почту при любой погоде, – ответил лейтенант. – Не говоря уж о
военных заданиях. Я вылетаю.
«Ньюпор» поднялся в небо.
Альмоасид проводил глазами свой самолет и пожелал ему удачи.
...Тело летчика обнаружили лишь в ноябре в двадцати километрах от поселка Лас Куэвас.
А обломки самолета в горах на высоте четырех с половиной тысяч метров отыскались в
феврале 1950 года и были перевезены в музей аэронавтики в Буэнос-Айресе.
«Ньюпору 28» так и не удалось покорить горные вершины.
© А. Мартьянов. 30.01.2013.

50. Отец германских истребителей
1 октября 1915 года, поезд, идущий к линии фронта, Франция
Лейтенант Освальд Бельке привык к тому, что на него оборачиваются. Он был своего рода
знаменитостью – летчиком, которому удалось сбить целых четыре самолета противника!
– Позвольте? – Рядом с Бельке появился молодой человек в военной форме.
Бельке сидел за столиком в вагоне-ресторане. Поезд бежал по территории Франции,
направляясь к линии фронта.
Лейтенант приветливо кивнул молодому человеку:
– Прошу вас.
На вид тому было лет двадцать. Типично германское лицо – светлые глаза, правильные
черты.
– Вы ведь лейтенант Бельке? – продолжал молодой человек, тут же воспользовавшийся
приглашением. – Позвольте представиться: барон Манфред фон Рихтгофен. Моя мечта
– стать летчиком, как вы.
Бельке чуть улыбнулся:
– Нет ничего невозможного.
И тут молодой Манфред выпалил:
– Как вы делаете это? Как вы их сбиваете?
Бельке засмеялся:

– Ничего особенного: подлетаю к противнику поближе, хорошенько прицеливаюсь – и
бац! Он сбит.
Рихтгофен покачал головой:
– На тренировках я пытался... Но мои условные противники продолжали летать как ни в
чем не бывало.
– Какой у вас самолет? – серьезным тоном спросил Бельке.
– Моноплан Фоккера, – ответил Рихтгофен. – Eindecker – «самолет с одним крылом».
– Думаю, времена монопланов подходят к концу, – сказал Бельке. – Они не могут быть
настоящими соперниками бипланам. Скоро мы все перейдем на Doppeldecker – «самолет
с двойным крылом».
– Но ведь и вы летаете на «Айндеккере», – возразил Рихтгофен. – На моноплане
Фоккера. Не так ли?
– Все меняется слишком быстро, – ответил Бельке.
18 июля 1916 года, Западный фронт, Франция
Командующий полевой авиацией полковник Герман фон дер Лиз-Томсен стоял перед
своей походной палаткой – огромным сооружением из полотна с развевающимся флагом
перед ним, – заложив руки за спину и оглядывая зеленые луга взглядом хозяина.
– К вам лейтенант Освальд Бельке, Herr Chef des Feldflugwesens, – обратился к нему
адъютант.
Полковник благосклонно кивнул.
Знаменитый ас вернулся на фронт после отпуска. Он заслужил эту передышку – к началу
лета шестнадцатого года Бельке сбил уже девятнадцать самолетов противника. Во всяком
случае, так значится во всех официальных рапортах.

Очень хорошо. Фатерланду нужны герои.
– Господин полковник, – обратился к командующему Бельке, – я изложил свои
соображения письменно... Но, боюсь, как боевой летчик я не слишком хорошо владею
пером...
– Не прибедняйтесь, – улыбнулся фон дер Лиз-Томсен. – Уверен, вы пишете так же
метко, как и стреляете. Однако я с удовольствием выслушаю ваши соображения.
Они начали прогуливаться перед палаткой.
Освальд Бельке заговорил:
– Я долго раздумывал над тем, как нам эффективнее использовать наши истребители, и
пришел к выводу: необходимо собрать их в единый кулак и использовать не только для
обороны, но и для наступления.
Командующий нахмурился.
Бельке коснулся одной из самых болезненных тем: в количественном отношении
германская авиация постоянно уступала союзнической.
Это
прискорбное
обстоятельство
диктовало
Германии,
по
необходимости,
оборонительную авиационную доктрину. Монопланы Фоккера преимущественно
занимались сопровождением двухместных самолетов-бомбардировщиков. Вступать в
единоборство с самолетами-разведчиками противника разрешалось только «в свободное
от работы время».
Другое дело – британцы. Командование их Королевского воздушного корпуса неизменно
стремилось к наступательным действиям. Англичане искали немецкие самолеты и
атаковали их, едва лишь видели.
– Мне кажется, с появлением у нас новых самолетов, бипланов «Альбатрос», мы можем
перейти к более агрессивным действиям, – настаивал Бельке.
– Как вам это представляется? – осведомился командующий.
– До сих пор истребители оставались вспомогательными самолетами, – начал объяснять
Бельке. – Мне кажется... Да что там, я убежден! – спохватился он. – Да, я убежден в
том, что мы лучше послужим отечеству, если соберем истребительную авиацию в
крупные истребительные подразделения и начнем самостоятельную охоту на врага.
– И как вы предлагаете назвать эти подразделения? – прищурился полковник. —
«Охотничьи эскадрильи»?
– Почему бы нет? – вскинулся Бельке. – Jagdstaffel – вполне подходящее
наименование. Сокращенно – Jasta. Людям должно понравиться. А кроме того, —
прибавил он, – эти подразделения могут использоваться и для обороны. Двухместные
самолеты не пострадают – истребители по-прежнему будут их сопровождать.
– Действуйте, – после короткого размышления ответил командующий. – Для этих
Jastas рекомендую отбирать наиболее агрессивных, активных молодых летчиков. И
самолеты...
Он задумался. Лучшим был, несомненно, «Альбатрос» – достойный ответ германского
конструктора Роберта Телена на вызов английских и французских аэропланостроителей.
«Альбатрос» был исключительно чистым – в отношении аэродинамики – самолетом:
плавные обводы фюзеляжа нарушали лишь выступающие между винтом и кабиной
радиаторы.
А использование двигателя жидкостного охлаждения позволило снизить лобовое
сопротивление самолета.
По маневренности этот «Доппельдеккер» вполне мог сравниться с «Ньюпором» или «Де
Хевилендом». А превосходство в скорости и скороподъемности позволит немецким
летчикам навязывать противнику условия поединка, время и место схватки.
Одним из принципов таких поединков было – стараться начать бой над территорией,
занятой немецкими войсками. Это повышало шансы немецкого летчика – в случае
аварийной посадки. И сводило на нет все шансы англичанина или француза.