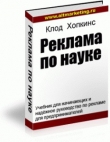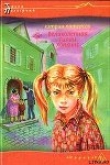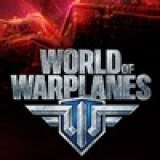
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Озерского
Май 1915 года, фронт 3-й армии, аэродром в районе Владавы
– Вы отдаете себе отчет, господин Бродович, что в настоящий, весьма острый момент
ваша отставка из Эскадры и откомандирование в легкую авиацию создаст затруднения? —
Командир Эскадры тяжелых бомбардировщиков – «Муромцев» – генерал Шидловский
говорил медленно, словно старательно подбирал слова, на ходу заменяя слишком
откровенные выражения более сглаженными.

– До сих пор я доказывал мое старание, – отвечал штабс-капитан Бродович. – Кажется,
нет причин подозревать меня в...
– Вас никто не подозревает «в»! – резко перебил Шидловский. – Кем вас заменить, вот
вопрос?
– Могу предложить поручика Озерского, – сказал Бродович. – Недавно окончил
Гатчинскую авиашколу. На «Муромце» уже летал – буквально со второго полета
самостоятельно. Прекрасно управляет кораблем.
– Я отстраняю вас от командования кораблем как не справившегося со своими
обязанностями, – устало произнес Шидловский. – Можете идти. Желаю успехов на
ином поприще.
Причин перехода Бродовича в малую авиацию из Эскадры могло быть несколько, но
главной из них оставалась карьерная: великий князь Александр Михайлович, которому
была подчинена российская авиация, упорно не жаловал большие корабли Сикорского.
Впрочем, летчики «Муромцев» не допытывались до побуждений Бродовича. Озерский не
просто «заменил» его – он был как будто предназначен для полетов на тяжелом
бомбардировщике.
20 июня 1915 года, район Люблина

Первый полет в качестве командира корабля.
Дмитрий Алексеевич Озерский смотрел, как грузят на борт бомбы: пять пудовых,
осколочные, в последний раз проверяют пулеметы. Фотооборудование уже установлено.
Осталось залить бензин и масло на три часа полета.
Второй «Муромец» – под командованием поручика Башко – заправлялся поблизости.
Это был знаменитый «Илья Муромец Киевский» – на нем за три недели до войны
строитель русских «богатырей» Игорь Сикорский со своими соратниками и
единомышленниками летал из Киева в Петербург. Теперь «Киевский» воевал, как и все
остальные.
Озерский не сомневался: в бою он не уронит чести «Муромца».
Вместе с Башко он вылетал бомбить. Воздушные «богатыри» двинулись к Демблину и там
обнаружили на станции скопление противника и поезда. С высоты свыше двух верст
сбросили несколько бомб, а затем открыли пулеметный огонь.
Сверху видно было, как станцию заволокло дымом взрывов. Это зрелище – если
отвлечься от того, что оно означало смерть для десятков людей, – было завораживающе-
красивым. У Озерского, наблюдавшего сверху через люк, захватывало дыхание. Такого
восторга он не испытывал еще никогда в жизни.
На Висле видно было, как противник навел переправу. «Муромцы» сделали заход и
сбросили бомбы, затем, описав широкий круг, вернулись, чтобы завершить дело —
сфотографировать результаты бомбежки и саму переправу. Таково непременное
требование штаба. Отдельные фотоснимки потом склеиваются в большую панораму.
Озерский видел отдельные облачка дыма, рвущиеся на земле. Это были не плывущие
туманные облака от разорвавшихся бомб; это стреляли вражеские артиллерийские
батареи.
В самом начале полетов страх наземных орудий был у пилотов велик. Казалось – что
проще, чем попасть в огромный корабль? «Точно птица над охотничьим ружьем», —
говорили нижние чины.
Но «Муромец» брал высоту в две с половиной версты. Для артиллерии это оставалось
пока что слишком далеко.
6 июля 1915 года, район города Холм
Немецкие летчики-истребители слушали приказ.
– У русских есть новое оружие – большие корабли! – говорил щеголеватый капитан,
сверкая пуговицами, Железным крестом 1-го класса и нашивками. Даже лицо его,
казалось, сверкало – таким лощеным он был.
Впрочем, слушавшие его пилоты выглядели не хуже, хотя герр гауптман прибыл из
штаба, а они – с Западного фронта. Пилот всегда должен выглядеть так, чтобы не стыдно
было показаться хоть на балу у самого сатаны!
– Мы знаем, что до сих пор было запрещено распространять слухи о невероятно
огромных русских воздушных кораблях, – продолжал штабной. – Эти разговоры сеяли
панику и возбуждали ненужные настроения. Но сейчас уже следует признать: такие
корабли имеются. Они действуют особенно дерзко на данном участке фронта. Нам
известно по крайней мере о двух таких кораблях на ближайших аэродромах. Ваша задача
– уничтожить их.
Он помолчал и закончил:
– Летчику, сбившему большой русский самолет Сикорского, назначается большая
награда.
Это подогрело азарт, и асы пустились в настоящую погоню за «Муромцами».
Южнее города Холм «Киевский» был атакован сразу тремя немецкими истребителями.
Высота головокружительная – свыше трех верст.
– Немец! – крикнул младший унтер-офицер Лавров, наблюдавший из нижнего люка.
– Далеко? – спросил Башко.
– Очень близко – футов сто пятьдесят! Ваше благородие – еще один! – прибавил
Лавров.
– К пулемету!
Немецкий истребитель обогнал «Муромца» и поднялся над ним, после чего немедленно
открыл огонь по кораблю.
Еще два наседали с бортов.
... Когда-то Сикорский настаивал на большом корабле и большом экипаже. «Вместе
отбиваться легче». Эх, далеки те дни, когда Игорь Иванович Сикорский с друзьями летал
на «Киевском», желая доказать эффективность больших самолетов для мирных целей.
Мечтал Сикорский о воздушных дорогах, не нуждающихся в ремонте, по которым будут
перемещаться огромные корабли, перевозя пассажиров, почту, необходимые грузы.
Но отбиваться вместе и правда легче.
Лавров вел огонь из карабина, штабс-капитан Наумов отвечал противнику из ружья-
пулемета «Масден» – любимая его «игрушечка», которая ни разу еще не подвела.
Оба верхних бензобака «Киевского» были пробиты при первой же пулеметной очереди
неприятельского самолета.
Командир корабля поручик Башко отвалился от штурвала. Кровь заливала ему глаза: он
был ранен в голову. Вторая рана – на ноге: Башко заметил это, когда пытался управлять
кораблем – нога не слушалась.
– Наумов, примите управление! – хрипло крикнул Башко, а сам упал на пол и закрыл
глаза. Он чувствовал свой подраненный самолет, как еще одно живое, страдающее
существо.
– Бензопроводные трубки левой группы моторов перебиты, – доложил Наумов,
наклоняясь к Башко.
– Идите на правых, – прохрипел Башко. – Должно вытянуть.
Огромный «Муромец» продолжал полет.
С левого борта налетел немецкий истребитель. Лавров встретил его яростным
пулеметным огнем. Ловко, красиво нырнув, истребитель скрылся среди облаков. Второй
немец дал сильный крен и резко пошел на снижение.
– Ага, подбит! – крикнул Лавров.
Впрочем, уверен он не был.
«Илья Муромец Киевский» продолжал полет. Башко вытирал с лица кровь, ругаясь на
родном языке – латгальском. Наумов помогал ему сделать перевязку.

– Все, идем дальше, – сердился Башко. – Этим москитам нас не остановить.
Первый немец вынырнул из облаков и пронесся слева и выше корабля. Еще одна
пулеметная очередь прошила бок «Муромца». Это был не тот «горох», которым прежде
лишь щекотали корабли, не нанося им никаких повреждений; сейчас попадания все были
серьезными.
– Масляный бак второго мотора пробит! – крикнул Лавров. И припал к пулемету.
– Приближаемся к линии фронта, – сообщил Башко. – Осталось немного, господа
офицеры. Дотянем!
Третья атака последовала уже при снижении, на высоте в полторы версты. У самой линии
фронта третий немецкий истребитель обстрелял «Киевского» и прижал его к земле.
«Киевский» садился уже на «своей» стороне, на болотистом лугу недалеко от города
Холм.
– Провалимся, – переживал Лавров.
Изнемогающая, истекающая маслом и бензином машина тяжело плюхнулась на луг. Вот
когда пригодились уроки посадки на три точки – без «козлов». Только чудом «Киевский»
не развалился.

Вытащили раненого Башко, устроились чуть в стороне от самолета.
– Небо так близко, – сказал Башко негромко. – Того и гляди немец налетит – и тогда...
Он говорил каким-то спокойным, отрешенным тоном, словно ему было все равно.
Но немцы так и не показались.
Они по-прежнему испытывали суеверный ужас перед русскими гигантами.
Вечером из двадцать четвертого авиационного полка, располагавшегося недалеко от
Холма, пришла помощь. «Киевский» был разобран – с него сняли моторы. Пилотов
отправили на аэродром в Эскадру.
– Ну что, Митя, ты пока один остаешься на хозяйстве, – сказал Озерскому Башко перед
тем, как его перевезли в госпиталь.
8 июля 1915 года, район города Холм
– Я до них доберусь! – обещал Озерский . Его недавно повысили до штабс-капитана.
Башко все еще находился в госпитале – также повышенный в звании, да еще с Георгием
за доблесть.
Озерскому не давала покоя мысль о немецких истребителях, уничтоживших «Киевский».
– Не подведем, ваше благородие! – обещали стрелки. Лететь с Озерским они, честно
говоря, втайне побаивались: больно уж лихой.
Озерский нарочно взял на корабль шесть пулеметов и двух добавочных стрелков. Он
летел не бомбить, а сбивать самолеты.
– Они у меня выскочат из гнезда, – скрипел он зубами. – Я им перцу-то на хвост
насыплю!
Немецкий аэродром был обнаружен благодаря фотосъемке с воздуха – возле местечка
Янув. Озерский сбросил туда несколько бомб и приготовился встретить истребителей, но
немцы никак не отреагировали на вызов.
Озерский вернулся ни с чем.
Август 1915 года, район станции Барановичи
– Сбить «Муромца» в открытом воздушном бою представляется мало вероятным, —
докладывали немецкие асы.
– Но вам удалось заставить один из них сесть, – напомнил им штабной офицер. Он по-
прежнему сиял и внушал уверенность в победе.
– У нас нет достоверных сведений о гибели этого корабля, – был ответ. – Возможно,
он скоро снова поднимется в воздух. Второй продолжает полеты. Предлагаем усилить
зенитную артиллерию. Это безопаснее и эффективнее.
– Наблюдения показали, что большой самолет пролетает над линией фронта
приблизительно всегда в одном и том же месте. Представляется целесообразным
сосредоточить орудия именно там.
Озерский действительно предпочитал знакомый маршрут. Он совершал разведывательные
рейды в глубокий тыл врага и оставался в воздухе до шести часов, а возвращался уже «на
автомате».
Неожиданно с земли по «Муромцу» ударили орудия.
– Снижаемся! – крикнул Озерский. – Бьем из всех пулеметов!
Гигантский аппарат буквально навис над немецкими артиллеристами и открыл огонь из
трех пулеметов. Несколько человек упали, другие побежали в укрытие. Пролетев совсем
низко над немецкой позицией, Озерский поднял «Муромца» на высоту в две версты и
благополучно вернулся на аэродром.

– Они думали, я удирать стану! – смеялся Озерский вечером, над кружкой с кофе. – А
мы снизились и дунули на них из пулеметов. Такого гороха им насыпали – бежали,
потеряв штаны!
2 ноября 1915 года, район станции Барановичи
Новый аэродром Эскадры находился в районе города Слуцка.
Русские оставили Брест-Литовский. Эскадра двинулась вслед за войсками. У Озерского
выдалась передышка в боевой работе, и он занялся чисткой моторов.
Эскадра переезжала, как «большая барыня» – с мастерскими, палатками-ангарами,
боеприпасами, с метеорологической станцией и фотолабораторией. Прошел месяц
прежде, чем Озерский снова поднялся в воздух.
– Наши цели – железнодорожные станции! – коротко сказал Озерский экипажу. —
Разделаем под орех. У немцев там скопились эшелоны, много людей и грузов.
Озерский вспоминал о том восторге, который испытал при своей первой бомбежке. Но
воспоминания эти приходили только на земле, во время отдыха. Сейчас все стало иначе:
работа, только работа. Попал бомбой – сделал работу. Промазал – не сделал работу,
нужно вернуться и исправить.
Немцы больше не высылали истребителей. Слишком дорого давались немецким асам
«Муромцы». Били артиллерией.
«Муромец» Озерского каждый раз возвращался с пробоинами. К счастью, этот самолет
быстро можно было починить и поставить в строй.
– Попали, ваше благородие! – услышал Озерский уже привычное.

Самолет толкнуло: правда, попали. Второй толчок, третий. Плохо дело. Озерский уже
сбросил восемь бомб на станцию Барановичи. Сквозь дым он видел неразбериху,
поднявшуюся на железнодорожных путях, опрокинутые вагоны, бегущие фигурки людей.
Он повернул самолет обратно и сразу почувствовал, что аппарат слушается плохо. С
тугим управлением – настолько тугим, что ноги сводило судорогой, – справились еще в
прошлом году. Тут происходило что-то иное, похуже.
Озерский осторожничал: сделал огромный круг, разворачивая самолет почти без крена.
Что-то не так было с «Муромцем», и командир корабля ощущал неполадку так, словно
сбоило его собственное сердце.
Линия фронта была уже близко. Скоро аэродром. «Муромец» начал снижение.
И вдруг корабль клюнул носом и перешел в плоский штопор.
Корабль врезался в землю возле местечка Прилуки.
С аэродрома видели падение. Но когда к «Муромцу» Озерского подбежали люди, все
было уже кончено: весь экипаж и самолет погибли.
– Фотографируй, – приказал Наумов начальнику фотолаборатории. – Пусть останется
в памяти.

В Эскадре так было заведено: каждое значимое событие, награждение ли, ранение ли,
поломка ли корабля – все запечатлевалось на фотопластинах. Остался снимок и
погибшего «Муромца» Озерского.
Шестнадцатый, вслед за «Киевским», разобрали и отправили в Петроград.
Работа первого боевого отряда «Муромцев» была закончена.
© А. Мартьянов. 17.10. 2012.
31. Эскадра: Летучая армада
16 июля 1916 года, Винница
Лейтенант Лавров показывал свой «Муромец» конструктору – Игорю Сикорскому.
– Видите? Около трехсот пробоин! Еле выбрались. Корабль практически не защищен
сзади. Раньше так можно было, потому что немцы сильно нас боялись, а теперь
попривыкли и попросту обнаглели. Заходят в хвост и бьют.
Сикорский принял критику серьезно.
– Я и сам это обдумывал, – признал он, раскладывая чертежи. – Начнем с переделки
учебного корабля и посмотрим, как он будет летать. Если пройдет удачно, переделаем и
остальные.

Сиденье стрелка было размещено в хвостовой части фюзеляжа. Там установили пулемет.
После опытного полета Сикорский внес изменения в конструкцию оперения и заменил
огромный стабилизатор бипланным. Для стрелка открылся обзор в стороны и вниз.
Придумали и особое приспособление для хвостового стрелка – тележка и рельсы.
Стрелок ложился животом на тележку, перебирал руками и быстро катился в хвост, если
ситуация того требовала.
Лейтенант Лавров первым принял корабль с задней турелью.
– Позовите Марселя! – приказал он.
Явился моторист Марсель Пльо, один из лучших унтеров Эскадры. В начале войны одно
высокопоставленное лицо прислало его в Эскадру – в качестве патриотического жеста:
Марсель служил у него шофером. До войны это было модно, шофер-арап.
Марсель Пльо был черен, как сапог, говорил по-французски, превосходно разбирался в
моторах и пулеметах и не ведал страха.
Его-то и назначили хвостовым стрелком в экипаже лейтенанта Лаврова.
Лавров вылетел – не столько на разведку, сколько ради встречи с немецкими
истребителями. Те уже поджидали большой русский аппарат и, привычно зайдя сверху,
открыли огонь.
Чего противник не ожидал, так это ответного огня с кормы. Один за другим два немецких
истребителя были сбиты. Третий не стал испытывать судьбу и ушел.
12 сентября 1916 года, район местечка Боруны
Поначалу поручик Дмитрий Макшеев был встречен в Эскадре с легким сомнением.
Московский студент, офицерский экзамен сдавал экстерном, летать учился в школе
Московского общества воздухоплавания. Но Шестнадцатый корабль Эскадры нуждался в
командире, и Макшеева приняли.
Капитан Наумов обучал артофицеров Эскадры технике применения таблиц профессора
Ботезата. Это была новая разработка, помогавшая добиться точности бомбометания.
Звучало, правда, мудрено – приходилось учитывать много переменных: баллистику
бомбы, высоту прицела при сбрасывании, скорость аппарата, направление и скорость
ветра... Но при достаточном опыте – а опыт в бою приобретается быстро, – эти
величины вводятся в расчет почти автоматически.
Далее следовало, в зависимости от переменных, найти в таблице величину угла,
установить визир прицельного прибора на этот угол и сбросить бомбу в момент
наблюдения цели через визир.
– Помните, господа, что «Муромцев» боятся не только из-за их размеров, – говорил
Наумов. – Мы бьем точно, без ошибки и наносим врагу большой ущерб.
– Важна и разведка, – подал голос полковник Башко. После тяжелого ранения он
вернулся в строй. – При позиционной войне наблюдение за малейшими действиями
противника – первоочередная задача. Так что успеваем все: бомбим, обстреливаем и
фотографируем. Работаем в братстве.
Намечалась крупная операция.
Прибыл начальник разведотделения штаба армии подполковник Бранд. Он взял слово.
– Господа! Мы намечаем удар в районе Барановичей. Именно там, согласно нашей
разведке, располагаются в теплых казармах резервы противника и части, отводимые на
отдых. Неприятная деталь: это наши казармы, которые мы оставили врагу при
отступлении... – Он помолчал, обводя глазами слушателей. – Необходимо сбить
противника с толка, чтобы он раньше времени не догадался о наших намерениях. Поэтому
решено организовать большую авиационную группу, которая нанесет отвлекающий удар.
В состав этой группы включаются: «Муромцы», двенадцать «Вуазенов» и истребители
«Моран» – все два отряда, которыми мы располагаем. Эта армада полетит одной группой
под прикрытием истребителей.

Операция была назначена на двенадцатое сентября.
– Сомнительное дело, – ворчал Башко. – В каком порядке полетит группа? Как мы
должны построиться при приближении к цели? Самолеты просто собьются в кучу, а толку
не будет.
– Вы всегда недовольны, Иосиф Станиславович, – заметил ему Макшеев. – Вот и
моторы, которые вам достались от разбившегося Озерского, вызывали ваше недоверие, а
ведь они оказались хорошими.
– Еще и Митю Озерского вспомнили! – с досадой воскликнул Башко. – Каков храбрец
был, а не вытянул. Типун вам на язык, Дмитрий Дмитриевич. Что до чиненых моторов —
им я доверяю не больше, чем леченой лошади.
Постепенно темнело. В сентябре было еще довольно тепло. На аэродроме зажгли огни.
Грузили бензин и масло на три часа полета, бомбы на десять пудов, по два пулемета на
«Муромцы».
Подполковник Бранд везде распоряжался. Он следил за каждой мелочью, во все вникал.
Ему хотелось, чтобы люди видели его заботу.
Бранд не намерен был отсиживаться в штабе – он летел с «армадой» одним из
пулеметчиков.
В семь часов утра двенадцатого сентября корабли начали вылетать и строиться в колонну
над аэродромом.
Башко поднялся до двух с небольшим верст, как привык делать, и взял курс на цель.
Почти сразу он потерял из виду «Вуазены» и «Мораны». Видел рядом Шестнадцатый
«Муромец» Макшеева – но затем Макшеев повернул назад, к аэродрому.
Один винт у Шестнадцатого оказался неисправен – стоял. Макшеев хотел починить винт
прежде, чем вступит в бой.
Башко продолжал курс. Он прошел сквозь сильный огонь зенитной артиллерии и сбросил
бомбы на деревню в два захода. С земли поднимались теперь черные клубы дыма, видны
были сквозь дым языки пламени.
– Где истребители? – нервно спросил Бранд.
Башко ответил:
– Вон, взлетают.
В воздух действительно поднимались, один за другим, кайзеровские истребители. Башко
ожидал, что сейчас они атакуют, но немцы медлили и наконец ушли в сторону.

– Я не о немцах, я о наших истребителях! – пояснил Бранд. Он следил за противником,
не отрываясь.
Ни «Моранов», ни «Вуазенов» поблизости не наблюдалось.
Башко решил действовать так, как если бы он был один.
– Макшеев! – вскрикнул Бранд радостно.
Шестнадцатый, справившись с поломкой, упорно летел к цели. Макшеев непременно
хотел сбросить свои бомбы.
Башко уже возвращался, когда наконец увидел целую тучу русских истребителей. Они
кружили на месте, а завидев «Муромца» полетели вместе с ним.
Перелетев линию фронта, весь отряд возвратился на свой аэродром. Это было около
десяти часов утра.
– Макшеев не вернулся? – спросил Бранд, когда наступил полдень.
Шестнадцатого «Муромца» все не было.
– Дайте телефонную связь с другими аэродромами! – потребовал Бранд.
Макшеев не обнаружился ни на одном.
– Вылетаю, – лаконически объявил Башко.
Он нагрузил на корабль десять пудовых бомб, установил три «Виккерса» и один «Льюис»
(«этот про запас», бросил Башко), «свистнул» двух мотористов-пулеметчиков и велел
отбить в штаб армии: «Вылетел на поиски Макшеева».
«Муромец» взлетел.
Не встретив ни малейшего признака врага, Башко долетел до местечка Боруны. Несколько
деревень поблизости уже догорало. Башко сбросил бомбы и минут пятнадцать кружил над
местностью.
Артиллерия молчала. Ни одного немецкого истребителя в воздухе.
Башко сделал еще один заход и повернул к аэродрому.
В штаб армии пришла телеграмма:
«Шестнадцатый не вернулся с боевого вылета».
14 сентября 1916 года, Ставка
Великий князь Александр Михайлович встретил рапорт подполковника Брандта о
действиях «армады» с нескрываемым неудовольствием.
– Мы должны признать полную неудачу операции смешанным отрядом, – докладывал
Бранд. – Причин тому несколько.
– Прошу вас, – великий князь сделал неопределенный жест. – Излагайте.
– Не был четко разработан план всей операции, – начал перечислять Бранд. —
«Вуазены» не улетели дальше передовых позиций. Истребители, вместо сопровождения
бомбардировщиков, кружили над «Вуазенами». Весьма существенно, что истребители не
имеют даже представления о технике сопровождения аппаратов с малой скоростью,
каковыми являются «Муромцы».
Бранд замолчал. Ему хотелось, чтобы великий князь осознал и собственную ошибку.
Александр Михайлович полагал, что нужно лишь приказать – а уж хорошие летчики
сами решат, как поступать им в бою.

– У штаба не имелось представления об организации полета смешанной группы с
различными тактическими данными, – продолжал после выразительной паузы Бранд. —
Мы необоснованно полагали, что если «Вуазены» полетят вслед за «Муромцами», то
выполнят задачу и сбросят бомбы на немецкий штаб. Но этого не произошло. В
результате мы потеряли один аппарат с экипажем и один «Вуазен».
– Потери германцев? – сухо спросил великий князь.
– По нашим данным, у них сбит один истребитель. Важно другое: лишь «Муромцы»
выполнили задачу и разрушили местечко Боруны. Остальные самолеты цели не достигли.
О судьбе штаба немецкой дивизии ничего не известно. Полагаем, штаб уцелел.
Великий князь произнес:
– Я лично займусь выработкой рекомендаций по действиям смешанных групп.
...Впоследствии начальнику Эскадры генералу Шидловскому придется долго доказывать
несостоятельность этих рекомендаций. Великий князь хотел отвести «Муромцам» —
тихоходным и тяжело вооруженным, – роль сопровождения легких бомбардировщиков
– «Бреге» и «Вуазенов»...
18 сентября 1916 года, аэродром, район Минска

– Видели газету? – спросил у Башко лейтенант Лавров. – Ту, немецкую? О ней все
говорят. Лежит в штабе. Почитайте. Там и фото имеется.
Газету передали из пехотного полка, с передовых позиций. Ее подбросили немцы из своих
окопов.
Она была испачкана землей и, казалось, сохранила запах пороха и крови. Среди прочих
материалов выделялась фотография большого русского креста с немецкой надписью:
HIER RUHEN 4 RUSSISCHE IM LUFTKAMPF GEFALLENE FLIEGER + 25.9.1916
«Здесь покоятся четыре русских летчика, погибших в воздушном бою».
Дата указана по европейскому стилю.

«Наш отряд истребителей в районе местечка Боруны после непродолжительного боя сбил
большой русский аппарат Сикорского, – писал автор заметки. – После удачной
пулеметной очереди с одного из наших истребителей русский аппарат загорелся и рухнул
на землю. В аппарате найдены четыре обгоревших трупа офицеров-летчиков. В этом бою
мы потеряли один истребитель. Погибших храбрых авиаторов похоронили в общей
могиле с воинскими почестями».
– Авиационное братство, – сказал Башко, складывая газету с изображением могилы
Макшеева и его экипажа. – Они хоть и немцы, а тоже авиаторы и знают, что такое честь.
© А. Мартьянов. 17.10. 2012.
32. Последний «Муромец»
27 февраля 1917 года, Винница
«Царь отрекся».
Телеграмма из Ставки вызвала среди офицеров Эскадры настоящее смятение.
Вот уже полгода как Эскадра больших воздушных кораблей «Илья Муромец»
размещалась в Виннице.
Винница подходила как нельзя лучше: оттуда корабли могли перелетать на базы боевых
отрядов, расположенных в пределах Юго-Западного и Румынского фронтов.
Недалеко от железнодорожной станции имелся большой завод очистки, сортировки и
селекции семян сахарной свеклы. Завод не работал с начала войны. Его-то строения и
были переданы Эскадре.
От станции к заводу тянулась дорога, обсаженная тополями, а за дорогой расстилалось
поле – готовый аэродром.
Здесь учили новых летчиков, чинили и усовершенствовали самолеты, готовились к
военной работе.
И вдруг – отречение царя!
«Просим гг.офицеров сохранять спокойствие и ждать распоряжений».
Старший механик Эскадры, морской офицер лейтенант Михаил Никольской немедленно
отправился к себе в моторную мастерскую.
– Команда! Стройся! – прозвучал приказ.
– Что случилось-то? – Люди нехотя бросали работу, выходили строиться.
Лейтенант обвел их взглядом.
– Друзья! – заговорил он. И помедлив поправился: – Товарищи!
Это обращение было принято на флоте задолго до революции...
– Товарищи! – голос Никольского окреп. – Из Петербурга сообщают, что Николай
Второй отрекся от престола. Мы теперь свободны!
Поднялся шум.
Никольский повысил голос:
– Царя нет, но осталось отечество! Работу будем продолжать по-прежнему.
Расходились ошеломленные, кто-то смеялся, кто-то покачивал головой. Никольской
пошел распорядиться, чтобы выдали умеренно водки.
К вечеру из Винницы отбыл на автомобиле помощник начальника Эскадры – генерал-
майор Войнилович-Няньковский.

– Скатертью дорога! – сказал Никольской. – Не зря солдаты его не любили. Куда он
отправился?
– Должно быть, в Москву, – ответил лейтенант Лавров. Хмыкнул: – Боится. Многие
теперь будут бояться.
6 марта 1917 года, Винница
– Горим!
Крик прорезал ночь.
Люди вскакивали с кроватей, бежали на зарево.
Пылал главный склад Эскадры.
Из окон, из дверей выбрасывали все, что попадалось под руки, – винты, оружие.
– Кузнецов, убьешься! – закричал Никольской, увидев, как унтер-офицер Кузнецов
исчезает в пылающем дверном проеме.
В одной из комнат раздалась стрельба.
– Ребята, уходим! Бросай все, уходим! До пулеметов с патронами дошло!
Никольской отгонял людей от склада чуть ли не штыком:
– Убьетесь! Патроны рвутся!
– Все же сгорит, ваше благородие! – рыдал Кузнецов.
К утру пожар поутих, но не остановился. Подходить к зданиям было опасно, старший
лейтенант Лавров поставил караул, чтобы отчаянные головы не лазили.
На второй день пожар окончательно потушили.
– Сгорело больше половины имущества! – докладывал Лавров.
– Моторы, моторы целы? – вопрошал начальник Эскадры генерал Шидловский.
– Моторы целы, – сообщил Никольской. – Они у меня были, в моторной мастерской.
Усугублялось положение тем, что ни причина возникновения пожара, ни возможные
виновники поджога установлены не были.
5 мая 1917 года, Винница
Из Петрограда неожиданно пришел приказ от военного министра Гучкова:
«Эскадру воздушных кораблей сохранить в полной боевой готовности! Начальника
Эскадры генерала Шидловского, считая его деятельность вредной, уволить в отставку».
– Прощайте!
Шидловский сдал командование вновь назначенному полковнику Горшкову.
Вместе с Шидловским отбывал в Петроград и создатель больших воздушных кораблей —
Игорь Сикорский.
Его друзья и однокашники – старший лейтенант Лавров, лейтенант Никольской —
оставались в Эскадре.
– С этой революцией путного не будет дела, – предрекал Сикорский. – Вряд ли
свидимся.
В последний раз обнял он Лаврова и Никольского. Как в воду глядел – развела их судьба
навеки.
28 апреля 1917 года, местечко Микулинцы
– Старший лейтенант Лавров, вам поручается подвергнуть бомбардированию резервы
противника в районе Галича. – Такой приказ получил летчик-командир «Муромца» Петр
Георгиевич Лавров.
Погрузили десять двадцатипятифунтовых осколочных бомб. На борту имелись два
пулемета и два ящика стрел – тяжелых заостренных болтов, которые разбрасывали над
расположением врага.
Лавров сразу поднял «Муромца» на три тысячи метров.
Это было необходимо – ужас немцев перед летающей махиной притупился, и их батареи
бойко обстреливали русские воздушные корабли.
Мотористы наблюдали за полетом «Муромца».
– Что-то не то, – вдруг сказал унтер-офицер Кузнецов.
И правда – происходило «что-то не то»: неожиданно «Муромец» стал пикировать,
перешел в штопор... Моторы гудели невероятно, звук казался запредельным.
И тут от корабля стали отваливаться куски... Махина рассыпалась прямо в воздухе.
Все бросились к падающему самолету.
Катастрофу видели и из местечка, оттуда примчались люди, подъехала машина с
фельдшером. Врачам пришлось пробиваться сквозь толпу...
Солдаты и врачи разбрасывали обломки, надеясь найти хоть кого-то живым.
– Кузнецов, разгони толпу, мешают! – прошептал Никольской на ухо унтеру.
Бравый Кузнецов гаркнул:
– А ну, разойдись! Бонбы! Щас рванет!..
Люди бросились наутек...
– Где фотограф?
По правилам Эскадры, фотографировали абсолютно все события, происходившие с
большими воздушными кораблями.
Пришел фотограф, снял обломки самолета и трупы: поручика Витковского около
изуродованного штурвала, лейтенанта Шокальского, старшего лейтенанта Лаврова...
Живых не было.
Вечером на стол полковнику Горшкову лег отчет.
Предполагали причиной катастрофы недостаточную опытность поручика Витковского:
очевидно, он вел корабль и на вираже допустил скольжение – растерялся, не выключил
моторов, и корабль вошел в штопор...
– Как же, «недостаточная опытность», – сказал сам себе Михаил Никольской. – Легко
на покойника валить. Там же находился Лавров. Он бы спас ситуацию, если бы мог. Это
был лучший летчик из всех. Саботаж, вот что это было.
Июнь 1917 года, Винница
– Ваше благородие, письмо!
Михаил Никольской распечатал конверт, пробежал глазами написанное, смял, отбросил.
Все то же самое. На фронтах – развал: братание с немцами, после чего мешок за спину —
и домой, «в родную деревню». Как в таких условиях сражаться?
Эскадра продолжала выполнять приказы командования, но сейчас становилось очевидно
– пользы в этом нет никакой.
Австрийцы приближались к старой государственной границе. Требовалось немедленно
вывозить имущество Эскадры.

– Часть придется сжечь, – вслух произнес Никольской.
Он сжал кулак. Жечь самолеты!.. Вот уж не думал, что до такого дойдет.
На центральной базе Эскадры в Виннице создан был комитет. Рассматривались «текущие
моменты».
В основном дебатировали вопрос о продолжении войны. То и дело можно было слышать
голоса: «Пора перестать проливать кровь рабочих и крестьян в интересах