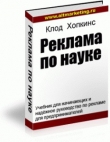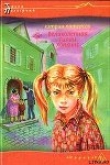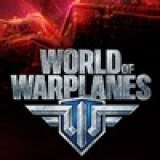
Текст книги "Легенды авиаторов. Исторические рассказы"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Попробуем так.
Первое испытание не прошло.
15 августа 1923 года, Москва, Ходынка
Наконец свершилось! Арцеулов поднял самолет.
Поликарпов прикусил губу. Волнение было слишком сильным. Машина летит!
Миг спустя восторг сменился ужасом.
ИЛ-400 круто полез вверх. Было очевидно, что Арцеулову не удается перевести аппарат в
горизонтальный полет.
Константин Константинович отдал вперед до упора ручку управления. Не помогает. «Так,
– подумал он, стараясь сохранить хладнокровие, – сейчас мы с самолетом будем
падать... Лучше уж пусть высота будет поменьше».
И он убрал газ.
ИЛ-400 повалился вниз с высоты в двадцать метров. Он так и падал с задранным носом,
норовя свернуться на крыло.
Арцеулов смог добиться лишь одного: чтобы самолет парашютировал по возможности
плашмя.
Затем все рухнуло.
Летчик пробыл в воздухе всего двадцать одну секунду.
К обломкам подбежали люди.
– Жив!
Переломаны правая рука и левая нога, ушибы покрывают тело, но жив...
Через несколько дней в больницу к Арцеулову пришли Поликарпов и Косткин.
– Как себя чувствуете, Константин Константинович?
Из-под бинтов донеслось:
– Ну так похоже, что вес хвоста ничем не уравновешен...
– Будем проводить испытания в аэродинамической трубе МВТУ, – обещал Поликарпов.
– Почему сразу не?.. – Арцеулову трудно было говорить, но Поликарпов его понял.
– Видите ли, Константин Константинович, у меня... гм... не очень хорошие личные
отношения с Туполевым, а он, как известно, представляет ЦАГИ, и от него зависит...
– Самолет важнее, – сказал Арцеулов.
– Совершенно с вами согласен, – кивнул Поликарпов, – и... Когда мы доработаем
истребитель, вы согласитесь его испытывать?
– Естественно, – ответил Арцеулов.
18 июля 1924 года, Ходынка

Новый самолет сильно отличался от старого. Масса его со всей нагрузкой была, как
указано, 91 пуд. (Переход с пудов на килограммы давался не без труда).
Кабина пилота была сдвинута вперед, носовую часть сделали более обтекаемой, крыло и
оперение были увеличены, а их обшивка выполнена из дюралюминиевого гофра.
Использовался металл и для изготовления нервюр.
И этот самолет взлетел нормально.
Небольшой перелет по прямой. Хватит. Арцеулов благополучно посадил самолет и вышел
под гром оваций. Он все еще хромал после травмы.
– Можно устанавливать вооружение и пробовать дальше, – сказал Константин
Константинович. – Думаю, военным самолет понравится.
31 марта 1926 года, Ходынка
Военным самолет понравился.
Работы над истребителем-монопланом продолжались. Была построена первая серийная
машина.
Крыло вновь стало деревянным с фанерной обшивкой.
Моноплан теперь называли И-1. Для понятности.
Истребитель номер один. Вот так.
Летчик-испытатель Филиппов с удовольствием работал над этой машиной. Она
представлялась ему удобной во всех отношениях. Немного опыта – и все будет отлично.
...Взлет. Все уже привычно. Самолет слушается, выполняет фигуры высшего пилотажа...
Теперь – низкий скоростной проход над аэродромом...
И-1 врезался в землю.
Погибли двое: летнаб Михайлов и летчик-испытатель Филиппов.
Прибыла карета «скорой», затем явилась комиссия.
Поликарпов ждал результатов.

Когда бумага легла к нему на стол, конструктор выглядел бледнее этого листка.
«Производственный дефект при склейке крыльев».
Это звучало приговором. Техническая секция Авиатреста поставила под сомнение
прочность крыла истребителя вообще. Испытания было рекомендовано прекратить. И
отчитаться в затраченных суммах.
– Будем строить бипланы, – таков был окончательный вывод. – Моноплан ненадежен и
мало перспективен.
Неудача.
А ведь проект обещал так много!.. Поликарпов мрачно смотрел на бумагу. А в глубине
души зрела уверенность: он был на правильном пути. И рано или поздно на этот путь
вернется. Нужно время, чтобы все пересчитать, испытать и прийти к окончательным
выводам. Время есть.
© А. Мартьянов. 15.12. 2012.
38. Приручение «англичанина»
7 августа 1917 года, Москва, завод «Дукс»
Революционные события в Петрограде докатывались до Москвы волнами.
Главный инженер завода «Дукс» сердился:
– Из-за всей этой неразберихи черт знает что происходит на производстве! Мы не можем
отвлекаться на митинги и прочую болтовню, когда главное дело не делается – самолеты.

– Главное – свобода! – говорили ему инженеры, ходившие с огромными красными
бантами.
– Кто будет ее защищать, эту свободу, когда самолетов нет? – звучало резонное
возражение.
Переговоры с англичанами о самолете DH4 велись еще царским правительством.
Сэр Джеффри Де Хэвиленд построил, что и говорить, первоклассный самолет —
многоцелевой армейский биплан.
Самолеты Де Хэвиленда применялись для дневных налетов, для разведки и
бомбардировки, даже для морских операций в прибрежных водах. Скорость они
развивали немалую, вооружены были до зубов, поэтому использовались и как
истребители.
Россия тоже хотела такой самолет. Наконец – уже Временному правительству – удалось
уломать союзников, и в середине семнадцатого года англичане обещали России пятьдесят
самолетов.
Попутно велись разговоры и о закупке лицензии.
И вот англичане сподобились – что-то прислали. Нет, не самолеты. Комплект чертежей и
конструкторской документации. Правда, неполный.
Придется поднапрячь российский гений, но не впервой же. Все равно предстоит
подгонять самолет под наши условия: англичане-то строят его из своих материалов, а у
нас, небось, таких и нет.
Только вот когда всем этим заниматься?.. Революция ломает все планы.
16 сентября 1918 года, Москва, завод ГАЗ №1 (бывший «Дукс»)
– Товарищ Поликарпов, вам предстоит важное дело для Республики: нужно изучить
документы, присланные английскими товарищами, и приступать уже к строительству
самолетов.
– Вы эти документы видели? – сердился Поликарпов на комиссара, прибывшего лично с
поручением.
– Если бы и видел, – не растерялся комиссар, – то что бы понял? На то вы у нас спец,
чтобы разобраться что к чему и выполнить задание Республики.
– Ладно, вот вам ситуация вкратце, – сказал Поликарпов. – Комплект чертежей
неполный. Образца самолета нет. А он нам необходим – для наглядного изучения и
съемки эскизов тех деталей, на которые отсутствует документация.
– Так революция же, товарищ дорогой! – Комиссар развел руками. – Сам понимаешь.
– Понимаю, – угрюмо согласился Поликарпов. – Сделаем.
– А самолет я тебе попробую добыть, – обещал комиссар.
Поликарпов возглавил Технический отдел ГАЗ № 1. Именно на этот коллектив легла
основная нагрузка.
Легко сказать – самолет для Республики!
Предстояло в полном смысле слова приручить «англичанина».
Десятки их сражались сейчас на стороне беляков и интервентов.
Несколько были захвачены бойцами РККА.
Самолеты эти летали с разными двигателями – американским «Либерти», Сидлей
«Пума», «Фиат А-12».
Предстояло решить первый и самый главный вопрос: с каким двигателем строить русский
DH-4?
Решили для начала остановиться на «Фиате» – просто потому, что таковые имелись на
складах. Потом, когда дело пойдет на лад, можно будет запустить на наших заводах
производство моторов «Либерти».
– К середине девятнадцатого года управитесь, товарищи?
– Постараемся, – обещал Поликарпов.
2 июня 1920 года, Ходынка
Первый полет советского ДеХ-4 – так называли DH-4 теперь.
Николай Николаевич Поликарпов выглядел до странного спокойным.
– Можно лететь, товарищ Поликарпов! – доложил летчик Горшков.
Конструктор пожал ему руку, кивнул.
– Действуйте.
«Сюрпризов» не произошло – самолет полетел. За двадцать три минуты набрал высоту
три тысячи метров. Развил скорость приблизительно в сто пятьдесят километров в час.
Можно летать и сражаться.

Можно продолжать работу над новыми конструкциями самолетов.
20 июля 1922 года, Москва, ГАЗ №1
Поликарпов просматривал свой доклад для Главкоавиа.
Было выпущено 66 самолетов DH-4. И это не английские, это русские самолеты, во
многом спроектированные заново – под наши условия, наши технологические
возможности и наши материалы.
Да, самолет создавался в спешке военного времени. Поликарпов подчеркнул это в
докладе.
Ему постоянно приходилось производить перерасчеты.
Взять хотя бы тот материал, из которого англичане строили свой самолет, —
американскую приморскую ель. Показатели прочности у нее наилучшие, сучков
практически нет. Однако импортировать ее в Россию представлялось нецелесообразным.
Поэтому конструкцию самолета «приспособили» под сибирскую сосну.
На изготовление стоек бипланной коробки пошел клееный пиломатериал, стойки затем
обматывались пропитанной клеем полотняной лентой.
Но больше всего проблем доставляли статически неопределимые конструкции – то есть,
такие, которые при расчете имели множество допустимых решений.
Неполный комплект документации в ряде случаев не позволял вести пересчет силовых
элементов. Изменяя конструктивную схему, Поликарпов делал их статически
определимыми.
На самом деле русский ДеХ-4 был практически новым самолетом – по сравнению со
своим английским «предком». Правда, внешне это различие почти не улавливалось.
А англичане-то хитрецы... Участвовали в интервенции, поддерживали белых, а потом
резко начали помогать Советам.
В принципе, все просто: они надеялись, что большевистская Россия будет слабой. Мысль
этих заматерелых империалистов лежала на поверхности.
Да как бы сами себя не обхитрили!
А пока – очень хорошо, что начали помогать. Естественно, как бы полуофициально.
Для начала прислали сорок DH-9 – изрядно потрепанных, хоть и после ремонта. Правда,
без двигателей.
Двигатели поставила Швеция – десятки «Мерседесов» были вывезены из Германии
контрабандой и «сплавлены» в Советскую Россию.
А в мае 1922 года, уже по вполне легальному контракту, открыто заключенному в
Великобритании, было обещано доставить Советам аж один DH-9 с двигателем Роллс-
Ройс «Игл» и двадцать – с двигателем «Пума»...
Все это позволит лучше изучить успешный английский самолет.
Но Поликарпов был убежден: это только начало и полумера. Нужно строить собственный
самолет. Не приспосабливать чужака к российским условиям, а выращивать, как
говорится, в собственных рядах.
Об этом он и писал в своем докладе.
Очень понятным, простым и сухим языком.
25 августа 1922 года, Москва, завод ГАЗ № 1
Совещание шло уже второй час.
Все устали.
Это было семнадцатое совещание на Государственном Авиационном Заводе.
Представители ВВС, дирекции, инженеров – все сидели красные, взволнованные.
Было жарко. Окна стояли нараспашку, но горячий воздух, проникавший с улицы, не
приносил никакого облегчения.
Наконец выступил Поликарпов.
– Товарищи, мы все понимаем, какое важное решение было принято. Организация
серийного производства ДеХ-9 в наших условиях необходима. Многие считают, что ДеХ-
4 и ДеХ-9 – практически одна и та же машина, но это ошибочное мнение. Самолеты эти
– разные! И поскольку ДеХ-9 обладает лучшими характеристиками, конечно, правильно
сосредоточиться именно на этом самолете.
Он перевел дыхание.
– Думаю, необходимые чертежи при раздаче работы техническому персоналу завода на
сдельных условиях могут быть выпущены в сравнительно короткий срок.
– Конкретно! – подал голос один из инженеров.
– В течение месяца, – ответил Поликарпов.
Раздались крики:
– Невозможно!
Поликарпов обвел собравшихся глазами:
– Когда мы работали над ДеХ-4, мы уложились в месяц. Не вижу, почему бы нам не
повторить этот опыт, – довольно резко произнес он и тут же добавил: – Естественно,
подобная работа, проводимая во внеурочное время и крайне интенсивная, должна быть
оплачена соответствующим образом.
– Что-то еще? – спросил красвоенлет, представлявший интересы ВВС на этом
совещании.
– Нужен самолет, хотя бы один образцовый ДеХ-9, чтобы снять эскизы, – сказал
Поликарпов. – В деле с ДеХ-4 мы так и не добились обещанного.
– Война, – развел руками красвоенлет.
– Я предлагаю, товарищи, думать чуть-чуть дальше одной военной операции, – отрезал
Поликарпов. – Мы создаем Рабоче-Крестьянский Воздушный Флот. Он будет защищать
небо над Республикой. А строить нам приходится с нуля. В случае с ДеХ-4 у нас имелась
документация, хотя бы частичная. В случае с ДеХ-9 документации нет вообще. Все, что
мы можем, – это скопировать самолет.
Поликарпов лукавил.
Копировать самолет без чертежей не получится.
Ему предстояло создавать новый самолет. Похожий на ДеХ-9, но все-таки абсолютно
другой. Сейчас в Советской России уже начали выпускать моторы «Либерти». Именно
под этот мотор и следовало проектировать самолет.
– Да, и еще, – сказал он под конец. – Я предлагаю переформировать вверенный мне
Технический отдел в конструкторское бюро, что позволит увеличить его численность и
освободить конструкторов от необходимости заниматься вопросами производства
велосипедов.
Бывший «Дукс» по-прежнему числил в своей продукции не только самолеты...
23 февраля 1923 года, Москва
Технический директор ГАЗ № 1 – Дмитрий Павлович Григорович – пожал Поликарпову
руку.
– За «хозяйство» не беспокойтесь, Николай Николаевич, – сказал он. – «Разведчик
Первый» полетит в срок.
Они называли свой самолет уже не ДеХ-9, а Р-1 – «разведчик-1». По большому счету, это
действительно был совсем другой самолет, более простой и в какой-то степени более
эффективный.
Поликарпов переходил в конструкторскую часть Главкоавиа.

Май 1923, Москва, Центральный аэродром
Р-1 полетел.
И опять никаких «сюрпризов». Машина работала исправно.
– У него другие очертания, – заметил один из красвоенлетов. – Крыло не такое, как у
ДеХ-9.
– Правильно, – подтвердил Григорович. – Я предоставлю всю документацию, но вы
уже на глаз видите, что это другой самолет. Копировать не было смысла – мы бы не
сумели построить точно такой же. Началось, собственно, с фермы фюзеляжа ДеХ-9: она
представляла собой статически неопределимую конструкцию. Николай Николаевич
перепроектировал фюзеляж. Далее, Площадь большого лобового радиатора была
уменьшена почти в пять раз, что сделало охлаждение двигателя более приемлемым для
климата России.
– Республика большая, – нахмурился красвоенлет. – Сейчас нам как раз понадобятся
самолеты на южных рубежах.
– Это тоже продумано, – заверил Григорович. – Предусмотрена установка небольшого
приставного радиатора под двигателем. Это позволит эксплуатировать самолет в условиях
повышенной температуры. Дальше смотрите. Крыло. Вы это уже заметили. Во время
империалистической войны у крыльев английских самолетов были сравнительно тонкие
профили с заостренным носком. При выходе на большие углы атаки на верхней
поверхности такого крыла быстро развиваются срывные явления. Ошибка летчика – и
самолет срывается в штопор. Мы применили более толстый профиль с закругленным
носком, что существенно облегчит пилотирование. А вообще – этого не видно, – Р-1
имеет на тридцать процентов меньше деталей, чем «английский предок». Он куда проще.
А полезная нагрузка у него, между прочим, выше почти на центнер. Вот и считайте.
– Что считать, летать надо! – отозвался красвоенлет.
Скорость Р-1 развивал больше, чем ДеХ-4 – свыше двухсот километров в час.
– Годная машина, – к такому выводу пришли ВВС.
Новый самолет «звезд с неба не хватал», но дело свое «знал» хорошо.

Почти десять лет трудяга Р-1 использовался красвоенлетами для самых разных целей —
разведки и корректировки артогня, в качестве легкого бомбардировщика и штурмовика,
для подготовки гражданских и военных летчиков, морского патрулирования, связи,
буксировки мишеней, доставки почты...
© А. Мартьянов. 17.12. 2012.
39. «Гладиатор»: свастика, звезда и снова
свастика
27 мая 1937 года, Англия, авиационная база Хакклкоут
С утра на базе было неспокойно. Сразу после одного телефонного звонка и началось:
многозначительные хождения секретарей с папками, чуть более раздраженные офицеры,
чуть более торопливые механики.
– Да что происходит? – поинтересовался сержант Барнс.
Ответом ему было пожатие плеч.
Но слухи расходятся быстро, и скоро уже стало известно со всей определенностью:
ожидается делегация из Латвии.
– Латвия? Это где такое? В Азии?
– Карликовая страна на Балтийском море, сэр.
– А они-то что у нас забыли?
– О, это чрезвычайно просто, сэр: они хотят посмотреть наши самолеты.
Делегация из Прибалтийской страны прибыла около полудня: один таинственный
военный и несколько штатских. Военный был типичным представителем армейского

«племени»: подтянутый, суховатый, чуть высокомерный. На лицах штатских читалась
растерянность, которую они тщетно пытались скрыть.
Не слишком богатая Латвия желала приобрести за границей хорошие современные
самолеты для своих ВВС. Недавно удалось сколотить подходящую для этой цели сумму
– аж 120 тысяч фунтов стерлингов в пересчете на британские деньги.
Способ, которым добились этого латвийские военные, удержать в секрете никто и не
пытался – бесполезно: это был выигрыш в лотерею.
Теперь они очень боялись совершить невыгодную сделку. Это вам не русские, которые
вынимали из необъятных галифе слитки золота или пачки стофунтовых банкнот и могли
себе позволить ошибиться. Неизвестно, правда, что потом происходило с теми, кто
допускал подобные ошибки, но Советский Союз в любом случае не чувствовал себя
обедневшим.
Другое дело – маленькая Латвия. Здесь надо действовать наверняка.
Латвийская делегация уже ознакомилась с самолетами нескольких фирм, в том числе
«Хаукер» и «Глостер». «Гладиаторы» вызвали интерес.
Механик сержант Барнс был призван продемонстрировать машину на земле.
Барнс подходил для такой роли как нельзя лучше: он выглядел типичным англичанином, с
рыжеватыми волосами и ясными голубыми глазами, машину знал и любил и не лез в
карман за словом. Произношение у него, правда, отнюдь не оксфордское, но вряд ли
латвийская делегация обратит на это большое внимание.
– Как вы можете видеть, – соловьем разливался Барнс, – данный самолет, который мы
называем «Гладиатор Mk I», существенно отличается от своего предка, который мы
называем «Gloster SS.37». Как вам уже объясняли, в тридцать четвертом фирма «Глостер»,
– он чуть поклонился, – вошла в состав концерта «Хоукер», усилия были объединены, и
в результате появился этот совершенный самолет.
Механик одарил чудо техники долгим, любящим взором.
– В чем же, спросите вы, различие? – продолжал он. – Первое и главное – это,
разумеется, двигатель: «Меркурий IV» в 530 лошадиных сил заменен более совершенным

«Меркурием IХ» – в целых 830 лошадиных сил. Изменено крыло. Ну и закрытая кабина.
На «Глостере» она была открытой. Кстати, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что
«Гладиатор» – первый истребитель королевских ВВС с закрытой кабиной.
Латвийцы переглянулись, посовещались.
Начальник летчиков-испытателей флайт-лейтенант Сейер спокойно продолжил после
замолчавшего механика:
– На этом самолете я налетал свыше двухсот часов. – Он пожал плечами: – Честно
говоря, лучше летать все же с открытой кабиной, чтобы не скапливались выхлопные газы.
Опять же, многие наши пилоты любят выкурить во время полету сигару... Хотя об этом
мы, разумеется, не докладываем начальству. – Он негромко засмеялся с истинно
британской сдержанностью.
Латыши внимательно смотрели, как готовят самолет к вылету, как он разгоняется и
отрывается от земли. Следили за его полетом в небе.
Наконец было подписано соглашение. Латвия решилась: она заказала двадцать шесть
«Гладиаторов», вооруженных четырьмя пулеметами «Виккерс» калибра 7,7 миллиметров.
13 марта 1938 года, Латвия, район Шпильве
Англичане наконец доставили обещанные самолеты. Машины прибыли морем. Пока
производились денежные расчеты и окончательно закрывались контракты, летчики
осваивали технику.
Капитан Янис Балодис с гордостью осматривал свою эскадрилью – одну из двух,
укомплектованных английскими самолетами.
Правда, «сосед» и брат – капитан другой эскадрильи «Гладиаторов», капитан Николайс
Балодис, – получил уже все тринадцать машин, а Янис – только шесть. Остальные
придут позднее. И все равно – как красиво и грозно стоят они в ряд на аэродроме, на
крыльях – красные свастики на фоне белого круга – опознавательный знак Латвийских
ВВС.
– На взлет!
Этап ознакомления с машинами позади, теперь – только летать.
Один за другим, сверкая алыми свастиками, «Гладиаторы» поднимались в небо.
Держать строй не получалось. Впрочем, англичане тоже об этом не заботились – летали
каждый, как умел. Старались держаться тройками, но если пускались в преследование —
то действовали и в одиночку.
Один из самолетов поднялся выше. Балодис прищурился, чтобы разглядеть номер.
Слышно было, как напрягается мотор: видимо, летчик пытался разогнать машину,
посмотреть, может ли она дать скорость больше, чем заявлено.
Так и есть, это Янис Карклинс. Вечно он...
Послышался отчаянный ревущий «вскрик» падающего самолета: «Гладиатор» пикировал
к земле. Спустя короткое время прогремел взрыв.
Первая авария.
7 июля 1938 года, район Даугавпилса
Полеты на «Гладиаторах» продолжались.
Англичане не зря высоко оценили эту машину. Было в ней что-то особенное.
Накануне вечером сержант Спрингис задумчиво рассуждал:
– Может быть, этот английский биплан – не самый современный, не самый
быстроходный. Но я понимаю, как можно его любить.
Он чуть повысил голос, перекрывая негромкие смешки своих собеседников:
– Да, любить! В нем заключено какое-то благородное безумие...
В Латвии, где самый янтарный воздух, казалось, пропитан волшебством, эти слова не
звучали абсурдом.
Утром предстоял очередной тренировочный вылет.
Спрингис поднял «Гладиатор». Кабина осталась незакрытой – по совету английских
летчиков.
Сначала шел в тройке, потом оторвался. И тут сержанта прошибло холодным потом:
топливо заканчивалось. Нужно садиться, и садиться срочно.
«Черт! Где это я?» – подумал он, но как-то отстраненно, словно речь шла о совершенно
постороннем человеке.
Садиться срочно. Срочно.
Подходящее поле заросло высокой травой, ромашки гнулись под ветром. «Гладиатор» сел
– успешно, хотя и не слишком ловко, пару раз подпрыгнул и остановился на краю поля.
Спрингис откинулся на спинку кресла, перевел дыхание. Снял шлем. Выбрался из
самолета.
Кругом – раздолье, холмы... и ничего более.
– Эй, товарищ! – послышался позади него строгий голос. – Что это ты тут делаешь?
Деревенские говорят, самолет какой-то приземлился...
Сержанта пробрала дрожь. Голос говорил по-русски.
18 августа 1938 года, Даугавпилс
Спрингис вышел из машины.
Командир, капитан Николайс Балодис, встретил его холодно, сдержанно.
– Как тебя угораздило? – спросил он.
Сержант опустил голову. Он знал, что за самолет, оказавшийся на территории СССР,
пусть и случайно, дипломатам Латвии пришлось серьезно сразиться с представителями
советской власти. Советы в конце концов уступили. Не такое уж сокровище этот
одиночный «Гладиатор».
Латыши пошли дальше и попросили вернуть и пилота.
Вернули и пилота.
Сперва-то его за шпиона посчитали и обращались соответственно, а потом разобрались.
Молодой еще. Да и что он там увидел, на этом лугу? Кормили щами и котлетами и за руку
прощались, когда уезжал.
2 ноября 1938 года, Литва, авиабаза в Ковно
Бригадный генерал Густайтис подписал последний документ.
Опыт Латвии показал, что с англичанами можно иметь дело. «Гладиатор» – годная
машина. Латвия заказала двадцать шесть. Литва решила не отставать и сделала заказ на
четырнадцать.
Британцы прислали корабль с полуразобранными машинами. Теперь оставалось их
собрать и попутно освоить.
Очень хорошо. Превосходно.
Новые английские самолеты поступят в пятую истребительную эскадрилью майора
Науседа. Там, во Второй истребительной группе, уже имеются эскадрильи, летающие на
«Ансальдо», «Локхиде», «Де Хэвиленде»... Все-таки более современные машины, чем,
скажем, в учебной группе майора Шешлаукиса, где до сих пор летает «Фоккер» D.VIII,
которому самое место в музее...
Германия. Мысль бригадного генерала привычно обратилась на Запад. Вот бы
соединиться с могущественным соседом! Всегда хорошо заранее угадать будущего
победителя и занять его сторону.
15 июня 1940 года, Шавла
– В этот знаменательный день, – гремел голос в репродукторе, отзываясь эхом в
ангарах, – когда братские литовский и русский народы наконец объединились...
«В этот знаменательный день, – думал командир истребительной эскадрильи
«Гладиаторов» майор Наусед, – все наши «Гладиаторы» переходят в распоряжение
Советов. И одному Богу известно, как они ими распорядятся».
Двенадцать «Гладиаторов» находились в боеготовом состоянии, два – в ремонте.
Последствия не замедлили сказаться: Литовские ВВС были расформированы.
– Это только начало, – зловеще предрек Густайтис.
Скоро в бывшей пятой истребительной эскадрилье бывших Литовских ВВС появился
красный командир со скучным лицом фабричного рабочего.
У красного командира было много скрипучих ремней и шуршащих бумаг.
– «Гладиаторы» как машина, для применения в советской авиации непригодная, будут
законсервированы, – сообщил он. – Часть, наверное, пустим на слом, – добавил он
просто, «своими словами», – металл потому что нужен. Пару штук, может, оставим для
учебки.
20 сентября 1940 года, аэродром Спильве, Рига
Гремел оркестр.
Авиапарад ВВС РККА начался.
Столица Советской Социалистической Латвийской республики была расцвечена
красными флагами. В репродукторах звучали громкие приветствия, но еще громче плыл
над толпой «Марш авиаторов».
Один за другим появлялись в небе над столицей самолеты. Люди задирали головы,
любуясь фигурами высшего пилотажа.
Тройка «Гладиаторов» появилась над Ригой в свой срок.
Их оставалось уже совсем немного. Пять «Гладиаторов» из двадцати шести уже были
разбиты. Пять английских машин перегнали в Крустпилс и законсервировали там в
ангарах на территории завода «Проводник».
«А сержант Спрингис как в воду глядел, – думал Эрнестс Рудзитис, – когда
приземлился у Советов. Теперь и мы с ними... Дальше-то что?..»

Красная свастика на его самолете – как и на остальных – была закрашена и поверх нее
нарисована красная звезда. Но когда солнце падало под особенным углом, свастика все же
проступала.
Интересно, видят ли это с земли?
18 августа 1941 года, Крустпилс
Капитан Мольтке огляделся на аэродроме. Снял перчатки, похлопал себя по сгибу локтя.
– So, – подытожил он. – Итак...
Мольтке носил знаменитую фамилию, но ничуть не тяготился этим обстоятельством.
Германские Soldaten достойны славы своих великих предков.
Аэродром представлял собой мешанину плит и разбитых самолетов. Немецкие
бомбардировщики хорошо постарались. Большая часть литовских и латвийских
«Гладиаторов» погибли в этом огне. Их разбомбили прямо в ангарах.
Впрочем, нет, не все они погибли... Там, кажется, уцелело несколько. Один, два... О, около
десятка! Тринадцать. Несчастливое число, o ja.
Следует составить опись и квалифицировать самолеты согласно их
пригодности/непригодности. Категория I: исправны. Таковых девять. Категория II:
степень готовности удовлетворительная, необходим небольшой ремонт. Категория III:
серьезные повреждения. Таковых два.
Все это необходимо отразить в рапорте – орднунг ист орднунг! Самолеты надлежит
отправить в Рейх железной дорогой. Только сперва сменить окраску. Сделать менее
заметными. Серыми. Пулеметы – снять. Пулеметы им сейчас уже не нужны.
Место назначения?.. Капитан задумался. Где может послужить боеготовая, но устаревшая
трофейная машина?

Карандаш уверенно побежал по бумаге, в блокноте появилась новая запись:
«Рекомендованы для передачи в учебную часть в Лангендибахе, Ханау, под начало
капитана Хая». Капитан Хай будет рад. Несомненно.
О, а это что?
Мольтке наклонился посмотреть, не почудилось ли ему. Нет, не почудилось.
Под размашисто намалеванными красными звездами проступали свастики.
...В эти самые дни бригадный генерал Густайтис был расстрелян Советами как шпион.
© А. Мартьянов. 23.12. 2012.
40. Амелия
24 июля 1907 года, город Атчинсон, штат Канзас
В доме судьи Отиса был праздник – отмечали десятилетие старшей внучки, Амелии
Эрхарт. Приглашены, разумеется, только избранные. Остальным предоставлено право
завидовать и судачить.
А о девочках Эрхарт в захолустнейшем Атчинсоне судачили немало.
Началось все с того, что дочь судьи Альфреда Отиса, Эми, против воли родителей вышла
за этого жалкого адвокатишку, Эдвина Эрхарта. Скандал замяли, но судья испытал жгучее
разочарование в дочери.
Да разве хватит жалованья этого, с позволения сказать, смазливого сутяги на то, чтобы
достойно содержать семью? И не просто семью, а отпрысков семейства Отис?
Судья настоял на том, чтобы дети росли и получали воспитание в его доме...
Бабушка Отис пыталась привить им – старшей Амелии и младшей Мюриэл —
приличные манеры. Отдала в закрытую привилегированную школу. Учила принимать
гостей, пить с ними чай, чинно гулять по выходным.
Дед, суровый по отношению к зятю, в девочках души не чаял. И баловал их. Особенно
старшенькую, Мели. Жаль, что она не мальчик.
Верховая езда? Теннис? Стрельба? Ни в чем ей не было отказа. Такая хорошенькая, такая
смышленая!
Дух вольнодумства потихоньку проползал в дом судьи Отиса.
Ох уж этот дом! Эта огромная скучная золотисто-бежевая гостиная, такая роскошная и
такая тоскливая! А прислуга в фартуках! А эти ужасные девчачьи штуки – всякие
оборочки, ленточки, шляпки!.. Нет, иногда забавно бывает нарядиться, но чинное
поведение?..
Куда лучше охотиться на крыс! Дед имел неосторожность научить внучку стрелять...
Ладно, пускай забавляется. Истинная леди должна уметь стрелять из ружья.
Амелия много читала. И все бы ничего – но выбор книг для чтения совершенно
возмутительный! Какие-то приключения, ковбои, пираты, великие открытия!..
И опять же, от выволочек старшей мисс Эрхарт за слишком задиристое поведение
школьные учителя воздерживались: Амелия слишком хорошо училась.
Разве что заставляло немного настораживаться то, какие предметы в основном занимали
Амелию: естественные науки, история, география! Какой-то не девичий выбор.
– Эта девочка еще заставит о себе говорить, – печально вздыхала учительница. С ее
точки зрения, «заставить о себе говорить» означало для девушки окончательную гибель
репутации.
8 апреля 1908 года, Айова
Как хорошо идти с отцом на городской праздник!
Конечно, бабушка и дедушка Отис очень любили и Мели, и Мюриэл, но все-таки они
такие благовоспитанные, такие пожилые... Здорово, что мама с папой решились переехать
в Айову вместе с детьми.
И отец вовсе не такое ничтожество, как говорил дедушка...
Ярмарка вокруг кипела. Овощи, сидр, безделушки, игрушки.
А это что?..
Девочка уставилась на непонятный предмет, большой и громоздкий. Больше быка. И
такой неуклюжий с виду!
– Папа! – громко произнесла Амелия. – Мы что, ради этой штуки сюда пришли?
– Да, – ответил Эдвин Эрхарт. – Посмотри, разве не интересно? Ты ведь