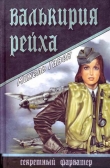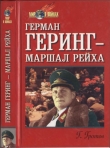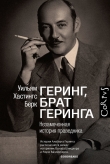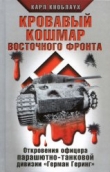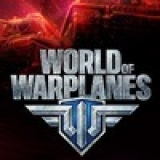
Текст книги "Unknown"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Возможно... – неуверенно пробормотал канадец и тут же поправился: – То есть, да,
сэр, это впечатляет.
– В центральной части кабины на месте штурмана можно, кстати, установить
дополнительный бензобак. Летать можно и ночью, и в плохих погодных условиях, В
хвостовой части фюзеляжа коротковолновая радиостанция. Вот здесь, смотрите же, —
откидной крюк аэрофинишера.
– Но самолет же беззащитен, – заметил Трейджер.

– Зато маневренность прекрасная. Бронезащиты экипажа нет, верно, кислородное
оборудование тоже не предусмотрено, но мы и не летаем высоко. Смотрите, как хорошо
продуманы крылья: неподвижные центропланы и две консольные коробки,
поворачивающиеся вокруг вертикальной оси. Сейчас, когда крылья сложены, видно, что
они скреплены со стабилизатором специальными накидными замками.
Он помолчал и прибавил:
– Многие называют наш самолет «авоськой» – из-за того, что элементы бипланной
коробки соединены перекрестными ленточными расчалками. Да, вид у нашего самолета
архаичный, он кажется неопасным. Что ж, пусть враг питает иллюзии на наш счет.
«Суордфиш» прекрасно вооружен.
И Уильямсон начал показывать: на главном подфюзеляжном узле крепится авиаторпеда
калибра 457 миллиметров или морская мина. Можно, кстати, взять еще один
дополнительный подвесной бензобак.
Подкрыльевые узлы допускают применение фугасных бомб в двести пятьдесят или
пятьсот фунтов, глубинных, осветительных, зажигательных.
– И наконец – курсовой синхронный пулемет «Виккерс» по правому борту для пилота и
такой же – на турели у стрелка-радиста, – показал капитан-лейтенант. – Так что
самолетик вовсе не беззащитен. Теперь, на случай, если вас все-таки сбили: в корневой
части левой верхней консоли находится специальный контейнер. В нем – надувной плот
и запас средств выживания. Все ясно?
– В общем и целом – да, – кивнул канадец. – И еще одно...
– Слушаю вас.
– Буду счастлив служить под вашей командой, сэр.
Англичанин кивнул, отсалютовал и вернулся к работе. Он хотел лично проверить все
самолеты. «Суордфиши» ожидало весьма ответственное задание – как он и говорил.
17 октября 1940 года, Александрия
Контр-адмирал Ламли Листер смотрел на карту, разложенную в его каюте на авианосце
«Илластриес». Ситуация ему не нравилась.
После вступления Италии в войну и нейтрализации французского флота страны «Оси»
захватили господство в Эгейском, Адриатическом и отчасти Средиземном морях.
– Когда-то я служил в этих краях, – задумчиво проговорил Листер. – Да поможет мне
бог! – это было в годы Великой войны. Тогда наша эскадрилья базировалась в Таранто.
Сейчас это главная якорная стоянка итальянского флота.
Главнокомандующий английским средиземноморским флотом адмирал Эндрю Каннигхэм
склонился над картой.
– С июня итальянский флот здорово вырос, – молвил Каннигхэм. – Тогда у них было
два линкора, а сейчас – еще два новых линкора и два старых после модернизации. У нас
четыре, у них – шесть. Соотношение не в нашу пользу. – Он поднял глаза: – Ваши
предложения, сэр?
– Предлагаю воспользоваться моим знанием гавани Таранто, – просто отозвался Листер.
– Я усматриваю нечто символичное в названиях наших кораблей – «Игл» и
«Илластриес». 21 октября корабли с такими же именами участвовали в славной
Трафальгарской битвы. Почему бы их тезкам не стать наследниками морской славы?
– 21 октября мы отметим годовщину Трафальгара новым сражением! – энергично
кивнул Каннингхэм. – Сейчас у нас имеются восемнадцать «Суордфишей» с торпедами и
двенадцать – с бомбами. Мы вполне можем нанести удар по итальянским линкорам. А то
итальянцы довольно ловко уклоняются от решающего сражения на море.
И оба адмирала опять склонились над картой.
18 октября 1940 года, борт авианосца «Илластриес»
– Гавань Таранто неглубока, – начал инструктаж капитан-лейтенант Кеннет Уильямсон.
– Следовательно, наши торпеды будут снабжены стабилизаторами для уменьшения
глубины погружения при сбросе. Далее. С Мальты к Таранто постоянно летают
разведывательные самолеты. Нам следует ознакомиться с расположением итальянских
кораблей на якорных стоянках, отработать технику торпедных и бомбовых ударов,
заняться взаимодействием между звеньями атакующих самолетов в ночных условиях...
Мы получили ориентиры для выхода в атаку.
– Пожар! – на палубу выскочил матрос. – Пожар в ангаре!
...Спустя два часа Уильямсон, с обгоревшими ресницами и бровями, весь в копоти,
докладывал адмиралу:
– Безвозвратно потеряны два самолета. Еще два сильно пострадали.
– Придется отложить атаку, – решил адмирал. – У вас будет больше времени на
тренировки.
28 октября 1940 года, борт авианосца «Игл»

Адмирал Каннигхэм был мрачнее тучи.
Топливная система «Игла» была повреждена.
Неприятель сбросил бомбы слишком точно – корабль не смог покинуть гавань.
Решение пришлось принимать на месте.
– Самолетам перебазироваться на «Илластриес»! Там как раз погибло четыре машины.
Он вздохнул и прибавил:
– Я тоже перебазируюсь на «Илластриес». Придется опять отложить атаку. Но отменять
ее мы не будем.
11 ноября 1940 года, 10 часов, Мальта
Лейтенант Адриан Уорбертон вернулся на базу. Летчику пришлось облетать вражеский
порт Таранто под интенсивным зенитным обстрелом, но верный «Мэриленд» не подвел:
разведывательный полет принес долгожданные сведения.
Листер был не просто доволен – он был счастлив.
– Какая неслыханная удача! Почти весь итальянский флот набился в одну гавань!
– Вчера туда вошли еще шесть боевых кораблей, – сообщил летчик.
– Удивительный народ итальянцы, – хмыкнул Листер. – Они же знают, что мы знаем...
и все-таки стоят там, как сельди в бочке. – Он потер руки. – Тем лучше для нас,
джентльмены, тем лучше. Атакуем немедленно!
11 ноября 1940 года, 21.30, борт «Илластриес»
Один за другим поднимались в вечернее небо «Суордфиши»: шесть с торпедами, четыре
– с бомбами, два – с обычными и осветительными бомбами.
Впереди был самолет капитан-лейтенанта Кеннета Уильямсона.
Адмирал провожал их глазами, пока они не скрылись.

– Теперь ждать.
Спустя сорок минут вторая волна самолетов под командованием капитан-лейтенанта
Джона Хейла последовала за первой.
...Подлетая к гавани, Уильямсон не верил своим глазам: итальянские корабли стояли на
месте. Вид, раскрывшийся ему с борта самолета, был в точности как на фотоснимке,
доставленном разведчиком.
– Так не бывает, – пробормотал он.
Он ожидал встретить хотя бы аэростатное заграждение, но оно оказалось сильно
повреждено штормами. Противоторпедных сетей не было (о чем Уильямсон не знал,
иначе не поверил бы в такое везение) – итальянцы полагали, что они мешают движению
кораблей.
Четыре самолета сразу направились в сторону внутренней гавани Мар-Пикколо, отвлекая
на себя внимание противника.
Два «Суордфиша» сбросили осветительные бомбы с восточной стороны.
«Не подведи, канадец!» – думал Уильямсон. И канадец не подвел – действовал точно,
как на учениях.
Линейные корабли в гавани Мар-Гранде были теперь освещены ярко, как днем.
«Суордфиши» заходили на атаку с темной стороны горизонта. Отсюда силуэты кораблей
отлично были им видны.
Самолеты-«осветители», сбросив осветительные бомбы, оставшимися бомбами разнесли
нефтебаки.
Пламя пожара послужило дополнительным ориентиром для бомбардировщиков, которые
атаковали базу гидросамолетов и кораблей в Мар-Пикколо.
Новый линкор «Литторио» был атакован торпедой и получил повреждение – в суматохе
боя нельзя было понять, насколько серьезное. Самолеты летели низко, на высоте
четырехсот метров.
Следующей целью оказался «старичок» – «Конте ди Кавур».

Зенитчики наконец опомнились и открыли огонь. Прожекторы у них не работали,
стреляли они как попало.
Уильямсон, сбросив торпеду, развернулся и попробовал выйти из-под огня, но тут
удачный выстрел повредил крыло «Суордфиша», и самолет начал падать.
Капитан-лейтенант в последний момент выбрался из самолета и погрузился в воду.
Его вытащили итальянские моряки. Они были страшно злы на англичанина и не слишком
церемонились, когда брали его в плен.
Спустя сорок минут, когда итальянцы немного успокоились, появилась вторая волна
атакующих «Суордфишей».
Восемь самолетов действовали так же, как предыдущие двенадцать: дойдя до гавани,
разделились и сбросили осветительные бомбы.
Еще две торпеды поразили «Литторио» – теперь этот линкор точно вышел из строя.
Тяжко пришлось и еще одному линкору – «Кайо Дуилио».
Итальянские моряки не могли вести полноценный огонь по низколетящим самолетам —
боялись попасть друг в друга. Вот где сработали особенности тихоходного биплана!
Сидя на палубе итальянского корабля, Уильямсон видел, как падает второй «Суордфиш».
...Больше потерь среди английских самолетов не было. Экипаж второго самолета, как
позднее узнал Уильямсон, остался жив и тоже был взят в плен.
12 ноября 1940 года, 3 часа, борт «Илластриес»
– Докладывайте! – приказал Каннингхэм.
Капитан-лейтенант Джон Хейл сообщил:
– Наши потери – два «Суордфиша». Судьба экипажей пока неизвестна. Атака вывела из
строя три вражеских линкора: один затонул, два сели на грунт. Из девяти сброшенных
торпед пять попали в цель. Кроме того, по непроверенным данным, повреждены тяжелый
крейсер, гидроавианосец и эсминец.
– Что доки? – нетерпеливо спросил адмирал.
– Там сильная береговая авиация, поэтому было принято не наносить удара по докам.
Зато мы подожгли их нефтебаки.

– Ну что ж, – медленно произнес адмирал, – полагаю, мы выписали новую страницу в
историю. Я хотел чего-то вроде повторения Трафальгара, но вы совершили нечто иное,
неслыханное! Впервые в истории войн палубная авиация нанесла сокрушительный удар
по военно-морской базе. И эту задачу решили тихоходные бипланы, которых было не так
уж и много. – Он самодовольно улыбнулся. – Один английский авианосец положил
конец надеждам Муссолини на превращение Средиземного моря во внутренний водоем
«Великой Итальянской Империи – наследницы Древнего Рима!»
13 ноября 1940 года, Нагасаки
Адмирал Ямамото сложил газету и задумался.
– Англичане вывели из строя военно-морскую базу противника, используя несколько
палубных самолетов? – пробормотал он. – Очень интересно! Никогда не следует
недооценивать авиацию, не так ли?
© А. Мартьянов. 22.05. 2013.
70. Возмездие Рыбы-Меча
24 мая 1941 года, 22 часа, борт линейного корабля «Бисмарк»
Капитан первого ранга Нетцбанд смотрел в серые волны Атлантики. Настроение у него
было мрачное.

Не ладились у него дела с тех пор, как ко дну был пущен проклятый английский
авианосец «Глориес», вместе с которым погибли проклятые английские бипланы —
«Гладиаторы» и «Суордфиши».
Казалось, это была убедительная победа, одержанная Нетцбандом. Но нет, начальство в
Берлине сочло старый авианосец и устаревшие самолеты недостойными такого
«неоправданно большого» расхода боеприпасов и времени.
Теперь Нетцбанд возглавляет штаб адмирала Лютьенса. Ответственная и важная
должность. Но Нетцбанд служит не первый год и слишком хорошо знает: от кого в армии
хотят отделаться, того отправляют «на повышение».
В армии, на флоте, в авиации... Это общее обыкновение всех военных. Умно, что ж. И не
пожалуешься. Нетцбанд еще раз вздохнул.
Рейд «Бисмарка» с самого начала не был удачным.
– У Сталина должно сложиться твердое убеждение, что главным направлением
стального кулака германской военной мощи будет Англия, – объяснял адмирал Лютьенс.
– И миссия «Бисмарка» должна окончательно убедить его в этом.
Нетцбанд не был уверен, что идея хорошая. Впрочем, пока все складывалось более-менее
успешно.
Скорее, «менее», чем «более». Сегодня утром «Бисмарк» встретился с англичанами и был
ими обстрелян.
Две носовые топливные цистерны «Бисмарка» оказались повреждены, линкор начал
терять горючее. Вода затапливала носовые отсеки. Скорость упала.
Среди высших офицеров разгорелся настоящий спор, доходящий чуть ли не до крика.
Нетцбанд настаивал:
– Нам следует немедленно возвращаться в Германию! Идем северным путем – так
безопаснее. Англичане обложили нас, как гончие медведя.
Но Лютьенс был непреклонен:
– Гораздо проще идти во Францию. Приказываю: берем курс на Брест. Там имеется док,
способный вместить «Бисмарк».
Дискуссия, таким образом, была окончена.
Но Нетцбанд, хоть и прекратил споры, оставался при своем мнении: адмирал отдал
ошибочный приказ. И очень скоро «Бисмарк» поплатится за его упрямство.
Англичане упорно преследовали германский линкор, намереваясь перехватить его на
севере Атлантики. Что ж, у них имеются все основания для беспокойства: сейчас океан
пересекают их конвои. Им важно не допустить мощные корабли Кригсмарине до своих
караванов.
А до берегов Франции еще далеко...
В полутьме возник силуэт корабля.
Он был едва виден. Но Нетцбанд, обладавший отличным зрением моряка, его разглядел.
Не видел он только, что это за корабль. Но что английский – не сомневался.
А вот и ответ: над «Бисмарком» закружили, как птицы, бипланы.
«Суордфиши», несомненно. Сколько же их? Один, два... Девять.
Тьма сгущалась. Погода портилась.
И все-таки несмотря на темноту «Суордфиши» сбросили свои торпеды.
«Бисмарк» вздрогнул.
Нетцбанд вошел в рубку.
– Отчет! – потребовал он у вахтенного офицера.
– Одна английская торпеда, – доложил тот. – Вреда не причинила.

– Хорошо, – с облегчением выдохнул Нетцбанд. Корабль был в таком состоянии, что
удачное попадание даже одной торпеды могло пустить его ко дну. К счастью, англичане
как будто не знали об этом. – Продолжайте курс.
«Хорошо, – мысли текли в голове начальника штаба, – что эти самолеты такие старые.
И что боеголовки английских торпед до сих пор снаряжаются динамитом. Мы, слава богу,
уже применяем состав, содержащий гексоген!.. Если бы у англичан было...» – Он
оборвал сам себя, как будто боялся, что проклятые «томми» его услышат.
26 мая 1941 года, 13.30, палуба авианосца «Арк Роял»
– «Бисмарк» обнаружен, сэр! Вот данные командования береговой авиации. «Каталина»
засекла его. Он, несомненно, пробивается к Бресту, во Францию.
Более суток англичане не могли отыскать «Бисмарк» – немцы искусно уходили от
погони. И вот наконец пришли сведения о его точном местоположении.
Адмирал Тови, получив это известие, немедленно отдал приказ:
– Авианосцу «Арк Роял» атаковать!
«Арк Роял» находился всего в ста тридцати километрах от «Бисмарка».
– Отомстим за «Глориес», – летчики были воодушевлены. – Покажем немцам, что
такое наша «Рыба-меч» и на что она способна!
Погода портилась с каждым мгновением. Небеса разверзлись: хлестал дождь, тяжелые
волны захлестывали взлетную палубу.
Килевая качка корабля достигала тридцати градусов.
– Взлетим! – Летчики не сомневались в успехе.
Видимость не превышала сотни метров.
Тучи, казалось, цеплялись брюхом за волны.
Один за другим десять «Суордфишей» поднялись в воздух и взяли курс на врага.
– Вижу его, – сообщил саблейтенант Уорнерс. – Захожу для атаки.
Он успел выпустить торпеду, когда пришло известие:
– Прекратить атаку! Это крейсер «Шеффилд». Повторяю, крейсер «Шеффилд»!
«Проклятье, – пробормотал Уорнерс. – Но где же «Бисмарк»? Наш крейсер слишком
близко от немца!»
– К счастью, ни одна из торпед в цель не попала, – адмирал Тови встретил летчиков
спокойно. Бывалый моряк знал: на войне чего только не случается! Промазали по своим
– и ладно.
Пилоты старались сохранить лицо и держаться невозмутимо. И в самом деле – чего
только не случается...
26 мая 1941 года, 20.00, борт авианосца «Арк Роял»
Казалось, хуже погода уже быть не может, но нет – шторм крепчал, видимость упала уже
почти до нуля. Надвигалась ночь.
Тови обратился к пилотам:
– Предлагаю повторить налет.
Он знал, что ни один из английских летчиков не скажет: «Это невозможно, сэр», – и не
ошибся в своих ожиданиях. Они просто продолжали слушать.
Адмирал повысил голос:
– Я знаю, что в подобных условиях налет на «Бисмарк» кажется немыслимым. Но
именно потому, что эта операция выходит за рамки возможного, он может оказаться
успешным.
С раскачивающейся палубы авианосца поднялись пятнадцать «Суордфишей». По приказу
командира эскадрильи, участвовали только те пилоты, которые сегодня еще не летали.
– Вот он, – сказал капитан Мэтьюс. – Теперь это точно он.
Словно в доказательство его слов, «Бисмарк» встретил тихоходные бипланы яростным
зенитным огнем.
Прорываясь сквозь дым и пламя, «Суордфиши» шли на разных курсах, на разной высоте.
26 мая 1941 года, 23.00, борт линкора «Бисмарк»
Адмирал Лютьенс крикнул:
– Что там?

– Две, может, три торпеды, – перекрикивая грохот, ответил Нетцбанд. – Англичане...
Он не договорил: мощный взрыв одной из торпед, попавшей в кормовую часть корабля,
заставил «Бисмарк» содрогнуться всем корпусом.
– Система управления рулями уничтожена! – доложил дежурный. – Винты
повреждены!
Теперь корабль, лишившись возможности выдерживать постоянный курс, выписывал в
море неправильные зигзаги.
Лютьенс навис над радистом:
– Передайте командованию: «Корабль потерял способность к управлению. Будем
сражаться до последнего снаряда. Да здравствует фюрер!»
26 мая 1941 года, 23.20, борт авианосца «Арк Роял»
Адмирал Тови срочно связался с Черчиллем:
– «Бисмарк» серьезно поврежден. Он остановлен и не может больше держать курс. Но у
нас кончается горючее.
– Черт побери! – заорал Черчилль. – Преследуйте его! Потопите его к чертовой
матери!
– Кончается горючее, – повторил Тови.
– Догнать! – приказал Черчилль. – Даже если потом вас всех придется тащить домой
на буксире! Любой ценой!
В этот момент вернулись «Суордфиши». Один за другим бипланы садились на палубу
«Арк Роял».
– Он почти мертв, – сообщили летчики.

– Хорошо, сэр, – Тови радировал Черчиллю согласие. – Мы добьем его.
27 мая 1941 года, 10.15, борт линкора «Бисмарк»
– Англичане повсюду, – сказал Лютьенс. – Мы едва держимся на плаву. Ваши
рекомендации?
Нетцбанд молчал.
Лютьенс отстранил его и передал последний приказ:
– Открыть кингстоны!
...«Бисмарк» погружался в воду кормой вперед.
* * *
Английский крейсер «Дорсетшир» подошел к месту затопления линкора.
– Спасать всех! – был приказ.
Сто десять немецких моряков поднялись на борт крейсера «Дорсетшира» и эсминца
«Маори». Более двух тысяч пошли ко дну месте со своим кораблем.
В числе погибших был и Нетцбанд.
Человек, который приказал не тратить время на спасение выживших с «Глориес».
«Суордфиши» сполна отомстили за гибель своих товарищей.
...«Арк Роял» погибнет 13 ноября 1941 года: подводная лодка U-81 попадет торпедой в
правый борт авианосца.
«Арк Роял» ляжет на борт, потеряет скорость, и будет отдан приказ команде покинуть
корабль. Полторы тысячи моряков переберутся на английские эсминцы, подошедшие к
терпящему крушение авианосцу.

И только капитан и с ним сто человек команды продолжат попытки спасти любимый
корабль. При свете переносных фонарей они попробуют уменьшить крен, завести динамо-
машины.
С Гибралтара прибудет буксир, который потащит «Арк Роял» к берегу.
Но все попытки окажутся тщетными: корабль будет садиться все глубже, дымоходы
котлов зальет вода, произойдет взрыв... В четыре утра аварийная партия покинет «Арк
Роял», а через полтора часа волны сомкнутся над этим прекрасным, современным
авианосцем. Он будет бороться до последнего и затонет у самых берегов Гибралтара.
© А. Мартьянов. 22.05. 2013.
71. Зоркая сова
8 января 1942 года, Кинешма, расположение 22 запасного авиаполка
– И что нам с этим делать? – Заместитель командира полка майор Акуленко мрачно
смотрел на ящики.

В ящиках находились «неизвестные природе» американские самолеты. Разобранные. И
как их собирать – никому не ведомо. Ибо никакой подробной документации на сей счет
не прилагалось, ни на русском языке, ни на английском.
Вероятно, имелось в виду, что в полку проявят знаменитую солдатскую смекалку и
сообразят – как поступить с заморским подарком.
Политрук товарищ капитан Смуглевич высказался однозначно:
– Вопрос в какой-то мере политический: ведь это нам прислали союзники.
– Лучше бы второй фронт открыли, – буркнул майор.
– Пока второго фронта нет, будем пользоваться тем, что есть.
– Небось, поскребли по сусекам и сбросили нам всякое старье, – высказался Акуленко в
досаде. Он перевел взгляд на подошедшего инженера Смолярова: – Вы что скажете,
товарищ Смоляров?
– Думаю, разберусь, – ответил тот. – Не боги горшки обжигают – вряд ли этот
самолет сильно отличается от тех, к которым мы уже привыкли. – Он помолчал и
добавил: – Мне кажется, товарищ Смуглевич прав: нам сейчас любая помощь не лишняя.
Однако прав оказался и сердитый Акуленко: присланный американцами самолет был не
из новых и уж точно не из лучших.
Это был самолет корректировщик, детище фирмы «Кертисс», называемый О-52, от
«обсервер» – «наблюдатель». «Оул», «Сова» – стало его личным именем.
Самолет создавали не спеша и не утруждаясь революционностью: вложили в модель
проверенные достижения авиастроения конца тридцатых и в сороковом году выпустили
машину – маневренную, надежную и дешевую.
Основной упор предложили сделать на взлетно-посадочные качества: предполагалось, что
корректировщик будет действовать с полевых аэродромов.
Цельнометаллический планер с закрытой кабиной, убирающимся шасси, с современным
приборным оборудованием, с отличным обзором для обоих членов экипажа – пилота и
наблюдателя.
Самолетик выглядел своеобразно: бочкообразный фюзеляж и длинное прямое крыло.
Машина была легкой, поскольку не могла нести бомб. Это был только разведчик, а из
вооружения он имел лишь два пулемета: синхронный под капотом и подвижный (у
наблюдателя).
– Что же мы будем делать с этими «Совами»? – Начальник штаба ВВС армии
Соединенных Штатов генерал Арнольд мрачно размышлял над проблемой. – Черт
побери, машина взлетела в сорок первом и мгновенно устарела! Как она будет
действовать, если по ней начнут палить зенитки? Чем руководствовались на «Кертиссе»,
делая безоружную машину? Любой истребитель... Впрочем, об этом лучше вообще не
думать. Куда девать «Сов»?
Счастливая идея осенила Арнольда довольно быстро:
– Отправим их на Восточный фронт! Русские сейчас в таком положении, что переварят
любой самолет.
Русские пытались отбрыкиваться:
– Вы понимаете, что безоружная, не прикрытая броней машина не годится для действий
на советско-германском фронте?
– Возьмите просто так, – взмолился наконец Арнольд. – У нас тридцать машин уже
подготовлено к отправке. Мы их посылаем дополнительным грузом.
– В довесок к Московскому протоколу? – съязвила советская сторона.
Арнольд вяло оскорбился:
– В качестве бонуса!..
...Девятнадцать из тридцати самолетов благополучно пересекли море. Остальные
упокоились на дне вместе с перевозившими их транспортами.
И вот озадаченные товарищи Акуленко, Смуглевич и Смоляров созерцают заморских
гостей, упакованных в ящики.
– Не было у бабы хлопот, так купила порося, – в сердцах бросил Акуленко.
16 января 1942 года, Кинешма
Майор Акуленко занял место пилота. «Сова» была, по утверждению инженера, готова к
полету.
– Устроились, товарищ Смоляров? – Акуленко обернулся к своему летнабу.
Смоляров кивнул:
– Так точно.
Он решил лично доказать правильность своей сборки. Хотя работал, скорее, по наитию.
Конструкция оказалась простой, многие узлы, в том числе и двигатель, похожи на те, с
которыми Смоляров и его помощники уже имели дело на советских самолетах.

Только вот шасси...
– Кошмарная каракатица, – ворчал Смоляров. – Ну ничего, ты мне покоришься.
И в самом деле, «каракатица» тоже не представляла, после укрощения, большой
проблемы.
Аппарат, хоть и не годился для полноценной фронтовой работы, показался Смолярову
интересным, и он воспользовался возможностью от души «поковыряться» в разработках
заокеанских коллег.
Взлетели, сделали круг и приземлились благополучно.
– Что ж, машина послушная, не капризная. Начало положено, – подытожил Акуленко. И
вздохнул: – Сюда бы броню!..
7 февраля 1942 года, Кинешма
Майор Кочановский был опытным летчиком. Ему было уже под сорок, позади —
Финская, теперь вот – Ленинградский фронт.
Сейчас 50-я отдельная корректировочная эскадрилья, которой он командовал, прибыла в
расположение 22 запасного авиаполка – для переучивания.
Кочановский сразу обратил внимание на странный самолет, стоявший на аэродроме.
Подошел поближе, рассмотрел.
– Что за зверь такой? – удивился он. – Впервые вижу!
Инженер Смоляров пожал ему руку, представился.
– Вижу, вас интересует американский корректировщик, – заметил он. – Это «Кертисс».
– Почему о нем ничего не было известно? – Кочановский поднял бровь. – О
«Харрикейнах» говорят, а об этом...
– Этих самолетов мало, – ответил Смоляров. – Но нам сейчас не лишние даже они.
Если хотите, испытайте его. Он недавно прибыл. Стоило бы узнать потенциальные
возможности боевого применения этого самолета. Может быть, мы его недооцениваем.
– Это корректировщик? – Кочановский нахмурился. – Я сразу вам скажу, в любом
случае он лучше совсем уж устаревших бипланов Р-5.
– Хотите провести испытания?
– Что значит – «хочу»? Разве они не проводились?
– Настоящие испытания? Нет. Мы еще не успели.
2 марта 1942 года, Иваново
Майор Кочановский поднял «американца» в воздух.
Отдел боевой подготовки Главного управления начальника артиллерии Красной Армии,
получив инициативу летчиков, выдал задание на испытательные полеты «Кертисса».
(Название «Сова» в Красной Армии не прижилось).
Кочановский посадил самолет через полчаса. Пока комиссия снимала показания с
приборов, Кочановский писал набросок отчета:
– Обзор хороший, кабина просторная – в случае чего можно взять третьего человека, то
есть самолет пригоден для заброски десанта. Что плохо – бронезащиты никакой,
вооружение слабое. В общем, «Кертисс» можно взять на вооружение корректировочных
эскадрилий. Но только тут надо с умом: на территорию противника залетать не стоит,
корректировать огонь лучше из расположения своих войск. Ну, или летать по ночам.
– На то они и «Совы», – заметил Смоляров.
– А можно, кстати, и усилить вооружение и установить броню, – добавил Кочановский.
– Тогда самолет станет тяжелее, – резонно указал Смоляров. – Пока ничего менять не
будем, а там – по обстоятельствам.
12 марта 1942 года, Кинешма
– Младший лейтенант Мухар грохнул «Кертисс»! – доложил дежурный по аэродрому.
Майор Акуленко стукнул кулаком по столу:
– Сам-то жив? Я с ним еще разберусь!
На самом деле он был почти доволен: обучение всех трех эскадрилий, вооруженных
«Кертиссами», шло интенсивно. Если пилоты начали ломать самолеты, значит, чувствуют
себя на них достаточно уверенно.
Мухар потерял ориентировку в полете, горючего ему не хватило, и самолет, посаженный в
чистом поле, потребовал капитального ремонта...
29 марта 1942 года, аэродром Иваново – аэродром Плеханово
– Мы летим под Ленинград! – сказал командир звена младший лейтенант Петр
Жилинский. – Все вы, товарищи, понимаете, что это значит.

Летных часов на «Кертиссах» у всех было мало – не более шести. Но «американец»
показал себя машиной покладистой, так что проблем возникнуть не должно.
Лишь бы не встретить вражеские истребители...
Но неприятности у Двенадцатой эскадрильи начались раньше: подвела «каракатица».
– Афоничкин, как садишься! – Жилинский сжал кулак. Промежуточная посадка в
Череповце оказалась для одного из самолетов «роковой»: «Кертисс» младшего лейтенанта
Афоничкина перевернулся, повредил стойку шасси, стабилизатор и мотор.
Афоничкин выбрался наружу, помог вылезти летнабу.
Как многие «слабые» машины, «Кертисс» сам бился, но экипаж не убивал.
– Остаешься в Череповце, – приказал Жилинский. – После дозаправки летим дальше
впятером.
И снова в путь, к Ленинграду.
Пять корректировщиков «Кертисс» уже подходили к Плеханово. Вечерело.
– «Мессеры»!
Пять немецких истребителей против пяти тихоходных, практически беззащитных
корректировщиков.
– Уходите! – отдал приказ Жилинский. – Иду на таран.
Он направил свой самолет прямо на Bf.109.
– Самуил, прыгай! – в последний момент крикнул Жилинский своему летнабу.
Самуил Новорожкин вывалился из кабины, дернул кольцо, и парашют раскрылся. Он не
видел, как падает «Кертисс», как вместе с ним валится на землю «Мессершмитт».
...О том, что комсомолец Петр Жилинский героически погиб, спасая своих товарищей,
летнаб узнал позднее, в госпитале.
12 мая 1942 года, аэродром Сосновка
Командир эскадрильи старший лейтенант Пропп ждал молча.
Три корректировщика «Кертисс» продолжали работу. После поломки в Череповце и
тарана Жилинского еще один «Кертисс» угробил сам Пропп: потерял управление на
высоте в тридцать метров и свалился на левое крыло.
Но эскадрилья оставалась в строю: советские летчики на американских машинах
корректировали артиллерийский огонь батарей Сорок второй и Пятьдесят пятой армий,
Балтийского флота, вели фоторазведку, забрасывали в тыл врага парашютистов.
Обычно «Кертиссы» летали по ночам, либо в сопровождении истребителей.
Но тут свободных истребителей не оказалось, а данные требовались срочно, и Мухар
вылетел днем.
Начальник штаба эскадрильи капитан Новиков вошел в деревенский дом, где размещался
штаб, и внимательно посмотрел на старшего лейтенанта:
– Мухар еще не вернулся?
– Нет.
Новиков положил пачку фотографий с изображением «Кертисса»:
– Нужно разослать по частям ПВО. А то стреляют по нашим заморским птичкам, только
перья летят. Нехорошо. Я с ними уже разговаривал, а они: «Незнакомый самолет».
...Известие о гибели Мухара пришло к ночи.
– «Кертиссов» осталось только два, – сказал Новиков. – Но это ничего не значит. Я все
равно отправлю фотографии. Хоть два «Кертисса», да летают!
© А. Мартьянов. 03.06. 2013.

72. «Три зелѐных мышки»
17 октября 1935 года, Сесто Календе, Италия, завод SIAI
– Просто не могу поверить, что этот самолет создавался как пассажирский! – Начальник
штаба Regia Aeronautica – Королевских ВВС Италии генерал Валле, казалось, готов был
засмеяться. – И не просто пассажирский, а еще и гоночный... Но истинного воина ничто
не удержит от его призвания. Это прирожденный бомбардировщик!
Наблюдая за восхищенным генералом, генеральный конструктор компании SIAI —
Societa Idrovolanti Alta Italia (более известная как «Савойя» – так звучало название ее
торговой марки) – Алессандро Маркетти сдержанно улыбнулся:
– Мы, разумеется, с самого начала понимали, что подобный самолет нельзя создавать
исключительно для гражданских целей. У такой машины должно быть много
специальностей.
Маркетти умело скрывал разочарование. Свой большой трехмоторный самолет он строил
не просто как гоночный и пассажирский на восемь мест: он торопился успеть с новым
проектом к международной гонке «Лондон – Мельбурн».
Трехмоторники тогда были весьма распространены в мире: их строили и Фоккер, и
Юнкерс. А пассажирам еще не приходило в голову жаловаться на вибрацию от моторов,