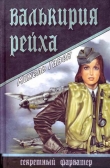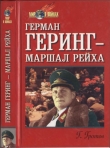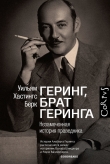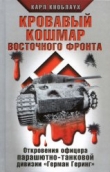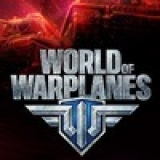
Текст книги "Unknown"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Советские конструкторы, техники, изобретатели, политработники, писатели – все
должны внести в создание самолета-гиганта не только свои материальные взносы, но
главным образом свою мысль, свои идеи, свой опыт и знания».
– А ведь очень правильная мысль у товарища Кольцова! – произнес наконец Сталин,
обращаясь к замнаркому Тухачевскому. – В самом деле, сорокалетие литературной и
общественной деятельности Алексея Максимовича Горького – дата, для всех нас
знаменательная. А как вы думаете, много времени займет создание такого самолета?

– Авиация, Иосиф Виссарионович, – ответил Тухачевский, – сама по себе является
серьезным доводом в споре с идеологическим противником. Она – символ прогресса,
символ будущего. Если поднять весь народ на строительство этого самолета, то времени
потребуется совсем немного.
– Да, – подхватил Сталин. Затея построить агитационный самолет-гигант и дать ему
имя «Максим Горький» нравилась вождю все больше и больше. – Это должно быть
именно всенародное дело. Хорошую инициативу проявил товарищ Кольцов, очень
хорошую...
3 апреля 1934 года, авиационный завод в Воронеже
Андрей Николаевич Туполев не выглядел счастливым. Скорее – озабоченным.
Сказывалась усталость. Напряженная работа последнего года выматывала. Приходилось
согласовывать тысячи мелочей с десятками людей.
И у каждого, у каждого – собственный характер, собственная индивидуальность. А
поскольку каждый, кому поручена была часть работы над новым самолетом, эту свою
индивидуальность холил и лелеял – творческие же все натуры! – то возникали
неизбежные сложности.
Учитывая, что и Андрей Николаевич, мягко говоря, не ангел небесный, а авиационный
конструктор и вполне земной человек…
А задание – необычное.
Самолет «Максим Горький» строился на народные деньги. Вся страна участвовала в сборе
средств. И отчитываться придется тоже – перед страной. Всесоюзный комитет,
созданный для организации постройки машины, возглавлял Михаил Кольцов.
Кольцов умеет, конечно, «чувствовать момент». Обратившись к советскому народу через
газеты и радио, он быстро собрал огромную сумму в шесть миллионов.
И вот теперь дело за создателями крылатых машин.
Туполев был назначен главным руководителем проекта.
– Опыт у вас имеется, и неплохой опыт, – говорил Кольцов. – Ведь это вы создавали
первые в СССР тяжелые цельнометаллические монопланы, наши замечательные
бомбардировщики ТБ.
Необходимо было распределить работы таким образом, чтобы уложиться в кратчайшие
сроки.
Петляков, Архангельский, Саукке, Кондорский – все получили задание.
Новый самолет создавался на базе шестимоторного бомбардировщика ТБ-4. В чертежах
он значился как АНТ-20.
– Машина огромная, но для военных целей слишком медленная, – высказывался
Туполев. – Поскольку «Максим Горький» будет еще больше, чем ТБ-4, то необходимо
внести некоторые изменения…
Помимо шести моторов в крыле мощностью по семьсот пятьдесят лошадиных сил,
установили еще два. Расположили их один за другим в специальной установке над
фюзеляжем.
– При остановке двух моторов самолет, по идее, сможет продолжать полет, —
высказывался Туполев.
Часть пассажиров предполагалось размещать в центральной части крыла – благо
толщина крыла достигала в этом месте свыше двух метров. Через проходы в крыле
экипаж мог подходить к двигателям – если вдруг возникнет необходимость
ликвидировать какую-нибудь неисправность.
Продумано, казалось, было все.
– Товарищи, все мы отдаем себе отчет в том, что это должен быть необычный самолет,
– обратился Туполев к своим коллегам. – Все лучшее, на что мы способны, должно
быть воплощено в этом проекте. Технические новинки, последние достижения
конструкторской мысли. Самолет будут осматривать иностранные делегации, о нем будут
очень много писать в прессе – в том числе и в заграничной. К работе привлечены десятки
научных и промышленных предприятий страны.
Одна из идей выглядела особенно будоражащей: проецировать изображение при показе
кинофильмов с борта самолета прямо на облака.
Непонятно, правда, получится или нет. Но вышло бы грандиозно…
– У меня вопрос, – подал голос Александр Архангельский.
– Слушаю.
– Как я понимаю, новая машина будет иметь в первую очередь значение агитационной?
– Правильно понимаете.
– И экспериментальной?
– Отчасти.
– А военное значение?

Наступила тишина. Вопрос был из разряда «неудобных».
– Наша страна окружена отнюдь не друзьями, – медленно произнес Туполев. – Любой
объект должен быть создан таким образом, чтобы в случае необходимости его можно
было, с минимальной доводкой, приспособить для военных целей. Большой пассажирский
самолет легко становится грузовым… Или же превращается в тяжелый бомбардировщик.
Кроме того, самолет может служить и передвижным штабом. Но эта тема не обсуждается.
Пока.
…Заводскую стену пришлось разобрать. Самолет-гигант не проходил в ворота.
Рабочие с энтузиазмом вынимали кирпичи, чтобы освободить проход для чуда техники,
которое создали своими руками.
– Навались, ребята! – Десятки натруженных рук выкатили самолет из цеха через пролом
в стене.
Титана пришлось разобрать, чтобы доставить в Москву.
И вот «Максим Горький» занял место на Ходынском аэродроме.
– Красавец! – Рабочие, конструкторы, служащие – все любовались своим детищем.
Вроде бы, «старый знакомец» – многие трудились над его созданием не один месяц, —
но сейчас, когда он стоял, уже полностью готовый к полетам, «Максим Горький»
восхищал даже видавших виды пилотов.
Летчик-испытатель Громов качал головой. Неужели ему доверят впервые поднять эту
махину в воздух? О таком счастье можно только мечтать!
17 июня 1934 года, Ходынский аэродром
Свершилось!
Восьмимоторный гигант «Максим Горький» оторвался от земли.
Технические новинки, которыми был буквально нашпигован этот чудо-самолет, сейчас не
имели значения: ни пневмопочта, ни автопилот, ни собственная типография на борту.
Важно было другое: насколько самолет устойчив в полете, хорошо ли слушается
штурвала…

Что совершенно поражало – «Максим Горький» мог взлетать с небольших аэродромов.
Длина разбега составляла всего четыреста метров. А ТБ-4 требовалось в два раза больше!
Пилотажно-навигационное оборудование позволяло совершать даже ночные посадки на
неподготовленной местности…
Громов летал полчаса, затем посадил гиганта и некоторое время оставался в
неподвижности. Не хотелось покидать кресло.
– Чудесная машина, – проговорил он наконец, когда Туполев буквально навис над ним.
– В Москве ожидают челюскинцев, – сказал Туполев, показывая смятую в кулаке
газету. – Предполагается большой парад с участием самолетов. Как вы считаете, товарищ
Громов, сможете пролететь на «Максиме» над Красной площадью? Вы понимаете,
конечно, что означает полет над Красной площадью...
– Пролечу, – уверенно сказал Громов. – Машина не подведет. Действительно хороший
самолет.
Туполев громко усмехнулся и отошел. Но Громов видел, что конструктор очень доволен.
20 июля 1934 года, Москва
Анри Жерар уже пятый день знакомился со столицей Советской России. Он считал себя
независимым журналистом и готовил большой материал сразу для нескольких журналов.
Сейчас удачное время для такого визита: Советы обещали иностранным журналистам
полет на новом, уже знаменитом самолете «Максим Горький». Пусть, мол, весь мир знает
о достижениях русской авиации.
Конечно, полет этого самолета над Красной площадью, о котором трубили советские
газеты, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Анри читал об этом, но до сих пор не
мог поверить.
Неужели они решились не только построить такой гигант, но и пустить его в полет над
головами собственных граждан? Отчаянные люди. Впрочем, чего ожидать от русских… А
он сам, Анри Жерар, – разве не отчаянный тип, если собирается прокатиться на этом
чуде советской техники?
…Агитсамолет оказался огромным. Больше, чем мог вообразить Жерар. Семьдесят два
пассажира и восемь членов экипажа! Невероятно.
А отдельные каюты внутри самолета! Буфет! Телефонная станция! Киноустановка! В
полете можно смотреть фильмы, печатать собственную газету и делать радиопередачи!
Они назывались «Голос с неба».
Жерар записывал и технические детали: двойное управление, четырнадцать топливных
баков. Масса пустого самолета – почти тридцать тонн. Максимальный вес – пятьдесят
три тонны. Размах крыла – шестьдесят три метра.
Газетные и журнальные статьи захлебывались от восторга. Похоже, Советы
действительно ухитрились создать шедевр!
Правда, максимальная скорость «шедевра» – всего двести шестьдесят километров в
час… Но ведь это, в конце концов, не гоночный самолет и не истребитель!
17 мая 1935 года, Москва
Начальник ЦАГИ товарищ Харламов кивнул на стакан чая:
– Угощайтесь, товарищ Благин.
Летчик Николай Благин обхватил горячий стакан ладонями. Он был хмур.
– Опять летать с «бандурой»? – прямо спросил он. – Я ведь просил меня отстранить. Я
хочу просто испытывать новые самолеты, а не заниматься выкрутасами.
– Следите за языком, Николай Павлович, – остановил его Харламов. – Полеты
«Максима Горького» имеют огромное значение для авторитета нашей страны. Завтра
полетит кинооператор. Ваша задача – лететь рядом на И-5, чтобы показать разницу в
размерах между обычным истребителем и нашим чудо-гигантом.
– Ясно, – сказал Благин.
– Николай Павлович, – заговорил после паузы Харламов, – вы опытный летчик, летали
на «Муромцах», закончили высшую школу военлетов, работаете в ЦАГИ, стали ведущим
летчиком-испытателем при ОКБ Туполева... Летали, как мне сообщают, на всех типах
самолетов. Думаю, если поручить вам деликатное и сложное дело, вы справитесь.
Благин насторожился.
– А что если показать несколько фигур высшего пилотажа вокруг нашего гиганта?
– Вы прекрасно знаете, что это запрещено, – ответил летчик.
– Но вы бы справились? Задача сложнейшая.
– А потом меня посадят за воздушное хулиганство, – ровным тоном произнес Благин.—
Особенно учитывая мое происхождение.
Хотя Благин служил в Красной армии восемнадцатого года и был членом партии
большевиков, ему время от времени напоминали о том, что отец его был полковником
царской армии.

– Гарантирую – ничего с вами не сделают, – заверил Харламов. – Продумайте
завтрашний полет. Желаю вам удачи.
18 мая 1935 года, Москва, район поселка «Сокол»
Вокруг самолета-гиганта царила веселая суета. Пассажиры занимали места.
Это были сотрудники завода ЦАГИ с семьями. В качестве поощрения передовикам
производства было позволено совершить полет на чудо-машине, над созданием которой
они работали.
Командир корабля Иван Михеев улыбался перед камерой. Его немного смущало общее
внимание.
Ничего он так не любил, как полеты. Когда-то, будучи простым авиамехаником, он
переделал старый одноместный «Моран-Же» («Морже», как называли этот самолет в
русской армии) в двухместный: хотел научиться летать, а нужна была тренировочная
машина.
Стоя под громадным крылом «Максима Горького», Михеев, Благин и Рыбушкин уточняли
задачу.
– Благин на своем истребителе должен «оттенять» агитсамолет, демонстрировать
разницу размеров. Рыбушкин, ты ведешь машину так, чтобы оператору удобнее было
снимать.
– Это вам, товарищ Михеев, не из Москвы в Пекин гонять, – поддел Михеева
Рыбушкин, напоминая об участии командира в рекордном перелете двадцать пятого года.
– Здесь рекорд посерьезнее.
Благин был мрачен и разговора не поддерживал. Смотрел то на «Максима Горького», то
куда-то в пустоту.
– Не нравится мне эта затея, – выговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
Р-5 Рыбушкина поднялся в воздух. Благин на своем И-5 последовал за ним. С небольшой
задержкой взлетел «Максим Горький».
Гигант развернулся и поплыл по небу.
Оператору должно быть удобно снимать, помнил Рыбушкин. Поэтому он поднял Р-5
выше и пошел в пятидесяти метрах от левого крыла агитсамолета.

«Голос с неба» передавал марши, которые разлетались над Москвой.
Благин приблизился к «Максиму Горькому».
Конечно, описать вокруг большого самолета «петлю Нестерова», как предлагал товарищ
Харламов, не получится.
Благин заменил ее неправильной «бочкой» с большим радиусом.
Истребитель со снижением разогнал скорость и пошел на вертикаль, выполняя «бочку» с
большим радиусом.
Оказавшись над «Горьким» в перевернутом положении, Благин пропустил его вперед и
завершил эволюцию.
Истребитель перешел от одного крыла «Горького» к другому. С земли это и должно было
выглядеть чем-то вроде «мертвой петли».
Кинооператор, летевший на Р-5 с другой стороны от агитсамолета, бешено снимал.
– Что он делает? – вскричал Рыбушкин.
И в этот самый момент И-5 врезался в правое крыло «Максима Горького» около среднего
мотора.
Почти сразу вырвался клуб черного дыма.
«Максим Горький» накренился вправо. От него отделился черный капот и куски И-5.
Гигант продолжал лететь вперед, постепенно падая на нос. Затем оторвалась часть
правого крыла, отлетела часть фюзеляжа с хвостом.
Огромный самолет перешел в отвесное пикирование, ударился о деревья, рухнула на
землю и развалился на части.
– Нет! – Рыбушкин посадил самолет рядом с обломками «Максима Горького». – Боже
мой…
Повсюду разбросаны мертвые люди. Рыбушкин отчетливо видел маленькую девочку и
рядом с ней – подростка лет пятнадцати. Это были дети одного из сотрудников,
счастливые оттого, что им позволили полетать на чудесной машине…
Оператор прекратил съемку. Он понимал, что фильм придется отдать «куда следует»: там
запечатлены самые критические мгновения катастрофы...
19 мая 1935 года, Чикаго
Андрей Николаевич Туполев спустился в холл гостиницы. Предстояло выехать в Нью-
Йорк. Советские авиационные специалисты находились в Америке уже довольно долго.
Туполев подошел к выходу и буквально столкнулся с водителем автомобиля, который был
прикреплен к делегации.
– Андрей Николаевич! – Водитель протянул ему смятую газету. – Смотрите, смотрите,
что пишут! Погиб «Максим Горький»! Самолет, самолет погиб!
Туполев побледнел, тихо опустился в кресло. Архангельский, не веря услышанному,
пробежал глазами заголовок, взглянул на фотографию.
– Саша, – еле слышно произнес Туполев, – пошлите Харламову телеграмму. Пусть
телеграфирует… подробности…
19 мая 1935 года, Москва
Совещание открыл товарищ Сталин:
– Необходимо уточнить причины катастрофы. Подготовить правильное сообщение о
гибели самолета-гиганта.
Повисла пауза. Наконец Кольцов решился:
– Главный виновник катастрофы – летчик Благин, который самовольно решил
выполнить фигуры высшего пилотажа вокруг подвижного объекта. Воздушное ухарство,
ненужная удаль – вот что стало причиной гибели многих замечательных людей и
прекрасного воздушного корабля.
Опять повисло молчание. На сей раз решился Хрущев:
– Иосиф Виссарионович, а как быть с телом Благина?
Сталин пристально посмотрел на него и ответил:
– Хоронить со всеми. И вдове назначить персональную пенсию, как остальным.
Хрущев переглянулся с Харламовым и заметил в глазах того тревогу. Несомненно, Сталин
все знал. Поэтому и насчет семьи Благина распорядился…
…Товарищ Харламов будет расстрелян через несколько лет.
© А. Мартьянов. 21.09. 2013.

93. На пути к Прохоровке
2 июля 1943 года, южная часть Курского выступа, КП Воронежского фронта
Николай Федорович Ватутин буквально не находил себе места. Инстинкты
военачальника кричали ему: «Пора наступать!»
Активная оборона, которую вел Воронежский фронт, выматывала не только противника,
но и своего командующего.
– Хватит окапываться, – убеждал Ватутин – Верховного, представителя Ставки,
«соседей». – Упустим момент, упустим! Чего ждать? Противник сидит и не наступает, а
осень не за горами. Всѐ сорвется. Начнем первыми! Сил-то у нас достаточно.
Маршал Василевский – представитель Ставки Верховного Главнокомандования, – на
которого Ватутин давил, не переставая, колебался. Ватутин умел быть настойчивым и
убедительным, противостоять ему было трудно.
– Николай Федорович, повременим еще, – сказал наконец Василевский. – Уверен:
переход врага в наступление – вопрос ближайших дней. Если мы начнем первыми, это
будет немцу только на руку. Активная оборона его измотает, обескровит… Мы это уже
обсуждали.
– Между прочим, товарищ Сталин меня поддерживает, – перебил Ватутин.
– Товарищ Сталин приказал держаться обороны, – отрезал Василевский. Он отвел глаза
в сторону: ему, как и Ватутину, не терпелось начать.
4 июля 1943 года, район Обояни, деревня Успенов, штаб Первой гвардейской танковой
армии
Ватутин прибыл неожиданно.
Командующий танковой армией – Иван Ефимович Катуков – принял его гостеприимно,
предложил чаю.
– Умеете устроиться, товарищ Катуков, – одобрил командующий фронтом. —
Окопались, небось, по самые уши?
– Пока стоим во втором эшелоне, – ответил Катуков, – и окопаться успели, и занятия с
личным составом провели, и с соседями действия согласовали.
– Рассказывайте, – потребовал Ватутин и навалился на стол, грузный, уставший.
– Вы знаете, Николай Федорович, пока до места дислокации добирались – попали под
бомбежку. А наши ПВО – так себе, еле-еле душа в теле. Потеряли бы танки, если бы не
наши собственные зенитчики! А немцы в воздухе крепко держатся: их разведчики того и
гляди засекли бы нас.
– Так не засекли же? Вы, насколько я помню, ночью передвигались?
– И вениками следы заметали, – подхватил Катуков. – Увидит немец следы гусениц и
все поймет. Так что к машинам привязывали хворост. Казалось бы, примитивное
«устройство», а работает. Танки замаскировали тоже проще простого: поставили их
впритык к домам и сараям и сверху накидали «крышу»: с воздуха выглядит так, словно
дома и сараи разве что «подросли» на пару метров, а так – без изменений.
– Мастера маскировки, значит, – проговорил Ватутин. – Это хорошо. Что у вас с
матчастью?
– Это правда, Николай Федорович, что против нас будут действовать новые немецкие
танки – «Тигр» и «Пантера»?
– А куда они денутся, – ответил Ватутин. – Уж конечно, ждите.
– У наших ребят почти у всех вместо фото любимой актрисы теперь изображение
«Тигра», – сообщил Катуков. – По целым дням ведутся разговоры, как с этим зверем
справиться, где у него уязвимые узлы, как в него стрелять и метать гранаты.
– Подкалиберные снаряды вам доставили? – спросил Ватутин. – Приехал лично
убедиться, учтите.
– Убеждайтесь, – ответил Катуков спокойно. – По пять на действующий танк. Этого
мало, так что присылайте еще. Впрочем, и этого количества хватает, чтобы поднять
боевой дух.
– На одном боевом духе далеко не уедешь, – Ватутин вздохнул. – Будут еще вам
подкалиберные снаряды, будут. С пехотой что?
– И с пехотой, и с артиллерией совместные действия обсудили, отработали кое-что на
учениях.
Ватутин помолчал, и Катуков понял: командующий намерен перейти к одному из самых
наболевших вопросов.

Так и вышло.
– А как у вас обстоит взаимопонимание с авиацией?
К авиации у сухопутных войск набралось много претензий. Постоянно твердили о том,
что необходимо завоевать «господство в воздухе», но на деле господство прочно
удерживали немецкие асы.
Немцы демонстрировали хорошую слаженность войск. Не стоило благодушествовать,
зная, что у них не хватает артиллерии: недостаток одного рода войск они восполняли
другим, и авиация до сих пор неплохо прикрывала их наземное наступление.
Эту ситуацию следует переломить. Вот о чем говорил Ватутин.
Командующий танковой армией дернул углом рта. Вопрос раздражал и его.
– Общее дело делаем, делить нам нечего, – сказал он наконец, словно заканчивая
какой-то давний спор. – А что ошибки случались…
Николай Федорович вспыхнул:
– Ошибки? Скажите прямо: несколько случаев уже произошло, когда наши авиаторы по
ошибке штурмовали наши же войска. С ними разбирается «смерш», между прочим.
Катуков пожал плечами:
– Не мое это дело, надо – разберется. А мы вот что сделали – пригласили к себе в
Успенов командиров двух авиационных корпусов – истребительного и штурмового. В
предстоящем бою они будут прикрывать нас с воздуха, если мы правильно понимаем ход
событий.
– Правильно понимаете, товарищ Катуков, – Ватутин допил чай. – Рассказывайте.
Катуков развеселился:
– Авиаторов прибыло видимо-невидимо: и старшие командиры, и младшие, вплоть до
комэсков и командиров звеньев. Весь чай у нас выпили, не поверите, Николай Федорович!
– Только чай? – прищурился командующий фронтом.
Катуков посмотрел на него ясными, честными глазами:
– Только чай, – повторил он. – Кстати, не хотите ли коньяка?
– Не могу, – сказал Ватутин.
Катуков рассмеялся от души:
– И я не могу – желудок болит… Похоже, вся радость жизни комэскам достанется...
Сели мы с ними за стол, разложили карты и подробненько все обсудили: где кто будет
находиться, как будет обозначен передний край наземных войск. Чтобы больше своих не
бомбили и не штурмовали.
– Ну, добро, – проговорил после паузы Ватутин. – Теперь вот что. Мы в штабе фронта
считаем, что главный удар противник нанесет на Обоянь, в вашем направлении – и в
направлении вашего ближайшего друга и соседа, Шестой общевойсковой армии
Чистякова. Вы же дружите с Иваном Михайловичем? Вот вместе в бой и пойдете. Будьте
готовы.
– Всегда готовы, – машинально ответил Катуков.
5 июля 1943 года, деревня Успенов, штаб Первой гвардейской танковой армии
Катуков вышел на двор из избы. Не спалось.
Наступал жаркий летний день. В яблоневых садах пели птицы, деревня дремала. Солнце
едва показалось из-за горизонта.
Катуков поежился. Не верилось, что скоро всему этому настанет конец. Ватутин не сказал
прямо, но мысль командующего была очевидна: Первая гвардейская станет
бронированным щитом в направлении главного удара.
Словом, держись, Иван Ефимович…
В небе раздался тяжелый гул. Катуков поднял голову: большими группами самолеты шли
на юго-запад.
«Красовский начал работу», – подумал Катуков.
Вторая воздушная армия, которой командовал Степан Акимович Красовский, поднялась в
воздух – сражение началось.
На улицу выбежал дежурный офицер:
– Иван Ефимович, штаб фронта!
Катуков вошел в штабную избу, взял трубку.
Ватутин говорил задыхаясь, как будто только что поднялся по лестнице:
– Командование приняло решение нанести по врагу упреждающий удар. Началась
артиллерийская подготовка. Противник намерен вырваться на Обояньское шоссе и
попытается мощным танковым ударом пробить нашу оборону. Манштейн, похоже, будет

действовать по шаблону – то же самое он делал под Сталинградом. Выдвигайтесь на
вторую полосу обороны Шестой гвардейской армии, к Чистякову.
5 июля 1943 года, Малоархангельск
Немцы двинули свои танки под плотным прикрытием авиации.
Самолеты с крестами шли тремя эшелонами.
Командующий Шестнадцатой воздушной армией генерал Руденко оставался возле
аппарата, выслушивая донесения и сердясь на их сбивчивость:
– Сколько?
– Насчитали до шестидесяти He.111, товарищ командующий, с ними истребители
прикрытия.
– Сколько, сколько истребителей?
– Много, товарищ командующий! Второй эшелон, по отчетам наблюдателей, – с
полсотни He.111 и с ними Ju.87. FW.190 не более двадцати.
– Какая дистанция?
– Три-четыре километра. И третий эшелон – тоже в четырех километрах: двадцать
бомбардировщиков и примерно сорок истребителей. Бомбардировщики идут на разных
высотах. Это усложняет работу зениток.

Руденко отдал приказ, и в воздух поднялись истребители Шестого истребительного
авиакорпуса и соколы Первой гвардейской авиадивизии.
Уже перевалило за полдень. Руденко подозревал, что пехота неоднократно высказалась
по поводу бездействия советской авиации. И черт побери, пехота права.
5 июля 1943 года, аэродром Фатеж – район Понырей
– Наша задача – прикрывать сухопутные войска, – сказал командир звена майор
Калмыков. – И вот еще что, соколы: с командного пункта дважды уже передавали
категорический приказ – уничтожать только бомбардировщиков! Вы поняли?
Летчики-гвардейцы помалкивали. Они знали, какие обвинения могут воспоследовать:
истребители действительно часто увлекаются боем с другими истребителями.
Немцы не хуже наших знают азартный характер, который приводит пилота в
истребительную авиацию. Личный счет сбитых врагов, захватывающие воздушные
поединки…
– Нам предстоит работа, – подчеркнул командир. – Работа, а не «свободная охота».
Эти приключения – не сейчас. Наземные войска ведут тяжелейшие бои, немцы
прорываются. А их авиация продолжает хозяйничать в небе и бомбить наши танки.
– Ясно, – пробурчал младший лейтенант Шерстнев.
– Хорошо, что тебе это ясно, Шерстнев, – повернулся к нему командир. – Еще раз
повторяю: только бомбардировщики! Помните, под Сталинградом, – лицо командира
чуть смягчилось, – Илья Чубарев таранил «Фокке-Вульф»? И ничего, жив остался.
Слабое место у самолета – хвостовое оперение. Его можно срубить винтом. Подходить,
понятно, в таких случаях приходится на малой скорости, а это почему опасно? Можно
попасть под сильный огонь неприятеля. В общем, решайте сами, а задача вам ясна. – Он
понизил голос: – В районе Понырей сейчас Рокоссовский и командующий Шестнадцатой
воздушной армией Руденко. Так что биться будем, можно сказать, над самой головой у
начальства.
Четверка Яков поднялась с аэродрома. Поляков шел ведомым у командира звена.
– Мотор барахлит, – Калмыков выругался страшными словами и повернул Як обратно
к аэродрому.

Истребителей осталось трое: пара Маркевич – Шерстнев и одиночкой Поляков.
Над Понырями действительно было черно от вражеской авиации. Несколько групп
бомбардировщиков подходили с разных направлений.
«Только бомбардировщики!» – твердил Поляков.
В этот момент истребители прикрытия набросились на тройку Яков, и двое из них
ввязались в воздушный бой.
Поляков прорвался к бомбардировщикам.
Он шел один, но не испытывал страха. Предстоит работа, как сказал командир звена.
Качнул крыльями друзьям – все в порядке.
«Хейнкели» заметили одинокий «ястребок» и открыли по нему бешеный огонь. Стрелял
не один, не два – сразу шесть самолетов.
Уводя машину из-под выстрелов, младший лейтенант подобрался к вражеским
бомбардировщикам на пятьдесят метров.
«Мессеры» пришли на помощь своим бомбардировщикам: новая очередь настигла Як-1, и
машина загорелась. Пробит был бензобак и водный радиатор.
– Ах, ты так? – пробормотал младший лейтенант. – А ты знаешь, что у меня четкая
боевая задача: не допустить бомбардировщики к нашим позициям? Я больше моего
командира боюсь, чем тебя!
Он засмеялся. Никого он не боялся.
Як-1 оставлял в небе дымный хвост. «Хейнкеля», видимо, уже списали истребителя со
счетов: враг подбит – чего больше желать?
На горящей машине Поляков приблизился к ведущему группы бомбардировщиков – на
тихой скорости, осторожненько. И так же аккуратно винтом и горящей правой
плоскостью летчик отрубил хвост «Хейнкелю».
Бомбардировщик рухнул на землю.
Остальные растерялись – строй рассыпался, четко выстроенная атака разрушилась,
выход на цель сорвался…
– Пора. – Летчик выбросился из своего горящего Яка с парашютом.
…На земле за ходом боя действительно наблюдали Рокоссовский и Руденко.
– Кто это у тебя так геройствует? – спросил Рокоссовский.
– Скоро узнаем, Константин Константинович, – ответил Руденко.
На командный пункт доставили летчика: он был ранен в руку, весь в пыли, но глаза
блестели.
– Это ты сейчас «Хейнкеля» протаранил? – Руденко пошел к нему навстречу и раскрыл
объятия. Затем отстранился: – Да ты, брат, на ногах не стоишь. В медсанбат тебя, срочно.
– Риска большого не было, товарищ командующий, – отозвался младший лейтенант. —
Все же опробовано на практике. Я видел, как другие это делают. Самолет жалко, но его
все равно изрешетили.
Летчик отсалютовал и ушел, а Рокоссовский сказал:
– Представить к званию Героя.
…Герой Советского Союза Виталий Константинович Поляков пройдет всю войну и уйдет
из жизни в двадцать первом веке – в 2012 году.
6 июля 1943 года, 1 час, район Курска
Ватутин не находил себе места. Огромные потери ни к чему не привели: стало ясно, что
оборона Воронежского фронта может быть прорвана.
Против Ватутина стояла мощнейшая вражеская группировка. А от бомбардировщиков
скрыться негде – лесостепь, открытые пространства.
Немцы наносят массированные удары, сбрасывают бомбы и возвращаются, ходят по
кругу – эдакая «карусель смерти».
А наши? Героев много, бьются – себя не жалеют, этого не отнять. Но сколько ни тверди
истребителям, что им следует сосредоточиться на вражеских бомбардировщиках, а
распыления сил не избежать.
Атакуют поэшелонно, по высотам, увлекаются индивидуальными поединками – а
He.111 тем временем безнаказанно бомбят наши позиции.
Какой смысл бросать на крупные ударные группировки наши маленькие, слабые группы?
Нет, решение нужно менять.
Ватутин позвонил Руденко. Тот был готов к разговору:

– По крупным скоплениям вражеских танков и пехоты на поле боя будем наносить
сосредоточенные удары большим числом бомбардировщиков и штурмовиков. А в
промежутках между сильными атаками – действовать мелкими группами штурмовиков.
Но – непрерывно!
– А времени на подготовку хватит?
– Нет, – честно ответил Руденко. – Сделаем, что можем.
Положив трубку, Ватутин собрался с духом и позвонил Сталину:
– Товарищ Иванов, – обратился он к Верховному по псевдониму, – возникла опасность
прорыва.
Знакомый голос произнес после короткой паузы – как обычно, спокойный, но оттого не
менее страшный:
– Вы понимаете, товарищ Николаев, – он тоже прибег к псевдониму, – что это будет
катастрофа?
«Товарищ Николаев» молчал.
– Какую вы от меня хотите помощь? – голос Верховного чуть смягчился.
– Еще танки и еще самолеты, – сказал Ватутин.
– Я подумаю, – обещал Сталин. – У Ставки есть резервы. Ждите.
После этого Сталин связался со штабом Степного фронта.
Над землей лежала ночь, спали измотанные долгим сражением люди – танкисты и
летчики, артиллеристы и «царица полей».
Но многие бодрствовали в эту теплую ночь на шестое июля: механики и врачи, радисты и
командующие…
– Вашу армию перебрасывают на Воронежский фронт, – сообщил Сталин генерал-
лейтенанту Ротмистрову, командующему Пятой гвардейской танковой армии. – Срочно.
Как поедете?
– Своим ходом, – мгновенно ответил Ротмистров.
– А танки из строя не выйдут, если их гонять туда-сюда? – спросил Сталин. – Не
лучше ли по железной дороге?
– А если авиация противника разбомбит железнодорожные пути? – тотчас задал
встречный Ротмистров. – Это очень опасно – потеряем армию.
– Как пойдете? По ночам?
– Ночь сейчас – семь часов, слишком долго придется ползти. Нет, пойдем и днем.
– Днем же будут бомбить! – напомнил Сталин.
– Товарищ Иванов, дайте указание авиации прикрывать нас с воздуха, – попросил
Ротмистров. – Дойдем быстро, обещаю.
– Желаю вам успеха, – сказал Сталин и положил трубку.
…Пятая гвардейская танковая армия шла своим ходом к Воронежскому фронту,
передвигаясь днем и ночью. Немецкая авиация ее не тревожила – была слишком занята