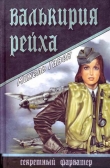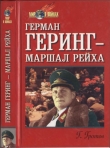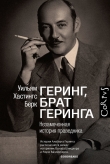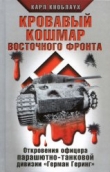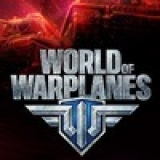
Текст книги "Unknown"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Капитан Ованесов и капитан Докучалов, поручик Руднев, поручик Когутов, капитан
Горшков, иностранный «студент» – болгарин Черкезов... Все они – ученики Лебедева.
И среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-пилот.
В своей приветственной речи Лебедев, как всегда, немного копирует Анри Фармана. Что
поделать! Учитель – если он хороший учитель – всегда оставляет след в душе ученика.
19 ноября 1913 года, Петербург
Господин Ломач смотрел на Владимира Александровича холодно, поджав губы.
– Вы настаиваете на том, что пожар произошел от неосторожности?
– Разумеется, – пожал плечами Лебедев. – В мастерской много деревянных деталей, а
также хранилось горючее. Загорание могло произойти от любой случайности.
– А то, что мастерская была выгодно застрахована, – это тоже случайность? —
настаивал коммерсант.
– Нет, – покачал головой Лебедев. – Каждый разумный предприниматель страхует
свое предприятие. Уж вам ли этого не знать! Но ваших намеков на то, что я нарочно
поджег мастерскую ради страховых денег, я понимать не желаю.

Лебедев организовал мастерскую по ремонту чужих самолетов и изготовлению
воздухоплавательных винтов и иных видов пропеллеров для аэропланов и дирижаблей. И
когда мастерская сгорела, получил достаточно денег для устройства собственного завода.
Что бы там ни намекали недоброжелатели, а теперь Лебедев был независим.
Новое «Акционерное общество воздухоплавания» Лебедев учредил «для дальнейшего
развития существующего в Петербурге завода предметов воздухоплавания, для постройки
всякого рода летательных аппаратов и для эксплуатации привилегий на изобретения в
области воздухоплавания», как значилось в одобренном властями уставе.
7 апреля 1914 года, Петербург
Участок близ Комендантского аэродрома был идеален для заводских зданий.
– Договор аренды подписан, – Лебедев просмотрел бумаги еще раз. – Мы можем
начинать строительство.
Брат Владимира Александровича – Алексей Александрович – заложил руки за спину,
осматривая новое «семейное владение».
– Хорошо здесь, – подытожил он. – И аэродром рядом, и электростанция. Теперь нам
остается лишь получить хорошие заказы.
– Я думаю, следует сосредоточиться не столько на разработке собственных аппаратов, —
высказал свою заветную мысль Владимир Александрович, – сколько на копировании уже
имеющихся образцов. Мы хорошо сэкономим на испытании, да и с изобретателями иметь
дела не придется. Больно уж они народ капризный.
– У меня уже есть наметки, – подхватил Алексей Александрович. – «Депердюссен-
разведчик», французский самолет. В прошлом году он занял третье место на конкурсе
военных аэропланов. Неплохо бы и в России иметь подобные. Я выскажу идею в журнале,
подтолкну Великого Князя – шефа авиации – к идее дать нам такой заказ.
– Начало положено!
Братья пожали друг другу руки.

– Как будут называться наши самолеты? – спросил вдруг Алексей Александрович. —
Не хочется брать иностранные названия. Все-таки это русские аэропланы, хоть и
сделанные по образцу французских.
– А как нас в гимназии звали, помнишь? – Владимир улыбнулся. – Вот так и назовем.
«Лебедь»! И слово красивое, и на нашу фамилию указывает.
2 декабря 1914 года, Петербург
– Здравствуй, «Лебедь-VII»! – Владимир Александрович приветствовал новый самолет.
Уже не маленькая мастерская, а целый завод принадлежал Лебедеву. После строительства
нескольких копий различных иностранных самолетов был взят наконец надежный,
хорошо зарекомендовавший себя на фронте английский образец – «Сопвич таблоид».
В Петербурге аналог «англичанина» получил наименование «Лебедь-VII».
«Седьмой» ничем не отличался от прототипа. Как и «Сопвич таблоид», это бы
одностоечный биплан с мотором «Гном» мощностью в восемьдесят лошадиных сил.
Фронт уже ждал новую машину, и в 21 КАО (Корпусный Авиаотряд» поступило
несколько экземпляров.
22 декабря 1914 года, Петербург
Шеф русской авиации Великий Князь Александр Михайлович запечатал конверт.
В письме он запрашивал у командира 21 КАО касательно пригодности «Лебедя-VII» для
ведения боевой работы.
У авиаторов было достаточно времени, чтобы оценить этот аппарат. Имеет ли смысл
заказывать Лебедеву новые экземпляры этой машины или же следует переключаться на
другие?
Необходимо наладить производство пригодного для войны самолета на отечественных
заводах. И сделать это следует как можно скорее. Авиатехники катастрофически не
хватает.

Если летчик теряет самолет и при крушении сам остается жив, то воевать ему уже не на
чем. Один пилот – одна машина. Безлошадный «летун» вынужден отправляться в
Петербург или Москву за новым аппаратом.
Зарубежные же поставки шли плохо, медленно.
30 декабря 1914 года, Петербург
Ответ из 21 КАО пришел быстро, но содержание послания разочаровало Великого Князя.
Поручик Верницкий, летчик 21 отряда, летавший на «Лебеде-VII», сообщал лаконически:
«Летать приходилось мало. Полеты не раскрыли всех возможностей данного аппарата.
Однако уже сейчас могу сообщить, что при равной скорости с «Мораном» «Лебедь-VII»
имеет лучший обзор. Спуск на нем легче. Однако как одноместный для военных целей он
нежелателен».
Великий Князь тотчас продиктовал телеграмму Лебедеву.
Основываясь на оценке боевого пилота, шеф русской авиации пришел к выводу: армия
отказывается от серийной постройки «Лебедя-VII». Оставшиеся экземпляры этого типа
следует передать в Гатчинскую авиационную школу, где они будут использованы в
качестве учебного аэроплана.
Для Владимира Лебедева это не стало ударом: «Лебедь-VII» не был его детищем, его
разработкой, над которой он бы дрожал, как мать над ребенком. В мире полно других
самолетов. Следует выбрать еще более удачный и скопировать его.
17 мая 1915 года, Галиция
– Ну вот и все, прощай, мой верный «Лебедь»! – Поручик Верницкий похлопал
аэроплан по фюзеляжу.
– Прямо какое-то расставание Александра Македонского с Буцефалом! – засмеялся
другой летчик, поручик Синицын.
Верницкий чуть покраснел:
– Можешь не издеваться. И всадник прощается с боевым конем, а уж мы с моим
«Лебедем» немало налетали! Более тридцати воздушных разведок. Помнишь, 2 апреля как
долго я держался на этом аэроплане в воздухе?
– Больше двух часов, – признал Синицын.
– Два с половиной, – поправил Верницкий. – И аппарат не подвел. А теперь
приходится все-таки сдавать его в тыловой авиапарк для ремонта. Поизносился.
– Что ж, человек прочнее аэроплана, – кивнул Синицын. – Что давно уже доказано
боевой практикой.
5 февраля 1917 года, Гатчина
«Лебедь-VII» шел на спуск.
– Криво ведет, – высказал мнение один из курсантов школы.
Он посмотрел на инструктора и понял, что не ошибся: лицо инструктора было бледным,
губы сжаты.
– На себя, на себя бери! – крикнул он, как будто пилот мог его услышать.
Одноместный маленький биплан не сел, а рухнул на поле.
Летчик – поручик Циргиладзе – почти не пострадал.
А вот «Лебедь-VII» погиб.
Это был последний аппарат, построенный на заводе Лебедева по образцу «Сопвича».
© А. Мартьянов. 24.03. 2013.

57. Лебедь-разведчик
5 июня 1915 года, Петроград
Владимир Александрович Лебедев перечитывал коротенькую заметку в газете, волнуясь
все больше и больше. Непроизвольно он скомкал газетный лист в кулаке.
Наши бесстрашные летчики заставили германский самолет «Альбатрос» совершить
посадку в расположении русских войск.
Что это значит?
Для сотен читателей газеты – лишь известие о новом подвиге авиаторов. Но для
Лебедева, владельца завода, где ремонтируют самолеты и создают новые аппараты, это
означало нечто совсем иное.
Германский двухместный биплан «Альбатрос», спроектированный в начале
четырнадцатого года Эрнстом Хейнкелем, теперь практически властвовал во фронтовом
небе.
Лебедев не столько создавал собственные самолеты, сколько копировал уже имеющиеся
образцы. Иногда пытался их совершенствовать, но без особого успеха. А вот сейчас
появилась возможность получить возможность построить копию столь успешного
аэроплана противника – да о таком можно только мечтать!
Он разгладил и еще раз перечитал газету.
«Альбатрос В». Отличная машина. Как раз то, чего не хватает русской армии.
Как и все машины лебедевского завода, она будет называться «Лебедем», порядковый
номер – XII.
Да и получить заказ на ремонт самолета тоже заманчиво. Правительство платило за
отремонтированные трофейные самолеты столько же, сколько за аппараты новой
постройки.

Владимир Александрович положил перед собой лист почтовой бумаги и написал первое
прошение.
28 декабря 1915 года, Петербург, Комендантский аэродром
Поручик Гренадерского корпусного авиаотряда Слепцов представился Лебедеву:
– Для испытаний нового аппарата прибыл! Специально откомандирован с фронта.
Лебедев дружески поздоровался с ним за руку. Слепцов знал, что владелец завода – не
просто промышленник, он и сам бывший летчик, один из первых, кто получил летную
лицензию из рук самого Анри Фармана.
Стало быть, и над самолетом он работал со знанием дела, думал Слепцов.
Лебедев показал ему аппарат.
– В сущности, это тот же «Альбатрос», только, так сказать, прирученный. Теперь хищная
птица будет слушаться русской руки!
Он оставил авиатора знакомиться с самолетом наедине.
Слепцов долго присматривался к самолету, потом попробовал поднять машину в воздух.
Великий Князь получил первое донесение:
«Лебедь-XII с мотором «Сальмсон» – лучше все существующих аэропланов. Я считаю,
необходим немедленный заказ для боевых испытаний».
Самолет развивал скорость до ста двадцати километров в час и набирал высоту в две
тысячи метров за двадцать минут.
Слепцову понравилась жесткая установка двигателя и отсутствие вибраций.
Лебедев слушал доклад пилота внимательно. Он видел, что поручику аэроплан в
принципе очень понравился. Кстати, сам Лебедев определенно знал: «Лебедь-XII» лучше
«Альбатроса». Это не слепая копия, а чуть-чуть усовершенствованная.

До сих пор усовершенствования, вносимые в уже опробованные модели, не приносили
Лебедеву ни престижа, ни дохода. (Как он и подозревал с самого начала!) Но «Лебедь-
XII» не содержал ничего принципиально нового. Просто другой мотор.
Германские «Альбатросы» летали с рядным двигателем жидкостного охлаждения
«Мерседес» – в сто, сто пятьдесят лошадиных сил и «Бенц» – в сто двадцать и сто
пятьдесят лошадиных сил. На заводе Лебедева восстановили около десятка таких
аэропланов.
Так что возможность изучить конструкцию у него была. А вот мотора «Мерседес» – не
было. Пришлось воспользоваться единственным доступным мотором – фирмы
«Сальмсон».
В Москве открылся филиал компании, где эти двигатели собирали из импортных деталей.
Именно их и получал Лебедев для своих русских «Альбатросов».
– У меня вот какие замечания, – продолжал Слепцов, – следовало бы переделать
патрубки для отвода выхлопных газов так, чтобы те не попадали в кабину. Далее, стоит
увеличить козырек кабины летчика. И наконец – поставить броню для пилота и
наблюдателя.
– Сделаю! – обещал Лебедев.
– Ну и полезная нагрузка самолета, мне кажется, маловата, – заключил Слепцов. —
Увеличить бы килограммов на пятьдесят.
– Я еще думаю поставить две пулеметных установки, – неожиданно заявил Лебедев.
11 февраля 1916 года, Одесса
Железнодорожный состав остановился.
На этом поезде в южный город прибыл необычный пассажир – самолет «Лебедь-XII».
Продолжать испытания аэроплана было необходимо, но в Петрограде из-за традиционно
плохой в этой время года погоды поднять машину в воздух стало невозможно.
Пришлось перебазироваться туда, где ясное небо и светит солнышко.
Полеты продолжатся здесь.
Владимир Александрович нервничал. Ему не нравилась затея с передачей его
прирученного «Альбатроса» в чужие руки – на одесский авиационный завод «Анатра».
Только острая нужда фронта в летательных аппаратах заставила его согласиться.
15 февраля 1916, Одесса
Ну вот наконец и долгожданный испытательный полет.
Шеф-пилот «Анатры» вывел самолет из ангара и начал рулежку по аэродрому.
И... на глазах у «потрясенной толпы» (как писали газеты) самолет перевернулся.
Лебедев, холодея, прочел телеграмму, сидя у себя в конторе на Васильевском острове в
Петрограде:
«Необходимый ремонт аппарата займет две недели. Его можно произвести на месте и
затем продолжить полеты».
Ремонт!.. Его собственного самолета!.. Лебедев слишком хорошо знал, как можно много
выяснить о конструкции аэроплана, если разобрать его и начать ремонтировать. Сам
занимается такими вещами не один год.
Оглянуться не успеешь – а конкуренты уже начнут выпускать «птичку» под каким-
нибудь новым названием.
Нет. Исключено.
Владимир Александрович потребовал вернуть самолет в Петроград.
17 мая 1916 года, Петроград
Послание от Великого Князя Александра Михайловича было раздраженным.
Шефа русской авиации интересовал «неожиданный» вопрос: где, в конце концов, русский
«Альбатрос»? Когда можно будет иметь его на фронте?
Лебедев ответил сдержанно, с чувством глубокого достоинства. Рассказал, как на
«Анатре» угробили образец. Как вместо того, чтобы ремонтировать «вконец разбитый»
аэроплан на заводе Лебедева было принято решение строить новый. Лучший по
сравнению с образцом.
«Испытания начнутся в июне и, Бог даст, через месяц этот самолет уже встанет в строй».
31 июля 1916 года, Петроград
Поручик Барбас, летчик 13 Корпусного Авиаотряда, поднял в небо «Лебедя-XII». Он
отправлялся прямо на фронт на новой машине.
Владимир Александрович с волнением ждал известий. Спустя три с половиной часа из
Пскова пришла телеграмма: «Прибыл благополучно. Мотор работает хорошо, аэроплан в
целом не вызывает нареканий. Беру курс на Двинск».
Во Пскове Барбас пополнил запас горючего и скоро вылетел опять. Из Двинска пришло
новое известие – спустя два с половиной часа: «Прибыл, нареканий почти нет: при
полете аппарат тянет книзу, приходится удерживать его ручкой управления».
«Склонность к пикированию», записал у себя Лебедев. Русский «Альбатрос», к
сожалению, до сих пор не идеален. Нужно будет доработать конструкцию. И выхлопные
газы в кабине пилота... Еще одна «головная боль» – во всех смыслах.
А между тем правительство уже заказало заводу Лебедева поставку 225 самолетов типа
«Лебедь-XII». Завод, согласно договору, поставляет аэропланы без двигателей и
воздушных винтов по цене в тринадцать с половиной тысяч за аппарат. И комплект
запчастей – еще на шесть тысяч восемьсот рублей.
Некоторая экономия тут наблюдалась: основной материал для постройки самолета
предполагался отечественный. Приборы и оборудование, правда, оставались
зарубежными.
Двигатель – все тот же «Сальмсон» – и воздушные винты поставлялись для «Лебедей»
военным ведомством.
4 октября 1916 года, Петроград
– Хорошо бы нам в октябре уже завершить весь комплекс летных испытаний и сдать
первую партию серийных «Лебедей» для фронта, – высказал пожелание Владимир
Александрович.
Шеф-пилот завода Гончаров кивнул на поручика Корвин-Круковского, военного летчика-
наблюдателя:
– Это уж от решения господина летнаба зависит. К самолету у меня претензий нет. Но
как поведет себя аппарат, имея пулемет «Кольт» и пятьдесят килограммов бомб?
– Вот и испытаем, – улыбнулся Корвин-Круковский.
«Лебедь-XII» с пулеметом на турельной установке конструкции Шкульника поднялся в
воздух.
За восемь с половиной минут русский «Альбатрос» набрал высоту в тысячу метров, за
сорок одну – три тысячи четыреста (это был потолок).
После благополучного приземления началось обсуждение.
– Хорошо бы органы управления самолетом установить не только в задней кабине, но и в
передней, – высказал пожелание поручик Корвин-Круковский.
– По мне так, опять самолет «висит на ручке», склонен пикировать, – вздыхал Гончаров.
– Повозиться с ним приходится.
– Но в целом как – безопасен? – настаивал Лебедев.
Гончаров пожал плечами:
– Мы же благополучно летали!.. При известном навыке – вполне безопасен. В качестве
разведчика ближнего тыла – так вообще идеальный самолет. – Он помялся: – Ну и
выхлопные газы в кабине... Неужто от этого никак не избавиться?

– Я доработаю конструкцию, – обещал Владимир Александрович.
6 января 1917 года, Петроград
– К 1 марта мы обязаны выполнить государственный заказ, – объявил Владимир
Александрович своим работникам. – А то сейчас в действующей армии находятся всего
шесть «Лебедей-XII». А должно быть – свыше двухсот!.. К производству подключился
завод Слюсаренко, что вызвано исключительно нуждами нашей армии.
Лебедев поперхнулся. Не будь сейчас войны – он бы и на пушечный выстрел не
подпустил конкурента к образцу «своего» самолета. Но – война...
«К счастью», Слюсаренко не потянул заказ – построил всего четыре машины.
У Лебедева размах и мощности другие. Он сделает двести аппаратов. Командование
русской армии рассчитывает, что «Лебедь-XII» – русский «Альбатрос» – заменит
устаревший «Вуазен».
Что такое «Вуазен»? Просто «летающие проволочные заграждения», как говорят летчики.
А «Лебедь» – современный аппарат, который к тому же оснащен пулеметом.
Годится он и для разведки, и для фотографирования позиций противника, да и для
бомбардирования. Может корректировать артиллерийский огонь.
Все так, да только вот «Вуазен» – при всей его устарелости – прочный, живучий,
надежный. А вот «Лебедь-XII» – другое дело.
Поторопились Гончаров с Корвин-Круковским. Скорей, скорее отправить самолет в
действующую армию – вот о чем думали в первую очередь.
А уж в ходе боев начали выясняться неприятные вещи. Самолет все так же стремился
спикировать к земле. И все так же летели в кабину экипажа выхлопные газы.
Случалось, подсасывание горячих выхлопных газов в щели между нижним крылом и
фюзеляжем приводило к пожару.
Горели и двигатели. Как-то раз взорвался карбюратор и начался пожар. Но во всех
случаях летчики оставались живы. Аэропланы, правда, спасти не удавалось.

8 июня 1917 года, Северный фронт
– Никуда не годится этот «Лебедь», – заметил прапорщик Тихомиров. – Не лебедь, а
ворона какая-то. Так и норовит нас угробить.
– Ты сам угробил самолет, – засмеялся его приятель, подпоручик Сытин. – Спалил
машину дотла, а сам отделался легким ожогом на руке.
– Он сам себя спалил дотла, – буркнул Тихомиров. – Что-то долго не возвращается
Добровольский.
– Отстал по обыкновению, – ответил Сытин. – Его летнаб увлекся
фотографированием.
– Нет, вот он!.. Летит! – Тихомиров вскочил. – Что происходит?
«Лебедь-XII», пилотируемый поручиком Добровольским, появился над лесом. Вторым
был летнаб поручик Кундзин. Самолет благополучно возвращался с задания. И вдруг... на
высоте трехсот метров у самолета сложилось правое крыло, и он рухнул на землю.
Оба авиатора были мертвы.
16 июня 1917 года, Петроград
Особая комиссия под председательством профессора Ботезата начала работу по фактам
множественных аварий самолета «Лебедь-XII».
По очереди выступали другие члены комиссии – фронтовые авиаторы прапорщик
Бажилевич-Княжковский и поручик Левченко.
Приводились факты, изучались эпизоды катастроф.
«Самолеты «Лебедь-XII» улучшить невозможно, – звучал неутешительный вывод
комиссии. – Отправка их на фронт нежелательна. Возможно использовать эти самолеты
только в качестве тренировочных в авиашколах, но необходимо учитывать, что учебный
вариант самолета обладает еще худшими данными, нежели серийный».
Протокол комиссии прозвучал для Лебедева похоронным набатом. Он заперся у себя на
квартире и не отвечал на звонки.
Заводские летчики Гончаров и Михайлов были возмущены до глубины души.
– Какая ерунда! – горячился Гончаров. – Да я сто раз летал на этом самолете и могу
лично подтвердить, что он хорош и безопасен!
– Дело все в том, что в комиссии были малоопытные пилоты, – высказал
предположение Михайлов. – Да и председатель наверняка точит зуб на Владимира
Александровича. Все это подстроено. Мы налетали на «Лебеде-XII» по двести пятьдесят
часов каждый, мы поднимали в воздух сто шестьдесят машин из двухсот. Что же, это
плохая машина? Вот же мы, живые и невредимые!
– Надо писать протест! – решил Гончаров.
2 октября 1917 года, Гатчина
«Самолет «Лебедь-XII» устарел и для фронтовой работы непригоден. Скорость его
недостаточна. Он обладает рядом неустранимых конструктивных недостатках в
топливной и охладительной системах двигателя. Дальнейшая постройка этого типа
аэроплана нежелательна».
К такому окончательному выводу пришла созданная для решения спорного вопроса новая
комиссия. Она состояла из представителей фронтовых летчиков, инструкторов
Гатчинской авиашколы, Управления Военно-Воздушного флота и завода Лебедева.
Владимир Александрович проиграл свой «решительный бой».
А через несколько дней грянула Октябрьская революция.
20 ноября 1917 года, Комендантский аэродром
– Ну что, товарищи, – заговорил комиссар, – теперь, значит, все это летное богатство
– наше. И наше советское правительство, дорогие красные летчики, хочет знать: какой
самолет, стало быть, лучше. Вот тут у нас – «Лебедь-XII», «Анасаль», «Фарман».
Давайте их теперь испытаем и скажем собственные выводы.
...Собственные выводы краслетов отчасти совпадали с мнением фронтовых авиаторов:
«Лебедь-XII» имел склонность к пикированию, а пулеметная установка у него точно
«малоудобная».
– А вообще конструкция прочная и видно, что разработано тщательно и с душой, —
заключил краслет, диктуя протокол. – Разведчик «Лебедь-XII» вполне подойдет для
нашей Красной Армии.
© А. Мартьянов. 24.03. 2013.

58. «Старик»
9 марта 1930 года, Лейпциг
Профессор Иоганн Вернер протер свои круглые очки в тонкой золотой оправе и с
сочувственным интересом уставился на молодую женщину.
Та положила перед ним пачку листков, исписанных неразборчивым готическим почерком.
– Что это? – осведомился Вернер.
– Я хочу, чтобы это было напечатано! – решительно произнесла молодая дама.
Вернер взглянул на листы, но не притронулся к ним.
– Расскажите мне немного об этих бумагах, – попросил он. – Я бы хотел, так сказать,
услышать предисловие прежде, чем начать читать.
– Это письма одного военного летчика, написанные им своей невесте, – ответила гостья.
– Сейчас, когда Германии запрещено иметь боевые самолеты, когда мы унижены и не
смеем вспоминать о своих героях... – Она не закончила.
– Хорошо, – серьезно произнес профессор. – Думаю, мы можем издать их как... своего
рода документальный любовный роман.
– О большем я и не прошу, – кивнула молодая дама. – Единственное – не следует
указывать мое настоящее имя. Я бы хотела остаться для всех, кто захочет это прочесть,
просто «фройляйн Анной-Мари».
19 марта 1908 года, Базель
Инженер Эрвин Бѐме развернул газету, прочитал новости и вдруг побледнел, как смерть.
Сидевший напротив него в кресле Гейнц Лейне – приятель Бѐме – встревожился:
– Что с тобой, Эрвин? Представить не могу, какое известие могло привести тебя в
подобное состояние!
– Скончался доктор Давид, известный естествоиспытатель, исследователь Африканского
континента, – ответил Бѐме, протягивая ему газету. – Крушение всех моих планов!
– Я соболезную близким доктора Давида, – отозвался Лейне, – но твоим планам,
прости, не сочувствую. Что за блажь – отправляться в Африку и бродить там по
джунглям среди диких племен! Как будто тебе мало Швейцарии! Неужели ты разлюбил
наши альпинистские восхождения, катание на лыжах, скоростной лыжный спуск по
склонам заснеженных гор, прыжки с трамплина?
– О, горы в Швейцарии превосходны, и лыжи я по-прежнему обожаю, – слабо
улыбнулся Бѐме, – но вот сама страна для меня тесновата. Африка – была бы в самый
раз.
– Неугомонный человек, – вздохнул Гейнц. – Ты единственный иностранец, сумевший
стать членом швейцарской гильдии альпинистов. Казалось бы!..
– Но в Африку я все равно поеду! – встрепенулся Бѐме. – Не так, так эдак. Надо только
найти там себе дело по душе.
24 июня 1912 года, Ной-Хорнау, Немецкая Африка
Руководитель компании по разработке кедровых лесов был доволен новым инженером.
Господин Бѐме исправно следил за работой оборудования, за состоянием дорог, время от
времени писал директору небольшой фабрики в Германии – в Хубертусмюле, где
занимались, в том числе, изготовлением карандашей.
– Подвесная дорога? – удивился директор компании, когда инженер Бѐме поделился с
ним новым планом. – Зачем?
– Затем, что это сильно сократило бы время на транспортировку и улучшило бы
здешнюю жизнь, – ответил Эрвин. – Она связала бы трассу, ведущую к Усамбаре, с
Ной-Хорнау. То, что мы расположены так высоко на склоне, затрудняет...

– Понятно, понятно, – кивнул директор . – Вы уже составили план, смету?
По опыту он знал, что инженер Бѐме всегда приходит с хорошо продуманными планами...
7 июля 1914 года, Хольцминден на Везере
Вот Эрвин и дома, в Германии, в родном городе. Давно он здесь не был!.. Шесть лет в
Африке время от времени напоминали о себе небольшими приступами лихорадки.
Инженерная работа, а между делом – научные изыскания, несколько походов... Есть, о
чем вспомнить.
Душа истосковалась по горам. Инженер Бѐме взял отпуск, чтобы съездить в свою
любимую Швейцарию и совершить очередное восхождение.
И на Хубертусмюле нужно заехать: директор тамошней карандашной фабрики – партнер
компании, в которой работал Бѐме, – давний друг по переписке, приятный и
образованный человек.
Да, большие планы были у инженера Бѐме на лето четырнадцатого года!..
30 октября 1914 года, Линденталь
«Дорогой Гейнц! – писал Эрвин Бѐме своему другу, швейцарскому альпинисту. – Тебя,
наверное, здорово удивило, что я, впервые в жизни увидевший самолет только после
моего возвращения из Немецкой Африки, внезапно заделался летчиком!
Но как раз ты-то и сможешь это понять: в определенном смысле полеты мне куда ближе,
нежели прозябание внизу, в кучах щебня и праха.
Лыжи и аэропланы представляются мне наиболее достойными человека способами
скоростного передвижения. С благодарностью вспоминаю я теперь наши упражнения в
прыжках на Монастырском склоне под надежным покровительством Лыжного Святого
(разумею статую святого Майнрада на горе за монастырем).
Взлет и приземление на самолете – это почти то же самое, что и прыжки на лыжах,
только нужно еще внимательнее следить за тем, как приземляешься. Ну а важнейшее из
того, что потребно в самом полете, я уже давно подсмотрел у марабу в лесах Восточной
Африки».
12 января 1915 года, Линденталь
– Я поступил в авиацию вовсе не для того, чтобы сидеть на тыловом аэродроме и обучать
новичков! – возмущался летчик Бѐме.
Командование не обсуждало с ним эти вопросы. Каждый приносит пользу там, куда его
поставили, и точка.
Но Эрвин был вне себя от негодования. В свои тридцать пять он добился зачисления в
авиацию. Одним из первых и одним из лучших сдал все экзамены.
И вот теперь – как раз из-за «прекрасных навыков пилотирования» – он оставлен при
аэродроме – преподавателем!..
5 марта 1916 года, Восточный фронт
Наконец-то Эрвин Бѐме там, куда он так стремился всей душой, – на фронте.
Уже несколько месяцев он сражается с русскими. Командир – Вильгельм Бѐльке,
старший брат Освальда, – доволен «стариком»: Эрвин Бѐме старше любого из здешних
пилотов.
– У нас гости! – такими словами приветствовал Вильгельм приземлившегося Бѐме. —
Прилетел мой брат – грабить меня.
Знаменитый Освальд Бѐльке – «отец германских истребителей» – действительно
прибыл в эскадрилью брата, чтобы отобрать у него несколько летчиков «для себя».
– Знакомься, Освальд, один из лучших – Бѐме, – представил Эрвина командир.
Освальд Бѐльке сжал руку Эрвина Бѐме.
– Как уже сказал мой брат, я намерен его «ограбить», – улыбнулся Освальд.
– Я не прочь быть украденным, – улыбнулся в ответ и Бѐме.
– Кто я такой, чтобы возражать! – развел руками Вильгельм. – Я напишу рапорт и
попрошу, чтобы Эрвина Бѐме перевели в твою эскадрилью.
20 мая 1916 года, Хубертусмюле
Почтенный директор фабрики и его супруга праздновали серебряную свадьбу.

Гостей собралось много. Приехали все дети «серебряной четы», даже старшая – Анна-
Мари, которая сейчас проходила медицинскую практику в Вене.
Анна-Мари готовилась стать одной из добровольных помощниц армии. Вместе с
подругами она изучала медицину на специальных женских курсах.
– Что это? – в ужасе вопросила мать, когда за окнами раздался непонятный шум и
грохот.
Все гости выскочили из дома.
Странное зрелище представилось им: огромный военный самолет кружил над домом.
Это был двухмоторный бомбардировщик «Гота-Урсинус», прилетевший из Берлина. На
борту «Урсинуса» находились трое летчиков: братья Эрвин и Мартин Бѐме и Людвиг
Вебер, который пилотировал самолет.
...Эрвин получил звание лейтенанта и отпуск после тяжелых боев под Верденом. В
Берлине родилась прекрасная идея – навестить старых друзей в Хубертусмюле,
поздравить их с юбилеем.
Мартин охотно поддержал старшего брата, что до Вебера – то он всегда был готов на
любое приключение.
– Слишком маленькая лужайка! – кричал Вебер. – Промахнусь!
– Заложи еще вираж, – спокойно, как будто он все еще оставался инструктором,
приказал Эрвин.
Вебер наконец решился и посадил самолет. Лужайка оказалась заболоченной, «Урсинус»
накренился и рухнул на крыло.
Раздался треск. Из дома уже спешили к «месту крушения» люди. Подбежала и молодая
девушка с темными, пытливыми глазами.
– Вы не пострадали? – Она помогла летчикам выбраться из-под обломков самолета.
В ее вопросе прозвучала тревога и вместе с тем профессиональное желание помочь.
Ответом был дружный хохот: никто не пострадал, да и самолет претерпел лишь
незначительные поломки, хотя со стороны он выглядел устрашающе со своим задранным
к небу крылом.
– Я вас раньше не видел, – Эрвин посмотрел на девушку удивленно.
– Я старшая дочь, Анна-Мари, сейчас заканчиваю учебу в Вене, а раньше училась в
Нюрнберге, – ответила она, почему-то покраснев.
...Вечер прошел прекрасно. Утром нужно было возвращаться в Берлин. Пришлось ехать
поездом.
– Я останусь, – сказал Вебер. – Рабочие с фабрики помогут мне починить «Урсинус».
А вы поезжайте.
Мартин подтолкнул старшего брата локтем:
– Поговори с ней.
Эрвин набрался смелости и спросил у Анны-Мари:
– Вы не возражаете, если я буду вам писать?
Она вспыхнула и ответила тихо:
– Я буду очень рада. Я тоже хочу писать к вам.
3 августа 1916 года, Ковель
Эрвин Бѐме еще раз взглянул на фотографии. Это были снимки с серебряной свадьбы в
Хубертусмюле. Запечатлены гости, виновники торжества, «вынужденная посадка»
«Урсинуса» с задранным крылом...
На одной из карточек Эрвин наконец разглядел крошечную фигурку Анны-Мари. Какая
милая, умная девушка! И ни следа этого новомодного стремления женщин одеваться и
вести себя по-мужски.
Недавно она спросила его, как это летчик, имея всего две руки, ухитряется сразу вести
самолет и стрелять из пулемета? Какой содержательный вопрос – видно, что она по-
настоящему интересуется авиацией...