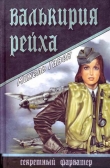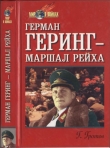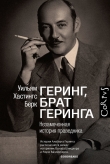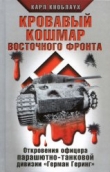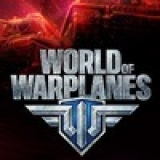
Текст книги "Unknown"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Он писал ей обо всем: о погоде, о самолетах, о своих товарищах, рассказывал маленькие
забавные эпизоды...
«Судя по многочисленным отзывам пленных, мы – отнюдь не те птички, которых
наблюдают здесь с удовольствием, – быстро бежало перо по бумаге. – Моя птица
получила прозвище «Бич Волыни». На ней в качестве покровительственного духа
нарисовали устрашающего дракона – наша современная молодежь, кажется, вновь

обрела веру в талисманы и изображает на аэропланах слонов, аистов и т.п. Ну, на русских
крестьян мой дракон производит, во всяком случае, пугающее впечатление.
Мой новый наблюдатель по имени Ладемахер, с которым я летаю с 10 июля, —
расторопный и славный парень. У него есть обыкновение во время воздушного боя
громко ругаться. Хорошо только, что пропеллер трещит еще громче, не то русские уже
давно отправили бы кучу жалоб с просьбой наложить на нас взыскание за сквернословие!
Вчера рано утром я сбил над нынешней главной квартирой Брусилова один сильно
докучавший нам биплан «Ньюпор». 11 и 13 июля я отправил на землю по большому
русскому самолету. Последние два дались мне довольно легко – русские весьма неловки
в воздушном бою. Вчерашний же оказался увертливее – вероятно, француз...»
Он нахмурился. «Муромцы» – большие русские самолеты – часто прилетали бомбить.
Бѐме был практически уверен, что сбил по крайней мере один... может быть, и оба. Но
подтверждений этому не было. Стоило вернуться на машине и поискать обломки на
земле...
Он поежился, набросил на плечи куртку. Давление падает. Африка снова дает о себе знать
приступами лихорадки.
Ветер становился сильнее. Сорвало несколько палаток. Бѐме усмехнулся: живой талисман
эскадрильи, аист по имени Адолар, прятался от ветра за автомобилем... Забавная птица,
любимец всех здешних летчиков.
Он снова вернулся к письму:
«Вы интересовались, где сейчас Бѐльке. Он в «служебной командировке» на Балканах.
Смерть Иммельмана произвела в верхах такое сильное впечатление, что они, желая, по
меньшей мере, сохранить Бѐльке, на долгое время запретили ему полеты.
Из-за этого ему пришлось скрыть своего девятнадцатого, которого он – несмотря на
запрет – отправил на землю, поскольку тот пролетал прямо над аэродромом.
В конце концов, начальство решило предоставить ему отпуск в виде командировок в
Турцию и на Балканский фронт. Он должен составить представление о состоянии
тамошних летательных аппаратов.
Когда в день своего отбытия Бѐльке был приглашен к завтраку у кайзера, тот сказал:
«Имейте в виду, теперь мы вас держим на привязи!» – Это все я знаю от старшего брата
Бѐльке, который прежде был моим командиром…»
15 августа 1916 года, Нюрнберг

– Письмо, Анна-Мари! От твоего героя!
Девушки обступили подругу. Они уже решили, что будут присылать лейтенанту Бѐме
поздравительные открытки и небольшие подарки – все вместе. Минни, Элизабет, Лотта,
Гертруда, Анни, Теа – все они «обожали» «милого Эрвина».
Анна-Мари прочитывала его письма и передавала подругам. Все вместе они запоминали
странные названия, вроде «Wolhyniens» – «Волынь», посмеивались над аистом и
«драконом», радовались победам германского оружия.
– Он пишет о своем Бѐльке гораздо больше, чем о себе, – заметила Гертруда.
– Потому что Освальд Бѐльке – герой! – ответила Анна-Мари. – А Эрвин – очень
скромный человек.
– Эрвин тоже герой! – закричали и засмеялись Теа и Анни. – Мы приготовили для него
конфеты и открытку. Давайте все подпишемся.
Они написали короткое приветствие и расписались.
Вечером Теа поделилась с Гертрудой одним странным соображением:
– Мне кажется, Анна-Мари в него влюблена.
– В Эрвина? – Гертруда даже засмеялась. – Она поклоняется ему как герою, но
влюблена? Сама подумай, Теа, он ведь старик – ему уже тридцать семь лет!
Продолжение истории.
© А. Мартьянов. 29.03. 2013.
59. Падение Альбатроса
19 августа 1916 года, Дюссельдорф
– Вот и наш герой! – Профессор живописи Ганс Кольшайн встретил Эрвина Бѐме с
преувеличенной радостью. – Моя сестра писала, что ты, возможно, приедешь.
– Я в отпуске, – сказал Бѐме. – Но, честно говоря, уже устал отдыхать.
– Все шутишь. – Кольшайн потащил его в гостиную. – У нас сегодня в твою честь
обед. Как Герхард? Сестра беспокоится о нем.
Сестра Кольшайна была замужем за братом Эрвина – Герхардом.
Эрвин сдержанно ответил:
– Воевать в воздухе, думаю, не более опасно, чем на земле. Может быть, даже
безопаснее.
– Эрвин, я хотел бы написать твой портрет, – Кольшайн сразу приступил к делу. – Я
размышляю над этим вот уже несколько месяцев.
– Не знаю, – протянул Бѐме. – Может быть, имеет смысл лучше написать портрет
Бѐльке?
Кольшайн улыбнулся:
– Мы знаем, что ты преклоняешься перед своим командиром, но, Эрвин, не он – мой
родственник, а ты. Вся наша семья гордится тобой.
Кольшайн уже мысленно видел свою картину: сухие, резкие черты лица Эрвина, тонкие,
сильно сжатые губы, выдающие в нем волевого человека, суровый взгляд... И непременно
– крупные, смелые мазки, никаких мелких деталей, никакой «зализанности». Это будет
настоящий портрет героя нового времени.
Бѐме вздохнул и улыбнулся:
– Идем обедать. После обеда, возможно, я стану сговорчивее.
1 сентября 1916 года, Дюссельдорф

– Я должен ехать на фронт! – Бѐме беспокойно расхаживал из угла в угол, он явно не
находил себе места.
– Эрвин, я только-только начал работу над портретом! – возмутился Кольшайн. – К
чему спешка? Радиограммы пока не было, в эскадрилье тебя еще не ждут. Если бы новые
самолеты уже прибыли, Бѐльке тебя непременно бы известил.
– А он и известил меня, – мрачно произнес Бѐме. Он указал на газетную заметку. – По-
своему. В присущей ему неподражаемой манере. В статье пишут, что Освальд Бѐльке
только что сбил своего двадцатого. Двадцать сбитых неприятельских самолетов! А я
отсиживаюсь в Дюссельдорфе.
Он немного успокоился и прибавил:
– Не огорчайся, Ганс. Когда я приеду в следующий раз, то, возможно, тебе придется
писать меня уже с орденом. Так выйдет даже лучше, не правда ли?
Кольшайн кивнул и начал собирать кисти.
– Только возвращайся живым, Эрвин, – попросил он.
– По крайней мере для того, чтобы ты мог закончить портрет! – засмеялся Эрвин Бѐме.
– Обещаю.
9 марта 1930 года, Лейпциг
…– У вас есть копия этого портрета, фройляйн Анна-Мари? – спросил профессор
Вернер. – Для издания книги писем было бы неплохо поместить там репродукцию с
изображением героя.
– Есть и фотография, и портрет, – ответила молодая женщина. – Вы сами можете
оценить, удалось ли профессору Гансу Кольшайну передать характер Эрвина Бѐме.
С точки зрения Вернера, портрет получился слишком мрачным. Но, может быть, это
потому, что Эрвин Бѐме погиб – когда знаешь будущее своего героя, многое
представляется в ином свете...
10 сентября 1916 года, Бертинкур
– Новые самолеты прибудут хорошо если к концу недели, – такими словами встретил
Освальд Бѐльке примчавшегося в эскадрилью Эрвина Бѐме. – Но это, конечно же, не
повод не летать.
– А что у нас есть? – спросил Эрвин.
– Лично у меня остался еще старый «Фоккер», – ответил Бѐльке. – Вам, мой друг, я
советую обратить внимание на тот списанный «Хальберштадт». Он еще на ходу... если
постараться.
– Хотите сказать, на нем можно немного поездить по аэродрому? – улыбнулся Эрвин.
Бѐльке кивнул.
– Приложим усилие – и он, вероятно, даже взлетит. Где ваш механик?
– Я ему помогу, я ведь инженер, – сказал Бѐме. – В Африке это означало, что я умелец
на все руки. Впрочем, при восхождении на гору...
– Вы просто человек эпохи Возрождения, – с легкой добродушной иронией произнес
Бѐльке, и Бѐме, к его удивлению, покраснел, как школьник.
Вечером Герхард Мюле, еще один летчик (из четырех имевшихся сейчас в эскадрилье)
спросил у Бѐме:
– Заметили у Бѐльке медаль за спасение человеческой жизни?
– Да, – ответил Бѐме, – но не решился спросить, как он ее получил.

– Он не любит о таких вещах рассказывать, – кивнул Мюле, – но я там был и видел.
Вообразите, ездили мы в один французский городок, знаете – речка, развалины замка... И
вот сидит на старой стене парнишка лет пятнадцати и удит рыбу. Вдруг он плюхнулся в
реку. То ли рыба дернула за леску, то ли голова закружилась... Упал и тонет.
Эрвин покачал головой. Бывалый спортсмен, некогда бравший призы в заплывах в
Цюрихе, он вообще не понимал – как можно утонуть в реке.
– Бѐльке как был – в мундире, затянутый в ремни, застегнутый на все пряжки и
пуговицы, – продолжал Мюле, – сиганул за ним в реку. Не вытащил. Нырнул вторично
и наконец выволок беднягу на берег.
– Благородный поступок, – сказал Бѐме.
– Погодите, это еще не все, – остановил его Мюле. – Как только «утопленник» пришел
в себя, Бѐльке у всех на глазах хорошенько вздул его – за то, что не потрудился
научиться плавать!
– Да, таков наш Бѐльке! – медленно проговорил Бѐме.
Аэродром размещался на большой поляне в лесу. Высокие деревья окружали самолеты —
точнее, те останки самолетов, которыми сейчас располагала эскадрилья.
– Живем мы возле дороги, – предупредил Мюле. – Запаситесь воском, чтобы заткнуть
себе уши: тут день и ночь ездят грузовики. Впрочем, потом вы привыкнете. Мы уже спим,
как младенцы, и грохот нам нипочем.
31 октября 1916 года, Ланьикур
Открытка, разрисованная цветами, лежала перед Бѐме на столе. Несколько девушек из
числа добровольных военных помощников, и в том числе Анна-Мари, желали герою-
летчику побед и процветания.

А у него на сердце был тяжелый камень. Нет, нужно написать ей. Нужно рассказать ей
все...
«Моя дорогая фройляйн Анна-Мари! Бѐльке нет больше среди нас...
В субботу во второй половине дня мы сидели в боевой готовности в нашем домике на
аэродроме. Я как раз начал с Бѐльке партию в шахматы – и тут, вскоре после четырех
часов пополудни, – нас призывают лететь к линии фронта. Пехота противника начала
наступление.
Бѐльке нас вел сам – как обычно. Очень скоро нас атаковало несколько быстрых
одноместных английских самолетов, которые, надо признать, очень умело обороняются.
Последовали бои с выписыванием в воздухе диких кривых. Лишь ненадолго удавалось
открыть огонь. Мы пытались зайти в хвост противнику, непрерывно маневрируя, – нам
часто удавалось добиться успеха таким образом.
Между мной и Бѐльке как раз очутился один англичанин, когда другой противник,
гонимый другом Рихтгофеном, перерезал нам дорогу. Молниеносно мы разлетелись в
стороны, и на короткое время Бѐльке скрылся за несущей поверхностью крыла. Лишь миг
мы не видели друг друга – и тут это и случилось...
Как мне описать Вам мои чувства? Как описать то мгновение, когда Бѐльке внезапно
вынырнул в нескольких метрах правее меня?! Он опускал свою машину, а я мою рванул
вверх, – мы столкнулись и оба полетели к земле! Это было лишь легкое касание, но из-за
огромной скорости оно оказалось равнозначно сильному удару. Судьба часто бывает так
страшно несправедлива в своем выборе: мне только оторвало правую стойку шасси, а у
него отвалилось все левое крыло.
После нескольких сотен метров падения я снова обрел способность управлять моим
самолетом. Теперь мне оставалось лишь следовать за падающим Бѐльке, который пытался
планировать в сторону нашей территории.
Только в нижнем слое облаков под сильными порывами ветра машина стала падать все
более и более отвесно. И я увидел, как перед самым приземлением он не смог больше
удерживать самолет в горизонтальном положении и как аэроплан ударился о землю
неподалеку от нашей артиллерийской батареи.
Оттуда тотчас на помощь устремились люди. Мои попытки приземлиться поблизости от
места крушения моего друга оказались безуспешными – земля там вся изрыта воронками
от снарядов и разрывов гранат. Так что я полетел на наш аэродром.
Приземляясь, я опрокинулся. Об этом мне рассказали только на следующий день, потому
что в те минуты это обстоятельство вообще никак не дошло до моего сознания. Я был
потрясен – и вместе с тем у меня еще оставалась надежда.
Но когда мы примчались туда на автомобиле, навстречу нам вынесли мертвеца! Он погиб
в тот самый миг, когда его самолет упал на землю. Бѐльке никогда не носил защитного
шлема и в «Альбатросе» не привязывался. Да и в любом случае это не спасло бы его при
таком ударе.
Лишь очень постепенно доходит до нашего сознания – какую же пустоту оставил после
своей смерти Бѐльке. Без него всѐ потеряло душу. Он был нашим вождем, нашим
учителем. На всех, кто с ним соприкасался, он оказывал неотразимое влияние – в первую
очередь своей личностью. Никогда и ничего не делал он нарочито, он был сама
естественность.
Если он рядом, значит – будет успех. И действительно, с ним нам удавалось почти все.
В эти полтора месяца он вместе с нами уничтожил почти шестьдесят вражеских
самолетов, оставаясь невредимым, и преимущество англичан уменьшалось день ото дня.
Нам остается лишь сохранить его дух в нашей эскадрилье.
Сегодня состоялся перелет в Камбрэ, откуда родители и братья героя будут сопровождать
его на кладбище в Дессау. Родители его – великие люди: при всей той боли, которую
они испытывают, они отважно держатся перед лицом неизбежного…»
Он больше не мог писать. Он знал: до последнего своего вздоха будет помнить тот
роковой миг – и падение «Альбатроса».
Он навсегда останется человеком, который убил своего учителя, вождя, наставника и
лучшего друга – Освальда Бѐльке.
Окончание следует...
© А. Мартьянов. 29.03. 2013.

60. Памятник герою
11 февраля 1917 года, Западный фронт, Камбрэ
После гибели Бѐльке Эрвин Бѐме замкнулся в себе. Воевал как прежде, но дружбы ни с
кем не заводил и в откровенности не пускался.
Требовалось время, чтобы привыкнуть к случившемуся.
Манфред фон Рихтгофен был первым, кто подошел к ошеломленному Бѐме и сказал
просто, грубо, со своей всегдашней рыцарской прямотой:
– Твоей вины нет.
Смысл в жизни оставался один: воевать дальше.
...Англичанин оказался настырным. Бѐме атаковал его, снова и снова заходя на своем
«Альбатросе». «Сопвич полуторастоечный» отвечал выстрелами.
Наконец «Альбатросу» удалось прижать «Сопвич» к земле. Началось вынужденное
снижение.
– Черт с тобой, – сказал Бѐме, глянув вниз, на опускающийся самолет. – Живи. Не буду
тебя добивать.
В этот момент англичанин рванулся вверх и, поравнявшись с немецким летчиком, открыл
огонь.
Стрелял летнаб – из личного оружия. Он попал немцу в левую руку.
Бѐме выругался и ответил очередью. Англичанин загорелся...

С трудом, превозмогая боль, Бѐме посадил «Альбатрос». Подбежавшему механику он
сказал «пустяки» и потерял сознание.
Через два дня с госпитальной койки он уже писал бодрое письмо своей милой
корреспондентке Анне-Мари:
«Еще со времен начальной школы по чистописанию я не получал выше тройки, иногда и
четверки, однако сегодня Вы поставили бы мне балл и пониже. Это из-за того, что мне
приходится писать в постели; к тому же я не могу использовать левую руку, чтобы
придерживать листок.
Постель, в которой я пишу, стоит в военном госпитале в Камбрэ. А в лазарете я нахожусь
по той причине, что позавчера один крайне недоброжелательный англичанин коварно
прострелил мне левую руку.
Это был двухместный «Сопвич», который я уже отправил вниз, так что он уже падал, и
который я в припадке охотничьего благородства пощадил, – и вот его благодарность!..
Но не страшитесь ни за жизнь мою, ни за руку. Кости и нервы не пострадали, выстрел
лишь задел по касательной. То, что все это так чертовски больно, – дело второстепенное;
я злюсь только из-за того, что пришлось бросить в переделке мою эскадрилью – как раз
теперь, когда началась весенняя заварушка.
Надолго ли я застрял в лазарете и получу ли еще один отпуск – о том ведают лишь боги.
Порадуйте же приветом проклятого на одиночество и бездействие лазаретного узника…»
18 августа 1917 года, Западный фронт
Что ж, художнику Кольшайну из Дюссельдорфа удалось, в конце концов, закончить
портрет Эрвина Бѐме. И предсказание насчет орденов сбылось: теперь Бѐме награжден
Железным крестом и Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов.
– Мы никак не можем отправить вас обратно на фронт! – сказали ему в штабе армии,
когда Бѐме явился доложить о своей готовности вернуться к боевой работе. —
Помилуйте! Вы были тяжело ранены. Вы... уже немолоды. И потом, ваш опыт...
– Снова инструктором? – догадался Бѐме.
– Это временно, пока не восстановится ваше здоровье, – обещали ему.

Но постарались задержать его как можно дольше.
И вот наконец сбылось: Эрвин Бѐме снова на фронте.
Эскадрилья, над которой он принял командование, называлась «Освальд Бѐльке».
– Великие люди обладают бессмертным духом, – с такими словами Эрвин Бѐме
обратился к своим подчиненным. – И мы можем видеть это воочию. Дух Освальда
Бѐльке живет в нас, в наших крыльях, в наших победах. Он поведет нас в бой – как
некогда вел нас сам Освальд, живой и во плоти.
28 октября 1917 года, Дессау – Гамбург
Годовщину гибели Освальда Бѐльке Эрвин Бѐме провел на кладбище в Дессау – на
могиле боевого товарища.
У него оставалось еще время, и он заехал в Гамбург – повидать Анну-Мари. Она близко
к сердцу приняла эту историю и нашла удивительные слова, чтобы утешить своего друга
по переписке.
Увидев Эрвина, Анна-Мари засияла такой неподдельной радостью, что он смутился.
– Сегодня в полночь отходит мой поезд на фронт, – заговорил он. – Времени почти
нет, поэтому я обязан... Да, я обязан вас спросить: Анна-Мари, вы... вы любите меня?
– Да! – вскрикнула она. – С того самого мгновения, как увидела вас вылезающим из
самолета во время вашей «вынужденной посадки» у нас на лужайке»! Но почему, ради
всего святого, почему, Эрвин, вы молчали так долго?
– Потому что... – Он снова замялся. – Проклятье, фройляйн! Потому что я боялся
услышать «нет»! Потому что ваше «нет» нарушило бы мое внутреннее равновесие до
такой степени, что я не смог бы больше сражаться!.. Да, – он усмехнулся, – вот так.
Человек сражается на самолете, не боится ни смерти, ни дьявола, но ужасно боится милой
молодой девушки...
Она мягко взяла его под руку:
– Так и должно быть. Вы изумительно старомодны, мой герой.
– И вы, – сказал он, осторожно поцеловав ее в щеку. – Я обожаю вашу
старомодность...
– Когда я получу благословение родителей, мы объявим о нашей помолвке, – сказала
Анна-Мари. – Ах, Эрвин! Сколько времени мы с вами потеряли!
– Но подхожу ли я на роль мужа? – Он снова заколебался. – Без определенного
положения в жизни, без ясного представления о будущем... и связать свою судьбу с
судьбой другого существа!
– На что же вы надеетесь? – Она посмеивалась так, словно знала ответ.
Улыбнулся и он:
– На милость благосклонного духа, который всегда помогает сильным и смелым.
И добавил:
– Никогда я не думал, что старый, побитый жизнью человек может быть так по-
юношески счастлив!..
31 октября 1917 года, район Зоннебеке, Фландрия
– Мартин! – Эрвин Бѐме с трудом растолкал брата, который продолжал храпеть, хотя
было уже десять утра. – Проклятье, великан, ты никак впадаешь в зимнюю спячку!
– Эрвин! – Мартин открыл глаза. – Что случилось? Ты давно приехал?
– Вчера. Ты не слышал. Мартин, это случилось! Анна-Мари будет моей женой! У меня
есть невеста!
– Я всегда подозревал, что она к тебе неравнодушна, – хмыкнул Мартин.
Скоро вся эскадрилья поздравляла Эрвина, сыпались шуточки насчет «вынужденных
посадок» на чужих лужайках, которые приводят к таким «смертоносным последствиям».
Эрвин Бѐме улыбался все шире и понимал, что он действительно счастлив. Впервые в
жизни.
Он был даже счастливее, чем после первого восхождения на Юнгфрау!
29 ноября 1917 года, Зоннебеке
Капитан Джон Паттерн на своем «Armstrong Whitworth FK.8» заметил «Альбатрос» и
сразу выбрал его для атаки.

Германец вел машину уверенно. Присмотревшись, Паттерн понял, что за штурвалом —
Эрвин Бѐме: изображение дракона украшало фюзеляж. Что ж, тем лучше.
Паттерн поднялся над «Альбатросом». Странно, германец реагирует медленно. Может
быть, устал? Английский капитан не знал, что для Бѐме это был третий вылет за день, но
очень хорошо почувствовал слабину противника.
Несколько попаданий – и «Альбатрос» загорелся. Он пытался планировать, но ничего не
получилось: как птица с перебитыми крыльями, самолет падал на занятую англичанами
территорию.
Паттерн вернулся на свой аэродром и на автомобиле приехал к месту крушения
«Альбатроса».
Тело германского летчика лежало рядом с самолетом. Это действительно был Эрвин Бѐме
– его портрет англичане не раз видели в газетах.
– Обыщите! – приказал Паттерн сержанту. – У него могут быть важные бумаги.
Действительно, в нагрудном кармане Эрвина Бѐме лежал толстый конверт, густо
исписанный невозможной немецкой готикой.
– Потом разберем, – решил капитан и сунул письмо в карман.
...Англичане похоронили своего знаменитого врага с воинскими почестями.
«1 декабря 1917 года, Зоннебеке
Герхарду Бѐме
Нынче у меня скорбное известие о смерти Вашего брата. Война делает нас крепкими и
жесткими, но это происшествие тяжко ложится на мое сердце – Вы и сами знаете, какие
тесные дружеские узы связывали меня с Вашим братом.
В последний день перед своей смертью он был со мной, на моем новом аэродроме. Он
радовался тому, как идут дела в нашей любимой старой эскадрилье «Бѐльке», которая
ныне поднялась на прежнюю высоту, – в чем исключительно его заслуга.

И вот теперь оба они объединились в Вальгалле: Ваш великолепный брат и его великий
наставник Освальд Белльке, который для нас остался непревзойденным образцом,
стоящим выше всех и вся.
Разыщите меня, дорогой господин Бѐме, в самое ближайшее время, чтобы мы могли
вместе почтить память потерянного нами брата и друга.
С самыми искренними соболезнованиями
Манфред барон фон Рихтгофен».
9 марта 1930 года, Лейпциг
– В 1921 году, как вы знаете, англичане вернули прах Эрвина Бѐме Германии, чтобы он
мог упокоиться в своем отечестве. Вместе с телом Эрвина они вернули еще кое-что, —
сказала молодая дама издателю. – Вон тот синий конверт. Возьмите его.
Профессор Вернер развернул потертые на сгибах листки.
«1 ноября 1917 года, Хубертусмюле
Мой возлюбленный Эрвин! Теперь, когда солнце село, я могу наконец написать тебе пару
слов. Мама в соседней комнате сидит за роялем; в благочестиво-радостном настроении
она наигрывает старинный лютеранский гимн «Твердыня наша». Второй стих теперь мне
особенно люб: «И наша сила».
Вчера здесь произошло великое сражение: было пролито много-много слез и излито
много-много любви. «Мы» победили – и награда драгоценнейшая: благословение
родителей. Приезжай, приезжай скорее! Приноси с собой много, как можно больше
любви, и все-все примут тебя с распростертыми объятиями.
Мама сегодня ожидала от тебя знака. А я все утешалась мыслью о том, что ты вот-вот
появишься. После полудня мимо пролетал один самолет – но это был не НАШ летчик.
Когда же ты приедешь?
Сегодняшний день был наполнен солнцем и счастьем – ничего подобного в моей жизни
еще не происходило. Земля – она всегда была хороша, и я это знала, но такой
прекрасной, как сегодня, в минуты моего счастья, она мне еще никогда не являлась.
После обеда мы с сестрой ходили в лес. Солнце сияло, золото блистало на ветвях
деревьев, нам оставалось лишь обрывать его. Лес весь звенел от наших веселых песен...
Мне пора спешить – надо успеть на поезд. Завтра утром я снова приступаю к работе в
Гамбурге.
Тысяча приветов тебе – от твоей, связанной с тобою в самой сокровенной глубине своей
любви
Анна-Мари»
Анна-Мари утерла слезы.
– Это письмо было с ним в миг его смерти, – сказала она, стараясь говорить спокойно.
– Англичане отдали его мне... И теперь я хочу, да, я хочу, чтобы все прочли о том, как
любим был герой, летчик Эрвин Бѐме!
– Сборник писем станет самым лучшим, вечным памятником нашему герою, – обещал
профессор.
Анна-Мари кивнула и вышла.
Она взглянула в весеннее небо. Птицы летали в нем. Птицы – и ни одного военного
самолета.
– Прощай, Эрвин, – прошептала она.
Ей казалось, что она только сейчас сумела его отпустить.
* * *
В написании рассказов использованы подлинные письма Эрвина Бёме, изданные в 1930
году в Лейпциге проф. Вернером под заглавием «Письма германского боевого летчика к
молодой девушке
Перевод писем с языка оригинала – Е. Хаецкая и А. Мартьянов».
© А. Мартьянов. 29.03. 2013.

61. «Злюка» идет на перехват
6 февраля 1934 года, Вулстон
Реджинальд Митчелл неотрывно следил за поднимающимся ввысь самолетом.
Это был уже далеко не первый созданный им летательный аппарат, но каждый раз его
охватывало волнение.
Митчелл не получил специального образования; все, что он знал и умел, он постигал
самостоятельно. Тем не менее маленькая фирма «Супермарин уоркс» – бывшая
«Пембертон Биллинг», – занимавшаяся ремонтом самолетов морской авиации, охотно
приняла его на работу.
Только-только закончилась Первая мировая война, и конструктор – хоть бы и молодой
(ему было двадцать четыре), хоть бы и без диплома, – пришелся весьма кстати.
От ремонта гидросамолетов фирма перешла к их проектированию и производству.
– Чем заняться джентльмену в мирное время? – говорил Митчелл и обаятельно
улыбался. – Разумеется, спортом!
«Супермарин» выпускала «рекордные» гоночные гидросамолеты: летающая лодка-биплан
«Си Лайон» выиграла в 1922 году престижные гонки на Кубок Шнейдера, в 1925-м другой
самолет «Супермарин», моноплан S.4 поставил рекорд скорости, еще через два года, и
еще через два года все новые и новые самолеты Митчелла брали Кубок с завидным
постоянством.

– Скорость, маневренность, уверенность в успехе, – подытожил Митчелл. – Полагаю,
отныне мы имеем все основания перейти к производству истребителей.
В воздухе снова появился предгрозовой запах: надвигалась новая война, и не уловить ее
приближение было невозможно...
На полке в главном офисе фирмы поблескивали дипломы и награды. Последний – 1931
года – свидетельство о победе очередного детища «Супермарин» – S.6B: снова Кубок
Шнейдера и новый, по сравнению с двадцать девятым годом, рекорд.
Да, пора предложить свои услуги военным.
Техническое задание F 7/30, поступившее в том же году от министерства авиации, было
воспринято на «Супермарин» как вызов их способностям.
Собственно, министерство авиации хотело от конструкторов лишь одного: истребителя,
вооруженного четырьмя пулеметами и способного нести четыре бомбы по двадцать
фунтов (в пересчете на континентальные меры – по девять килограммов).
А какой это будет истребитель – целиком и полностью оставляется на волю
конструктора. Не оговаривался даже тип мотора – можно брать любой английского
производства.
– Вот это – по мне! – решил Митчелл.
Хуберт Скотт-Пейн, владелец фирмы, положил руку ему на плечо.
– Ты же понимаешь, Реджинальд, что соперников у нас будет много. Не одному тебе по
душе такое техническое задание. А выберут только кого-то одного. Бюджетные
ассигнования на военную авиацию сейчас, сам знаешь, сокращают.
Митчелл дернул плечом:
– Мы все равно будем лучшими.
На конкурс было представлено восемь проектов.
«Бристоль», «Хоукер», «Уэстленд», «Блэкбери» и «Глостер» предпочли бипланы,
«Виккерс» и «Супермарин» – монопланы. Еще один моноплан был «Бристолевский» —
там, видать, очень сильно хотели победить.
– Их можно понять, – хмыкнул Митчелл. – Ведь именно их самолет, «Бристоль
Бульдог», ВВС собирается заменить как устаревший.
«Супермарин 224» – первый истребитель Митчелла – цельнометаллический
свободнонесущий моноплан с крылом «обратная чайка» – был построен «вокруг»
мощного двигателя «Роллс-Ройс Тоскхок» – в шестьсот шестьдесят лошадиных сил.
Неубирающиеся шасси в обтекателях располагались в месте излома крыла.
– У нас все отлично продумано, – уверенно говорил Митчелл. – Двигатель оснащен
испарительной системой охлаждения, это позволит сочетать хорошую аэродинамику,
малую массу и надежную работу мотора. Вот увидите!..
...И увидели. Первое же испытание выявило неполадки, которые никак не могла
предусмотреть чистая теория.
Когда опытный образец сел, Митчелл схватился за голову: прекрасная надежная система
охлаждения мотора нанесла предательский удар.
Теоретически вода под высоким давлением прокачивалась через двигатель, переходила в
пар, который, в свою очередь, поступал в конденсаторы, расположенные в передней
кромке крыла. Там пар снова делался водой.
Вода стекала в баки-накопители, оттуда насосы гнали ее в основной бак перед мотором.
– Любое колебание давления в системе – и перегретая вода сразу превращается в пар, —
сообщил пилот-испытатель фирмы Джордж Пикеринг. – Насосы запираются паровой
пробкой, мотор перегревается. Если быстро набрать высоту на полном газу, пар не
успевает конденсироваться в крыльях и бьет фонтанами из предохранительных клапанов.
– Иными словами, истребитель-перехватчик из нашей машины никакой, – вздохнул
Митчелл. – Надо думать дальше.
...Победителем конкурса стал биплан «Глостер Гладиатор».

15 мая 1934 года, Вулстон
Скотт-Пейн выглядел чуть смущенным.
– Реджинальд, ты занят? Есть время для разговора? Расскажи, только умоляю – пусть
это будут хорошие новости.
– Полагаю, «тип 300» будет удачнее того бедолаги, которого мы произвели на свет в
прошлом году, – ответил Митчелл. – Видишь? Крыло теперь без излома, кабина будет
закрытого типа, шасси – убирающееся. Да, и крыло – тоньше.
– А мотор? По-прежнему «Тосхок»?
– М-м... Пока не решил. А что?
– Мне предлагают продать наш единственный экземпляр «типа 224», – признал Скотт-
Пейн. – Видишь ли, полигонам ВВС нужна движущаяся мишень, и я подумал...
– Продавай, – махнул рукой Митчелл. – Что, он дорог нам как памятник собственной
неудаче? Будем работать, пока не добьемся успеха.
7 января 1935 года, Вулстон
– Думаю, идея с новым экспериментальным двигателем «Роллс-Ройс» PV12 была просто
отличной, – заметил Скотт-Пейн.
– А я думаю, она будет еще лучше, когда его доведут от неполных восьмисот до тысячи
лошадиных сил, – ответил Митчелл.
– Не ворчи, ведь в нас верят. Министерство авиации поддерживает наш проект. Иначе
оно не выдало бы нам десять тысяч фунтов.
Самолет был красив. Тонкое, эллиптическое в плане крыло обеспечивало малое
аэродинамическое сопротивление и высокую подъемную силу. Шасси с узкой колеей
складывалось «наружу», что выглядело непривычно, но такая схема уменьшала нагрузку
на крыло при посадке.
Министерство выдало деньги, но вместе с деньгами прислало оно и новое задание.
Четырех пулеметов теперь мало – нужен истребитель-перехватчик с шестью или
восемью пулеметами. Продолжительность полета может быть меньше, бомбовая нагрузка
отсутствует: самолет ориентирован на оборону и должен быть в состоянии вести бой с
истребителями и бомбардировщиками врага.
18 февраля 1836 года, Вулстон
Закончена сборка первого опытного самолета «Супермарин тип 300». Произведены