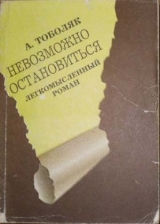
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
2. ПРОЩАЮСЬ С ИВАНОМ
Вот так, Малек, получается. Он в «скорой» хрипел, а я храпел в вытрезвителе. Меня добудились – видишь, живой! – а Толстяка нашего поднять не смогли. Дальше. Слушай дальше! Потом я пил коньяк в «Саппоро», а он уже лежал в морге. Помнишь, я рассказывал, как мастерил для себя петлю? А Ваня в это время, наверно, принимал лекарства. Он оберегал свое здоровье, всем известно. И что же, Малек? Я здесь, а он где? Где он сейчас, вот что я хочу знать. Не в могиле же, куда мы его уложили. Это слишком просто. Это для первоклассников. Помнишь, у Оруэлла: неугодных людей распыляли. Но и это тоже только физическая смерть. Никуда мы не исчезаем, Малек. Иван за нами наблюдает, я чувствую. Мы еще встретимся, побеседуем. Но я не о том! Я о справедливости. Почему именно он, а не я? Потому что жизнь – сука. У нее нет никаких привязанностей, принципов, никакой любви, Малек. Творит, сука, все, что пожелает, как вокзальная шлюха. Липнет к таким, как я, а Иван ей, видишь, не пондравился! Как ее понять? За что ее ценить, Малек?
Тише, Теодор. Иван давно и серьезно болел, ты же знаешь. А эти нелады с Ниной…
Да, можно и так! Ты же врач. Сердечный приступ, обширный инфаркт. Но это следствие. А причина в том, что эта паскудина… я не о Нине, я о жизни… до комичного нелепа и безрассудна. Ты задумывался… погоди!.. ты задумывался, почему в домах, где траур, занавешивают зеркала? Мы просто боимся прочитать в них бессмысленный текст нашей жизни… вот именно!
…В лице Ивана Львовича мы потеряли, друзья, прекрасного и благородного человека, который…
Кто этот хрыч, Малек?
По-моему, – директор института.
А Иван хотел защищать докторскую, да?
Да, готовился. Тише, Теодор.
Ну, и защитил бы – ну, и что? Вот я пишу как бы роман. Ну, и напишу – ну, и что? Ты скоро главврачом станешь – ну, и что? Все это ошибочные ориентиры, Малек. Близорукие мы, ребята! Элементарные штучные задачки решаем. Ване не это надо было. Я знаю, что ему надо было. Он искал, да не нашел. Нина – это его изначальная ошибка, он хотел ее исправить.
Тиш-ше, Теодор.
3. ТУТ И ТАМ
Дальше. Продолжение с дождем. Два дня утекают, оба неблагоприятного медицинского типа. Дни-астеники: ни кровинки у них в лице, ни проблеска улыбки. Низкое небо, сопки в мутной пелене, дождь заливает улицы, дома, кладбище; прохожие пробегают в куртках с островерхими капюшонами, одуванчики зябнут по обочинам, а старуха процентщица, все еще мной не зарубленная, предупреждает, что запас ее на исходе.
Я только с ней знаюсь, да еще с рыбачкой Зиной, постучавшейся наутро после Ваниных поминок. Все объяснимо: Зинина рыжая подруга выгнала ее из дома, а Зине нужно прокантоваться до понедельника в ожидании каких-то бумаг. И вот она является именно ко мне. А может, она явилась, чтобы забрать оставленную часть своего туалета, кто знает? Но Зина, краснея, хихикая, клянется, что позабыла в спешке, а не специально подбросила… почему бы не поверить ей? Она много делает доброго для Теодорова: наводит сияющую чистоту в его кубрике, моет посуду, стирает грязные теодоровские простыни, рубахи, бегает в магазин за продуктами, а он, как сказано, дважды навещает бессмертную бабулю-самогонщицу. В остальное время отходит, отмякает под одеялом.
Еще Теодоров и Зина вместе спят, как давние муж и жена. Иногда они разговаривают.
– Ты к лесбиянству причастна? – спрашивает, например, Теодоров. И поясняет более доходчиво: – Ты со своими товарками спишь?
Зине ничего не стоит соврать, ведь проверить Теодоров не может, не поедет он на плавбазу выяснять это, но она хихикает, ежится, облизывает губы и отвечает, что иногда случается. Они же по шесть месяцев в море, их много, а мужчин дефицит – ну вот. Но она не по своей воле. Иногда такие наглые попадаются, отказать невозможно.
– Да я не осуждаю, – говорит Теодоров. – Ну, и какие ощущения? – спрашивает он как специалист, собирающий материал для массовой брошюрки на эту тему. Объяснить это в точных словах Зина не может. Зато она любит, как ребенок, забавляться Теодоровской игрушкой, даже если та не откликается на ласки, напоминая резиновую тряпочку спущенного воздушного шарика. Она лишь иногда хихикает: «А ты не импотент?»; и продолжает свои шалости: то лижет быстрым кончиком язычка, то теребит, то ласкает языком промежности, а то пристраивается сверху на коленках и вводит в себя, помогая руками, одно за другим драгоценные теодоровские яйца, в которых, думает их хозяин, (либо в левом, либо в правом) таится, подобно кащеевой, его собственная смерть. Теодоров с грустью, как старец за ребенком, наблюдает за Зиной, ничего ей не запрещая. Раз ей нравится, зачем мешать?.. и так у этой Зины жизнь несладкая, а подлинного детства она со своими ублюдочными родителями, как выяснил Теодоров, так и не знала. Он сам изредка, считанное число раз, вступает в игру, то проникаясь к этой беспризорной сочувствием и нежностью, то представляя на ее месте некую командировочную: тогда чернявая, остроносенькая, тонконогая Лиза… да Зина же, Зина!.. так разгорается, так радуется, точно он надарил ей подарков. И уходит в море. Надолго. Или навсегда.
А Теодоров думает: пора мне, Ваня, выйти в люди! Но рождающийся день ничем не отличается от предшественника: такой же болезненно серый, без проблеска улыбки, и Теодоров, отложив выход, заваривает крепкий чай и заставляет себя сесть за стол в прибранной чистой кухне. Интересно, не надеется ли он подсознательно на некое совпадение? Мол, стоит ему только заняться Марусей Трифоновой, как раздастся стук в дверь и появится, как в тот раз, ее нешуточная соперница Елизавета Семенова? То есть не поверил ли он с перепоя, что художественная литература может и вправду влиять на жизнь, согласно партийным приказам соцреализма? Бредовый постулат. Никто не стучит в дверь, не появляется со смиренной улыбкой на губах.
Ну и ладно! Это Теодоров как-нибудь переживет. Но Маруся! Что произошло с ней за эту промелькнувшую неделю? С недоумением и брезгливостью вчитывается Теодоров в ее похождения. Он испуган, сражен, подавлен. Господи! Где же его славная, незаурядная Маруся? Кто и как сумел подменить ее этой примитивной ходульной однофамилицей? Кто, какой злоумышленник, какой бездарь так поработал в отсутствие Теодорова над его рукописью? Неправда правит бал на этих листах. Тошно мне, тошно. Только под угрозой заключения в одиночку можно читать такой текст. И Теодоров, осилив лишь две трети полуфабриката о Марусе, отшвыривает стопку листов. Они разлетаются по кухне и устилают пол, как… как… как обожравшиеся дохлые чайки. Он сидит как мертвый, пока сигарета не обжигает пальцы. Так. Так. Вот так. Значит, все-таки не бесследно проходят его упорные гомерические возлияния? Деградирует, да? Паутина затягивает мозги. С коротким писком массово погибают, как лемминги, нервные клетки. Тускнеет, теряя накал, воображение. Скудеет, лишайсь притока слов, память. Замедляется бег крови. И вот уже потеряно главнейшее – способность к самосуду. И вот уже смелым подъемом на Джомолунгму кажется то, что на самом деле – крутой спуск к бесплодным каменистым плоскогорьям. Иначе как бы он мог допустить такую оплошку с Марусей? Мертворожденная деваха! Сколько дней он, как некрофил, наслаждался ей! Что будем делать, Теодоров?
Илюша выдает мне остатки денег из сейфа. Лучше не считать их: и без того ясно, что с коммерческими магазинами придется подождать. Но поездка на материк еще пока возможна, и я звоню Никодимову. Уполномоченный литфонда изволят острить: наверняка, дескать, сегодня выпадет снег, ибо Теодоров трезв. «Пошел на х..!» – мысленно отвечаю я ему. Не расположен я слушать сегодня ветеранские шуточки. Никодимов один из тех, кто не добреет и не мудреет с возрастом, а наоборот, ожесточается на всех, кто моложе его… вот что странно. Но с путевкой все в порядке. Москва обещает мне отдых в Малеевке, и Никодимов, хочет он того или нет, обязан выдать проездные деньги.
С поездкой, таким образом, проясняется. С Марусей тоже все ясно: ее не воскресить. Марусю надо кремировать, а пепел развеять по ветру. А что мне делать с Елизаветой Семеновой? С ней не разделаешься так просто.
Я звоню в редакцию газеты «Свобода». Отвечает не кто-нибудь, а Суни. Ее-то голосок с легким международным акцентом я способен отличить от других.
– Слушай, – говорю я зло и нетерпеливо, – какого черта ты уехала и…
Сразу же идут короткие гудки: это Суни, не дослушав, бросила трубку. Та-ак! Не желает, значит, кореяночка беседовать со мной. А почему? Одно из двух: или я, будучи невменяемым в тот Ивановский вечер, выгнал ее из дома, или нестерпимо оскорбил другим изощренным способом. Та-ак!
Прошу у Илюши телефонный справочник и набираю приемную редактора. Откликается какая-то девица, секретарша, по-видимому. Я прошу пригласить к телефону Семенову. Очень нужно. Срочное дело. Звонят по междугородной.
– Одну минуту, подождите, – отвечает она. Короткая тишина, а затем:
– Але! Вы слушаете? Ее сегодня, к сожалению, не будет. Что-нибудь передать?
– А она в городе вообще-то?
– Да, она приехала, но сегодня работает дома. Передать что-нибудь?
Не отвечая, я кладу трубку. Та-ак! Работает, значит, дома. Приехала, значит, а зайти к Теодорову не удосужилась, не соизволила, не захотела. Придется, значит, ее кремировать, как Марусеньку… то есть вычеркнуть напрочь из памяти. Все одно к одному. Все одно к одному. Все одно, Ваня, к одному.
– Пойдем выпьем, Илья, – растерянно предлагаю я. Илюша суеверно отшатывается: сгинь, сгинь! Он завязал, и надолго. И мне тоже советует.
Все правильно! То есть жизнь продолжается своим чередом – и ни уход Вани, ни Марусино бесовское перерождение, ни Лизино отступничество не изменили ровного, целенаправленного ее течения. А Теодоров… что ж Теодоров!.. он всего лишь малая демографическая величина, которую можно не принимать во внимание.
Прощаюсь с Ильей и еду… куда? В медицинское училище, конечно. А зачем? А вот хочу, предположим, повидаться с вахтершей, с той самой, что не открыла мне дверь, а затем вызвала милицейский наряд. Хочу взглянуть в ее честные глаза. Хочу поблагодарить за бдительность эту стойкую женщину, эту хранительницу девичьей непорочности. (Так разогреваю себя в автобусе.)
На вахте, однако, никого нет. Входи, кто пожелает, насилуй кого угодно! Что ж, посетим в таком случае жилицу 309-й комнаты, усмехаюсь я, как сатир, и с кривой усмешкой на губах поднимаюсь на третий этаж. Мимо проскальзывают, пробегают всякие разные… толстые и тонкие, черные и белые… великое множество их тут обитает, и мое горячечное воображение вдруг услужливо рисует жуткую картину коллективной, поэтажной мастурбации в этом здании… меня передергивает.
Я стучу в дверь 309-й. Зло стучу, громко, как человек, которого лишили ключа от собственной квартиры и не желают туда пускать. Дверь тотчас открывается. Передо мной Семенова. Она же Лиза. Она же Лизонька. В коротком домашнем халате, с растрепанными волосами, с горящей сигаретой в руке.
Молча мы смотрим друг на друга. Одно мгновенье… другое… три, предположим, мгновенья.
– Привет! – говорю я. – Рада? Лиза молча отступает в сторону.
– Могу войти?
– Входи. Но у меня бардак.
– Неважно. К бардакам привык, – отвечаю я и переступаю порог.
Крохотная комнатушка на один стол и одну кровать. Подвесной рукомойник, под ним таз на табуретке. На столе плитка, чайник, пепельница с окурками, исписанные листы бумаги – творит, значит.
– Так! – говорю я, оглядев это общежитское убожество. – Живешь ты, выходит, одна, без подружки. Ясно.
– А ты к подружке пришел? – прикрывает она дверь.
– Я пришел… Я пришел, чтобы тебя забрать. Кончай писанину, одевайся, поедем. Побыстрей!
– Куда это я должна ехать и зачем?
– На море поедем, – нетерпеливо объясняю я. – Покажу тебе море. Живешь около моря, а ни черта не видела. А море такое большое, что не разглядишь другого берега, поняла? Вот какое у нас море! Соленое к тому же, знаешь об этом?
– Я только вчера приехала с моря, – скупо улыбается Лиза.
– Ты на берегу пролива была. Настоящее море на востоке, а ты ездила на запад. Сообразила? Одевайся!
– Ты не приказывай, пожалуйста, – поеживается она.
– Я не приказываю. Никогда и никому. Об Иване слышала?
– Да. Мне Жанна вчера вечером сказала. Я была у Нины. Страшно жалко его.
– Это ему нас жаль! Это мы тут влачимся, тащимся, пишем всякую чушь. У Вани теперь другие проблемы. Одевайся!
– А погода?
– Какая ему разница, какая у нас погода! А тебе какая разница? Скажи еще что-нибудь о здоровье. Тоже интересная тема. Будешь одеваться? – не терпится мне.
– А работа? У меня срочное задание, – хмурится Лиза.
– Какая еще работа! Дашь мне факты, я тебе надиктую сколько надо и чего надо, поняла?
– Обойдусь без тебя. Отвернись или выйди.
– А это зачем? – не понимаю я.
– Оденусь.
– А так не можешь? Ладно, отвернусь. Но имей в виду, я тебя внутренним зрением вижу. Дай докурить!
– Вот, возьми. – Она протягивает мне половинку сигареты через плечо. Как будто дует легкий ветерок: сбросила халат. – Слушай. Это ты приходил ночью? В тот день, когда звонил, помнишь?
– Нет, не я. Это Теодоров приходил. Ему по ночам не спится. Шарахается пьяный, кличет Лизу. А это ты сдала его в милицию?
– Что за чушь! Мне утром сказали, что…
– Болван этот Теодоров! Ждет-ждет Семенову, а она мотается по командировкам. Приедет и не думает появляться. Плевать ей на Теодорова!
– Неправда. Я приходила вчера, – слышу голос из-за спины. – Но ты был не один. Я не стала стучать.
На миг я замолкаю, осекаюсь… Замедленно спрашиваю:
– А с кем это я… интересно… был?
– Тебе лучше знать, кто у тебя хихикал. Вспомни.
– А! – восклицаю я. – Действительно. Была гостья. Верно! Это соседка заходила. Она алкоголичка. Я ее консультирую, как бросить пить.
– Понятно, – ровно откликается Лиза.
Откуда такое спокойствие, такое смирение? Не нравится мне это спокойствие, это смирение. Не свойственны такие добродетели той Лизе, какую я знал.
Я отшвыриваю окурок в таз под рукомойником, круто поворачиваюсь. Лиза стоит уже одетая: на ней пятнистая куртка с откинутым капюшоном, пятнистые штаны, в руках держит рубчатые туристские ботинки. Узкое, светлое лицо ее серьезно.
– Так пойдет? – оглядывает она сама себя.
Я сглатываю комок в горле. Трудно отвечаю: да, мол, так пойдет, в самый раз по погоде… но нет ли ошибки в том, что она вообще оделась? Правильно ли это?
– Ты же сам захотел. Или мы не поедем? – невыносимо спокойно спрашивает эта анти-Лиза.
– Нет, мы поедем. Но я все жду-жду, когда, черт возьми, ты подойдешь и поцелуешь…
– А сам не можешь?
– Могу. Еще как.
И подступаю к ней. Бац! Это туристские ботинки со стуком падают из ее рук на пол. А в следующее мгновенье мы стоим, обнявшись, прижавшись друг к другу, покачиваясь… Господь положил свои тяжелые длани на наши затылки и удерживает, не дает оторваться друг от друга. А затем:
БАНАЛЬНЫЙ ТЕОДОРОВ: Думала обо мне? Честно говори.
БАНАЛЬНАЯ ЛИЗА: Да. Все время.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕОДОРОВ: Плохо твое дело. Влюбилась ты в меня.
УМНАЯ ЛИЗА: Не обольщайся сильно.
МУДРЫЙ ТЕОДОРОВ: Знаю, что говорю! Сгубила, считай, свою молодость.
НЕЖНАЯ ЛИЗА: Дурачок.
РЕВНИВЫЙ ТЕОДОРОВ. А вела себя в командировке хорошо? Почему похудела?
ГРУСТНАЯ ЛИЗА: На себя посмотри. Постарел как.
Не ты ли, Ваня, из своей дали дирижируешь ее смирением и всепрощением?..
4. ЕДЕМ НА МОРЕ И…
Ну и становимся героями пустынного песчаного побережья. Ни одной шальной души, кроме нас, нет тут в такую погоду. Обложное небо. Серое, неприютное море с высокой волной. Моросит мелкий дождь. Ветер, ветер. Где-то вон за тем мыском, помнится мне, около старого песочного карьера стоял вагончик на колесах, бытовка рабочих. Да, стоит по-прежнему этот вагончик на колесах. Я надеюсь, что он, когда понадобится, приютит нас.
А Лизе, моей попутчице, похоже, не надо крыши над головой. Будь она нерпой, она легко и радостно ныряла бы в волнах; будь она чайкой, взлетала бы выше и круче других белокрылых, а будучи двадцатилетней жительницей асфальтовой столицы, по-своему предается вольной воле: то бежит по кромке прибоя, то украшает себя длинными мокрыми плетями морской капусты, то роется, как старатель, в береговых наносах…
Молодая, однако! – по-нивхски думаю я, шагая устало и невдохновенно следом за ней. Пусть, однако, позабавится! Сам я тоже ищу, но не раковины и не замысловатые деревяшки, а подходящее бревно. И нахожу, конечно. Прекрасное бревно. А рядом старая коряжина, под нее можно набить сучьев и запалить костер. Что и требовалось доказать.
– Э-эй! – сложив ладони рупором, кричу я и машу призывно рукой: беги, мол, сюда, гляди, чего я нашел!
Была бы Лиза нерпой, она бы испугалась и нырнула в глубину; была бы чайкой, облетела бы стороной, а доверчивая москвичка тотчас подбегает ко мне – разгоряченная, светловолосая. Десантница в пятнистой одежке.
– Что? Привал? – спрашивает, радостно дыша.
– Ага, привал. Займись-ка, Теодорова, столом, а я разведу костер.
– Ка-ак ты меня назвал? Теодорова?!
– А чем плохая фамилия? А ты зови меня Семеновым.
– Ну, знаешь! Я не согласна, нет!
– Давай, давай, Теодорова, не пререкайся. Ишь ты, однако, какая строптивая! Молода еще противоречить, – по-аксакальски бурчу я. И ухожу на поиски сучьев.
Глуп был бы Юрий Дмитриевич Семенов, не запасись он у вокзальных торгашей любимым своим напитком. Такса – шестьдесят рублей – поразила наивную Лизу и, может быть, лишила дара речи… во всяком случае, она не противилась покупке. Но я-то знаю, что и тут не обошлось без Вани, без его незримого присутствия… не кощунствую ли я, Иван? Да нет, поймешь и простишь… а пока я набираю охапку старых сучьев и с помощью газеты «Правда», повозившись, разжигаю небольшой костерок под коряжиной. Смотрю на Лизу. Она сидит на корточках. Светлые волосы спадают на лицо. Режет хлеб, драгоценную колбасу, чистит редиску.
А будь она нерпой или чайкой… А будь я клешнястым крабом или песчаной блохой… как бы мы могли встретиться? Кто бы тут находился вместо нас, в занятых нами объемах пространства? Странно иной раз, даже еще не выпивши, чувствовать себя самим собой, единственным и неизменным, лишенным возможности перевоплощения, не замечали?
А бутылку открыть – это уж мужское дело. Сядем на прекрасное бревно, вглядимся в огонь. Увидим там каббалистические знаки. Вглядимся в серое море. Не увидим паруса – и не надо. Не увидим, увы, резвого китенка. Лишь бугристая водная пустыня вплоть до берегов Америки. Поднимем лица к небу. Солнце нам снилось много дней назад. А теперь снятся тучи да тучи, гонимые ветром. Никак мы с тобой, Лиза, не пробудимся, чтобы увидеть что-то иное, как может Ваня. Помянем Ваню. Помолчим. А теперь скажи мне, Теодорова: надумала ты ехать со мной в Москву или нет?
– Да я бы с радостью! Но как, как?
– Ладно, я сам поговорю с Жанной. Разрешаешь?
– Поговори. Но она ведь не редактор.
– Побродим по Москве. Покажешь мне Кремль. Говорят, он красивый.
Лиза смеется и давится кусочком хлеба. Я хлопаю ее по спине, обнимаю за плечи.
– Познакомишь меня со своими сестрами, – продолжаю мечтать.
– Черта с два!
– А почему?
– А потому! Они молоденькие. Одной пятнадцать, другой семнадцать.
– Чудесный возраст. А матери твоей сколько?
– Маме… маме, как тебе, чуть больше.
– Ну, познакомишь меня с мамой.
– Слушай, перестань… не хами.
– А что я сказал? Отец у тебя пьющий?
– Папа у меня воинствующий трезвенник.
– С ним не надо знакомить, – отвергаю я главу семейства. Лиза вскидывает лицо к небу.
– Господи, Господи! – говорит она, будто молясь. – С кем я связалась, Господи! Прости меня.
– Вряд ли простит, – сомневаюсь я.
– Я тоже так думаю: вряд ли. Слушай! – вдруг оживляется она. – Как тебя?.. Теодоров! Слушай, а почему я ничего не знаю о тебе? Ты что, сразу таким родился, сорокалетним? У тебя детство было? Юность? Ты из пробирки или у тебя есть родители? Кто ты вообще-то, кроме автора книжек? Ну-ка говори! – заглядывает она мне в лицо.
– А никто, Лиза. Абстракция я.
– Скрытный ты! Я заметила… открытый, но скрытный. А маленький ты, наверно, был смешной, – как-то по-матерински любовно произносит она.
– Нет, я всегда был трагичен, Лиза. С пеленок.
– Ты два раза был женат, да?
– В детстве? Да, два раза.
Но она не улыбается, не спускает с меня глаз.
– А детей у тебя сколько?
– Давай выпьем – скажу.
– Хорошо. Только немножко.
Ветер раздувает огонь костра, но гасит огонек спички. Мне удается все-таки закурить со второй попытки, а Лиза прикуривает от моей сигареты. Я целую ее в левый глаз, потом в правый, как бы притупляя остроту зрения. Нежные солнечные пятна проступают на щеках Лизы. Она прижимается ко мне тесней, я крепче обнимаю ее за плечи.
– Ну, сколько же? – не теряет она темы.
– У меня одна дочь. Зовут Олей. Она здесь, – отвечаю я.
– Правильно! Не соврал, – хвалит меня Лиза. – Я у Жанны спрашивала.
– Но вполне возможно, что где-то в стране…
Она закрывает мне ладонью рот. В глазах вспыхивает гневный огонек.
– А вот об этом помолчи! Заткнись, пожалуйста! Я на тебя никакого права не имею, поэтому простила ту мерзость… брр!.. и твою красотку Суни, раз никакого права не имею. Но при мне ни об одной девке ни слова, понял? Можешь только о Марусе, да и то необязательно.
Я убираю ее руку, глубоко затягиваюсь дымом.
– С Марусей, – говорю, – все кончено. Ошибся я в Марусе. Крупно.
– Да ты что?! – пугается Лиза. – И что теперь?
– Надо начинать сначала. А сил в себе что-то не чувствую. По-моему, признаки импотенции.
– Тьфу, тьфу! Сплюнь! Ерунда!
– Нет, не ерунда. Мне лучше знать. Да и пора уже. Сколько можно на бумаге безобразничать! – усмехаюсь я.
Она смотрит недоверчиво, жалостливо и страдальчески. Тихонько говорит:
– Вот почему ты такой… на себя непохожий. Все вместе накатило, да?
Да, все вместе: пожалуй, она права. Иван. Книжка. Пьяная пьянь. Сорок лет и крутой подъем на пятый десяток. Неверие. Плач дочери по ночам. Легкий образ петли. Все вместе сошлось, правильно сформулировала. И ты, Семенова, то ли чайка, то ли нерпа, то ли выдра, то ли любовь, то ли выкуренная сигарета в этом сообществе нелепостей, случайностей, угнетающих обстоятельств, называемом иногда жизнью. Не спастись ли нам от нее в рабочей бытовке, в вагончике на колесах, не укрыться ли там от надзора дождливо-слезливой матери-природы?
Взломщик Теодоров. Железным прутом (нашелся поблизости) срываю доски, которыми забито окно. Стекол нет, рама легко поддается – путь открыт. Не так ли в детстве золотушном, в юности веселой… А! лучше не вспоминать! А то замелькают, чередуясь, чердаки и подвалы, пожарные лестницы и водосточные трубы, чужие дачные домики, сады-огороды… смешные слезы, нелепые клятвы… пепел, как уже сказано, невосстановимая история! Но что-то, выходит, еще осталось во мне от того прежнего, от былого отчаюги, коли ловко проскальзываю в окно, как тать, и втаскиваю за руку подругу-десантницу? Сухо, тепло тут, чисто. А вот и ложе для нас: широкие деревянные нары.
– Матрас этот, гадость – вон! – тут же по-женски командует Теодорова. Озирается, осматривается, принюхивается, проходит во вторую половину вагончика, возвращается вроде бы удовлетворенная – точь-в-точь как хозяйка новой квартиры. Как они это любят и умеют – приспосабливать любое местечко для своих потребностей!
– Может, шторки повесить на окна? – любопытствую я, сидя на нарах.
– Молчи! Я должна освоиться. А нас тут не убьют?
– А ты тут, никак, прописаться собираешься?
– Да, знаешь… тут неплохо. Я бы тут пожила некоторое время… с видом на море, – задумчиво сообщает Лиза, подходя ближе.
Я обхватываю ее за бедра и притягиваю к себе.
– Подожди! А постель? Давай куртку. Свитер снимай.
Это что-то уж слишком… такая обстоятельность и деловитость перед божественным актом… Я хмурюсь. Снимаю куртку, стаскиваю свитер и смотрю, как она аккуратно укладывает их на нары, приговаривая:
– Вот так. И вот так. Вот так-то будет лучше! А теперь моя куртка. А теперь…
– Ну, знаешь, довольно! – прерываю я ее хлопоты и притягиваю к себе.
Пропустим, пропустим. Все эти пуговицы, молнии, застежки… верхняя одежда, нижняя одежда… все это раздражающие помехи на пути к истине. Я не нахожу, как иные, сладкого наслаждения в расстегивании, скажем, лифчика… наоборот, какие-то странные мысли мелькают о подпругах, уздечках, шпорах… не знаю почему. Я предпочитаю изначально голую женщину, женщину из пены морской или из-под душа… без всяких – пошли они! – текстильных атрибутов.
– Ну что ты возишься! – начинает нервничать и Лиза, стоя ко мне спиной.
– А-а!.. – рычу я и, рванув, ломаю застежку бюстгальтера.
А вот сдернуть ее трусики – это проще. Лишь спустишь их до колен, а дальше она сама переберет ногами, как… как трепетная лань, и освободится от них. Сам я разоблачаюсь в одну микросекунду… мне это ничего не стоит! – и, сидя на низких нарах, целую ее в крутые, горячие ягодицы… раз целую, другой, увлекаюсь… целую спину… и вот, обняв за груди, осторожно усаживаю ее на себя.
Лиза протяжно стонет. Я не вижу ее лица, но знаю, какое оно сейчас: страдальческое, искаженное, как при сладостной пытке… бывают такие. Но слова я слышу вполне земные:
– Ты… надеюсь… о-о!.. никакую заразу не подцепил без меня?
– Нет! У! А ты?
– А я, а я…
– А ты? а ты?
– А я… о-о!.. я не такая тварь… как твои подружки. Я очень тебе верна.
– Умница. Умница, – качаю ее туда-сюда, к себе и от себя. Держу за бедра, обцеловываю спину, глаз не спускаю с ее задика, раздвигаемого мной. – Я тоже! У-у! Тоже.
– Что тоже? Что тоже? Говори!
– Верный-преверный. Верняк я. Верняк.
– Врешь ты… знаю! Врешь! О-о!
– У-у!
Так беседуем. (Повторения тут неизбежны.) Она тоже видит, склонив лицо, как мой разгоряченный молодчик то исчезает, то появляется. Я знаю, что слюнка сейчас у нее на губах. Язычок трепещет, как у змейки. Я могу попросить ее о чем угодно – знаю, и все она исполнит.
– Хорошо? – спрашиваю. – Хорошо? (Повторения неизбежны!)
– Да! Очень! Да!
Что еще, казалось бы, мне надо? Женщина… любимая?.. говорит «да, мне хорошо», лучше ведь слов не бывает. Она говорит «да», и она не лукавит, не врет. Очень сильное единение у нас, редкая слитность! Но я чувствую, знаю, что может нам быть еще лучше, можем мы стать еще ближе. И я отваливаюсь спиной на расстеленную одежду, увлекая Лизоньку за собой.
– Что ты?! – пугается Лиза. – Все, что ли? Так быстро?
– Нет, не все. Не все, – успокаиваю. – Подожди. Я хочу… Как объяснить ей, чего я хочу? Ну, ей-то я все-таки объясню, а вот как растолковать другу-читателю? Поймешь ли, друг-читатель, если я скажу, что почувствовал неодолимое желание… как бы образней выразиться?.. сменить авангардистскую, предположим, прозу Саши Соколова на добротные семейные тексты Элизы, предположим, Ожешко? Уловила, Лиза? Уловил ли, друг-читатель? Ведь это значит, проще говоря, что я не расположен нынче к сатурналиям. Ты не будешь против, Лиза… нет, конечно… если эта наша близость, третья по счету, пройдет под знаком домашнего, что ли, умиротворения, а лучше сказать – в познании не только бренного тела, но и неисповедимой души? Поэтому… пусть ложе жесткое… прими, пожалуйста, классическую европейскую позу… вот так, вот так, умница… а я стану двигаться вдумчиво и нежно, бережно и осторожно, мягко и, может быть, даже грустно. Давно ни с кем так… ты оценила, да? Соскучился Теодоров по простым и ясным мыслям, истосковался по взаимопониманию… да и женским своим чутьем ты наверняка улавливаешь, что происходит что-то необычное, небывалое, нечто вроде исповеди тут, вверху, и там, в глубине… и уж не знаю, доводилось ли тебе когда-нибудь ощущать такую бесконечную преданность, которую пытается высказать сейчас Теодоров со своим помощником.
– Мне… с тобой… очень хорошо, – слышу ее шепот губы в губы.
Да и мне тоже, что уж тут скрывать! А потому – еще бережней и нежней, еще вдумчивей и трепетней, – с грустной любовью, Лиза.
– Я… на небесах. А ты? Почему молчишь?
– Молча говорю, Лиза. Должна слышать.
– Я тебя… сейчас… люблю. А ты?
– Да ведь знаешь сама.
– Да, я чувствую. Спасибо. Спасибо.
Закрываю ей рот губами, хотя понимаю, что слова, слова, слова – это подлинник Вселенной – и могут в иные мгновенья вознести чувства на небывалую высоту. Но способны и уничтожить их, вот чего я опасаюсь. А потому помолчи, пожалуйста… парить, так парить в безмолвии, в тесных, молчаливых объятиях, столь редкостных, как эти.
Но что такое?! Лиза вдруг резко дергает головой, скашивает глаза. Руки ее упираются мне в грудь, отталкивая. Рывком я поворачиваюсь. Нет, это рок! Безусловно, злой рок преследует Теодорова и Семенову! Каким образом и откуда возник у окна этот старикан в брезентухе с капюшоном, мелколицый, мелкотравчатый, но живой?.. Не в песке же он хоронился до времени, как жук-скарабей, чтобы появиться на божий свет в самый неподходящий момент! Стоит, помаргивает, смеется.
– Дед! Пошел вон! – ору я, вскакивая на колени. Ожидаю, что мгновенно исчезнет, – может быть, опять юркнет в песок, – но он как стоял, так и стоит, ничуть не напуганный.
– Ишь ты какой грозный! А ты кто такой, что здесь командуешь? – бойко отвечает он. – Лучше б мне оставил маненько! – причмокивает губами.
Лиза взлетает на нарах, мгновенно свирепея.
– Ах, ты, старый пес! – кричит. – Пшел отсюда к своей карге! Но старикан и тут не исчезает, не проваливается сквозь землю, не бежит в панике от ее праведного гнева… и я в каком-то смысле его понимаю: глядеть сейчас на Лизоньку, растрепанную, сияюще белокожую… – одно удовольствие!.. и этот… кто он? сторож, что ли?.. подбадривает ее:
– Покажись, покажись! Ишь какая! А вот окно вы зачем выломали? Имущество казенное. Это как?
– Юра, прогони его… а то я его убью!
– Хрыч, – говорю я. – Сгинь! Добром прошу.
– Ты мне не грози. Я тут при деле. Антенну за бугром видал? Вот я там. Сейчас помощь кликну, ребята мигом набегут.
– Дай ему водки, Юра! Там осталось.
– Дед, хочешь водки?
– А я ее не пью. На што она мне?
– А чего тебе надо? Денег надо?
Это предложение заинтересовывает старикана. Он корябает пальцем около носа, соображая.
– Деньги что ж… Деньги давай, – милостиво соглашается.
– Нет!! – вскрикивает Лизонька. – Еще чего! Не давай! – И отталкивает меня, порываясь соскочить с нар и разделаться с этим несусветным пришельцем. Но я уже сам встаю (а помощник мой, ясное дело, кисло свешивает голову) и угрожающе направляюсь к окну. Старикан тут же отбегает на безопасное расстояние – в брезентухе, резиновых сапогах.
– Дед! – укоризненно говорю я ему. – Ты совесть имеешь, а? Ты понимаешь, страшный ты дедуля, что ты наделал?
– А чего? – откликается он издали. – Порядок соблюл.






