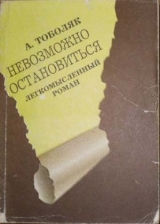
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
– Ага, жди от тебя! Ты как рухнул, так и уснул.
– Я, наверно, сильно задумался. Со мной это бывает. Ну, неси, что ж ты.
Прыг-скок с тахты. Голенькая, конечно. Большое родимое пятно ниже груди, знакомое. Приносит ополовиненную бутылку, чашку мою родную и бутерброд с салом. Присаживается на край тахты.
– Эй! – говорю. – Прикрылась бы. Егор же тут.
– Ну и что? Не видал он, что ли, голых? – хихикает Зина.
– Это верно, – соглашаюсь. – Ну, наливай, что ли. Умеренно. Нет, давай побольше, чтобы не смаковать.
Удивительно, как мерзость эта лезет в глотку Теодорова в любое время суток! И как он еще жив, да еще что-то временами соображает, просто удивительно!
– Ну как? Полегчало? – спрашивает Зина после длинной паузы. Смотрит сострадательно, без осуждения. За это спасибо.
– Да. Сразу полегчало, – помедлив, отвечаю я. – Чувствую, достигла мозга.
– А ты все еще книжки пишешь?
– А ты как думаешь?
– Пьяный пишешь?
– Нет, исключительно трезвый.
– Значит, не пишешь, – заключает она.
Ладно, разубеждать рыбачку не стоит. У нее свои понятия. О жизни и вообще. Вон какие у нее руки: красные, словно обожженные, в задирах каких-то и порезах. Сколько же через эти руки прошло сайры и горбуши – сколько? – проникаюсь я участием. Повело меня, повело. Но приятно так повело, невесомо… Добрая девица, бесхитростная. Надо ей сделать что-нибудь доброе, бесхитростное.
– Полезай сюда, что ли, – предлагаю я. – Или не хочешь?
– А ты, думаешь, сумеешь? – хихикает Зина.
– А ты меня расшевели. Помоги.
– Ох, мамочки, ну и мужики пошли хилые! – вздыхает она – и юрк! – уже рядом со мной под покрывалом.
«Прости, Лиза, – мелькает у меня мысль. – Надо же помогать людям».
И вдруг я вспоминаю и отстраняюсь.
– Погоди, Зина! А ты, извини, не того… не бациллоносительница?
Она смеется.
– А ты что, СПИДа боишься?
– СПИД ладно. А вот гонорея…
– Обалдел ты, что ли! Я же на рыбообработке. Нас каждый месяц проверяют. Да совсем недавно проверяли.
– Ну, тогда что ж. Тогда давай, приступай.
– Фи, какой маленький, слабенький, дряхленький! – причитает она.
– Он умеет расти. Но он привередливый. Ты его раздразни.
Но не суждено нам с Зиной вспомнить былую одноразовую близость. (Может, это к лучшему?) Густой, хриплый рык раздается из дальнего угла:
– Теодор! Ты как там?
Я приподнимаюсь на локте. Егор лежит, откинув одеяло, всклокоченный, черный, бородатый. А рядом с ним (я промаргиваюсь) какая-то рыжая, полнолицая… кто такая?
– Доброе утро! – говорю я. – А с кем это ты возлежишь, Егорушка?
– Сейчас узнаем, – басит он. – Тебя как зовут?
– Не хами, – сердито отвечает рыжая. – Слушай, Зинка, нам спешить надо. Опоздаем в управление.
Егор глядит на часы и вдруг сильно бьет себя ладонью по лбу: мать-перемать! У него же сегодня в десять ноль-ноль запись на радио. Интервью должен дать и стихи читать из последней книжки.
– Значит, похмеляться не будешь? – огорчаюсь я.
– Нет. Не могу.
Вдруг все трое развивают бурную деятельность: начинают двигаться, перемещаться, суетиться. Рыбачки с одеждой в руках удаляются в туалет и ванную комнату. Мы с Егором кратко восстанавливаем события. Его память сохранила больше, чем моя, но и его воспоминания не слишком достоверны.
– А с этой рыжей у тебя что-нибудь произошло? – интересуюсь я.
– Блядь она, – бурчит Егор, – стопроцентная.
– А ты что хотел? Гвоздику непорочную?
И вот уже нет их. Никого. Ушли. А я остаюсь наедине с недевственной уже подругой-поллитровкой.
8. ТЕРЗАЮСЬ
Надо бы еще поспать. Отключиться и в забытьи обрести новые силы. Они понадобятся для дальнейшего существования. Судя по всему, конец еще не сегодня и не завтра. Иногда думаешь, что подошел предел, крайняя точка, безнадежней уже не может быть. Но это ошибка, как я понял. Всегда находятся мгновения еще более мрачные и безысходные. Вот, кажется, все – глухой, непроходимый тупик. Черные-пречерные обстоятельства обложили со всех сторон. Хуже не бывает. Неправда! Бывает и будет. Мрак и отчаяние бесконечны. Иное дело счастье, радость. Они конечны. Эти чувства в больших дозах становятся непереносимы. Клавдия помнит, и я помню тот длинный период согласия и понимания, когда я шел на взлет. Все ладилось у меня. Писательская удача вела, как верный поводырь. Дочь радовала пытливым умом и здоровьем. И что же Теодоров? Застолбил, продлил насколько возможно эти безоблачные дни? Да нет же. Я почуял беспокойство, а затем ясно ощутил кромешную тоску. «Так не пойдет! – сказал я сам себе. – Жить так безмятежно и удачливо – это патология». И все сделал – то неосознанно, то вполне сознательно, – чтобы нагнать на семейную жизнь тяжелые предгрозовые тучи.
То есть добился чего хотел, и вот теперь лежу один в разгромленной квартире, понимая, что конец не сегодня и не завтра, раз избежал позавчерашней веревки. А когда? А скоро – по всем признакам. Подождите немного.
Странно, конечно, но многолетняя потребность чтения и сейчас дает о себе знать. Все-таки Теодоров не тот чукча из старого, элементарного анекдота, который на вопрос: «Вы читали Толстого?» отвечает: «Я не читатель, я писатель»… нет, не тот. Вот аргентинец Хорхе Борхес. Вот Набоков, Солженицын, Павич… Кого предпочесть из библиотечной литературы (своей у Теодорова, увы, нет)? Что-нибудь сейчас полегче надо… И я сочетаю остатки водки с неглупым детективщиком Ле Карре.
Радио оптимистично сообщает о погромах в республиках, о посиделках в Кремле, о происках безумного именинника Саддама. Безусловно, мир велик, думаю я, одновременно читая и слушая (это несложно). «До того он велик, что иные читатели книг, испытав бесконечный испуг, утверждают, что мир – только, миг, лишь мгновение, полное мук». Леонид Мартынов, давний, увы, покойник. Оставил после себя строчки и ушел. Все что-то оставляют после себя. Так заведено. (И я предназначаю эти страницы для родственников и друзей, для разового употребления.)
Собственно говоря, я жду стука в дверь. Возможно, кто-нибудь (Илюша, возможно) навестит одинокого Теодорова, чтобы поправить свое здоровье и прояснить вчерашние обстоятельства. Но вряд ли, вряд ли. Застольная свобода у нормальных людей чередуется (должна чередоваться) с рабочим и семейным укладом – и по необходимости, и по душевному зову. Только тогда она, эта свобода, по настоящему ценна. А я, Теодоров-сан, возвел ее в бесконечную степень: по неудержимости своей и по невозможности иного выбора. Не придут, нет. Переборют похмельный синдром, наведут мосты с женами (это несложно для них, умеренных), выйдут на службу (они служат кто где). Нет, не придут, нет. Уже за то спасибо, что вообще заходят. Ведь сплошь и рядом такие одиночки, как Теодоров, выпав в осадок, уже не приживаются на прежней человеческой почве, теряют бесповоротно старые узы и связи… да-а.
А хусейновское фанатичное воинство поджигает нефтяные скважины в Кувейте. Я, Теодоров Юрий Дмитриевич, родился 31 июля 1951 года в Кувейте. Помнится, как страшно я вдруг растерялся, оказавшись в этой квартире. Никак не верилось, что такой исход стал возможен, что давние твои угрозы, Клавдия, приобрели ясные материалистические очертания: развод, размен, условный раздел имущества. Казалось бы, живи и радуйся, Теодоров, вольной воле, ведь ты так к ней стремился! А я что делаю в эти дни? Я, видите ли, как потерявшийся младенец, плачу ночью, уткнувшись в подушку… так не по-мужски, ох, не по-мужски! Дочь мне, видите ли, жаль, осталась без отцовского присмотра… и себя, сироту, жаль не меньше, чем дочь: нет за мной пригляду. Вот и начинаю мрачно пить, именно мрачно, а не как обычно – в обнимку с веселым, дружелюбным Бахусом… и мрачно изредка плачу. Но такой живучий этот писателишка Теодоров! Приспосабливается ведь к обстоятельствам. То есть вдруг, в один просветленный день, остро осознаю, что основная часть моей жизни завершена, возврата к ней нет, а остаток – в моем личном, и только личном распоряжении. Следовательно, что же? Не надо, следовательно, хныкать. Прочь жалкие слезы! И не надо гневаться на судьбу: мастерил ее сам, с огромными усилиями, с многолетней настырностью – и добился в некотором роде совершенства.
Молодец, Юра! Талант. Развивайся в том же направлении, благо, никто теперь не чинит преград. Глядишь, со временем (если не окочуришься от инфаркта или инсульта) эта ни от кого не зависимая, почти абстрактная жизнь обернется чем-то неожиданным – например, невиданно удачными книжками-детишками, продолжателями рода Теодоровых…
И неожиданно засыпаю на этих воспоминаниях. И просыпаюсь при высоком уже солнце, заливающем комнату сильным светом.
Тяжелая, неподъемная голова, жажда – кто испытал, тот знает. Сердце (есть у меня сердце) бьется панически убыстренно. Что же такое я видел во сне – мутное, зловеще тревожное? Блуждал среди каких-то ржавых металлоконструкций, искал кого-то, аукал – да, да, Ольку искал, дочь свою – рыдал, матерился… Нашел или нет? Не помню. Зато обжигает мысль: ведь я не пришел вчера на свидание к кинотеатру! Она ждала, а папуля не соизволил явиться. Забыл начисто – до того ли ему было. У-у, сволочь! четвертовать тебя мало, подонок! – вою я. Приступ бешенства. Растерзать себя готов, разодрать на части.
И вот, наскоро ополоснув лицо (нет, харю, морду, рыло! ибо таких лиц, как у меня сейчас, в упорядоченной природе не бывает), бреду по улице Сергея Александровича. Погода тихая, ясная, а на душе гарь и муть. Не вписываюсь я в желтые поля одуванчиков. Не понимаю сейчас потаенную, мудрую жизнь молчаливых сопок. Бесприютен я на многолюдной улице. Тут подбегает кудрявый мальчишка, грязный Гаврош. Просит:
– Дядя, дай рубль!
Я останавливаюсь. Тупо смотрю на него.
– Зачем тебе рубль?
– Жвачку куплю.
– Жвачку, малыш, нынче за рубль не купишь.
– А у меня еще есть. Вот!
– Хорошо, – говорю я. – Дам тебе рубль. Но при одном условии: никогда не пей, ладно?
Вручаю ему бумажку и подхожу к телефону-автомату. Набираю библиотечный номер Клавдии. Долгие гудки, затем ее нетерпеливый голос:
– Да, да! Слушаю!
– Дело в том, – говорю я без предисловий, – что вчера я не сумел прийти на свидание с Ольгой. Как она? Очень расстроилась?
Пауза. Затем:
– А ты как думаешь?
– Дело в том, что меня не было в городе. Срочно пришлось выехать.
– Неужели? – язвит Клавдия.
– Да.
– Дело в том, – вторит она мне, – что Оля видела тебя на улице из окна автобуса. Еще есть версии?
– Ладно. Скажи ей, что я был сильно занят.
– А почему я должна врать, можешь объяснить? Ты пьянствуешь, как богодул, а я должна тебя покрывать? Нет, уволь! Оправдывайся перед ней сам.
– Пусть она завтра зайдет ко мне часов в одиннадцать. Я буду дома. В квартире относительно чисто. Посторонних нет. Я трезв. Передашь?
Моя бывшая жена некоторое время молчит.
– Как жаль, что она тебя любит! – наконец, слышит Теодоров. – Но смотри, Юрий! Если…
– Только без угроз, Клавдия. Прошу.
– Ты платишь хоть за квартиру? – вдруг спрашивает.
– Нет.
– Ну, ясно!.. Бедная девочка! – нелогично заключает она.
Прощаюсь. Звоню на службу Илюше, в дирекцию Чеховского фонда (есть у нас такой). Не надеюсь, что застану на месте, но он неожиданно откликается неожиданно бодрым голосом:
– Юраша, ты? Здравствуй! Ты живой?
– Относительно, Илья. Точно не знаю. А ты как? Ночевал дома?
– Да, представь, попал-таки! Глухой ночью. Но мне, Юраша, повезло. Жена и дети были у тещи. А утром я сбежал пораньше, оставил записку. Поезд, понимаешь, опоздал. Авария на железной дороге. Жертв нет. Откуда звонишь?
– С автомата.
– Один?
– Как перст. Приехать не хочешь?
– Хочу, Юра, но не могу. Извини. Накопились делишки. Да и жена должна зайти.
– Что ж… ладно.
– Плохо тебе?
– В физическом смысле терпимо, а в моральном…
– Ты бы сделал паузу, а? – жалобно говорит Илюша.
– Попытаюсь. Ничего, выкарабкаюсь.
– Вы с Егором еще буйствовали?
– Так… слегка.
– Я детали смутно помню. Кажется, порывался уйти с вами. Но Ольга, садистка, не пустила.
– Любит тебя, уважает.
– Вот это и скверно!
– Ладно, Илюша, будь здоров. Если что, я дома, – тяжело выговариваю я.
– Держись, Юра! – напутствует он.
Теперь еще надо позвонить Лизе. То есть Лизе Семеновой. А надо ли, и зачем, собственно? Кто она такая, Лиза Семенова, и чем отличается от своих однополых подруг? – смутно думаю. Пришла, растревожила, разбередила что-то позабытое… ну, и что из того? Как появилась, так и исчезнет, оставив в моей квартире лишь дактилоскопические знаки. И все-таки набираю зачем-то знакомый Жаннин номер.
Откликается женский голос – чей? Я плохо различаю женские голоса – кроме Клавдиного. У них, кажется мне, одинаковая модуляция, тембр – словно сообща разучивали, тренировались и добились полнейшего сходства.
– Могу я поговорить с некой Лизой Семеновой?
– Некая это я. Семенова тоже я, – слышу в ответ.
– А-а! Извини. Не узнал. Это некий Теодоров.
– Я узнала. Так?
– Я зачем, собственно, звоню, Елизавета. Трудно объяснить. Видимо, я хочу узнать, как ты живешь. Как ты живешь?
– Спасибо. Хорошо, – бесстрастно отвечает. – А ты?
– Я, извини, хреново.
– Даже так? С чего бы это?
– А вот так уж. Не хочешь сегодня приехать? Я куплю заварку и, возможно, торт. Если хватит денег.
– Спасибо. Ты очень щедрый. Но я не смогу.
– Не сможешь или не хочешь?
– Честно говоря, и то, и другое.
– Что ж, ладно. Передай привет Жанне и Суни.
– Обязательно.
– Ну, а гипотетически, – говорю я смутным голосом, как в глубоком сне, – мы еще сможем когда-нибудь встретиться, как думаешь?
– Город маленький. Вероятно.
– Я желаю тебе, Лиза, больших творческих успехов.
– Спасибо. Взаимно.
– Я никогда тебя не забуду.
– О, Господи!
– Наверно, я полюбил тебя от всей души.
– Да-а, повезло мне.
– Выколю твое имя на лбу, не возражаешь?
– Пожалуйста, не надо. Не уродуй себя.
– Прощай, Лиза.
– До свиданья.
И, положив трубку, я плетусь в продуктовый магазин, где отвращением, с рвотными позывами разглядываю на прилавке тощих кур, их яйца, океанскую рыбу. Но раз решил продолжать существование, то надо иногда питаться. Пошарив по карманам, я обнаруживаю, что денег у меня столько, сколько было вчера – тридцать пять рублей с мелочью… следовательно, Илюша отверг вчера мои нищенские суммы. Что-то покупаю, что-то плачу. Действую, передвигаюсь – как будто с закрытыми глазами. На базарчике по соседству приобретаю у кореянки несколько жвачек. Это скромный презент дочери. Направляюсь по улице Сергея Александровича домой, думая: нелегкая, жутковатая ночь предстоит тебе сегодня, Теодоров!
Врагу не пожелаю такой ночи!
А спрашивается: есть ли у меня враги? Мало у меня истинных врагов. Так уж исторически сложилось, что обрастаю в основном друзьями-приятелями, ну, нейтральными также людьми, a вот закоренелых ненавистников… раз, два, три всего-то. Стараюсь в это верить. Ценят, думаю, Теодорова за его вечное, слабоумное дружелюбие, за понимание, за безотказность составить компанию, – за то, что не выдрыгивается Теодоров, не унижает высокомерием, искренне не верит в свою исключительность, как верят, заблуждаясь, некоторые. Вот почему и врагу не по-желаю я такой ночи. Живи, вражина, как тебе живется, будь здоров и не забывай о непременном погосте: он подружит нас. Обливаюсь потом, мечусь, отбиваюсь от каких-то злодеев, сочиняю немыслимые сюрреалистические тексты, воплю наверно… Неясно, где сон, а где явь: там и тут тьма, страх предчувствие конца – кто испытал, тот знает. Лишь под утро ненадолго забываюсь, а глаза открываю с таким чувством, будто из ада в ад вхожу.
Хуже не бывает. Это, конечно, тупик. Абсолют безнадежности. Однако все-таки встаю, плетусь в ванную и подставляю голову под струю.
Тут, как будто специально, невыключенное, придурошное радио предлагает мне заняться утренней гимнастикой. Сейчас непременно займусь… а как же, непременно! Каждый божий день буду, едва продрав глаза, расставлять ноги на ширину плеч, сгибаться и разгибаться, как велит Российское радио. Нет, я сделаю больше. Я обзаведусь гантелями, а может быть, штангой. Приобщусь к холодным обтираниям. На завтрак стакан томатного (яблочного, березового) сока, гренки, яичница из трех сальмонелл. Навсегда покончу с курением. Объявлю алкоголь вне закона. В результате накоплю денег и куплю на них новый костюм, галстук – галстук непременно! – носовые платки и трусы. Обязательно куплю телевизор, ковер на стену и не исключено, что люстру. И ни дня без строчки! Главное, ни дня без строчки, как завещал некий неутомимый мастер пера. Неважно, какие это будут строчки и нужны ли они кому-нибудь, кроме Теодорова, – все равно буду прилежно и настырно писать, писать, писать. Останется лишь приобрести жену. Что ж, найду подходящую жену. На три года моложе меня. Ни больше, ни меньше, чем на три года. Это скромно, невызывающе. Ничего, что женюсь без любви, ничего. Лишь была бы она терпеливая и старательная в домашних делах, оберегала бы здоровье и покой Теодорова. Таким образом, обустроюсь, стану полноценным гражданином. Осознаю, что первостепенные события – семейные, а второстепенные – все остальные, включая голодный мор и войны. Может быть, слегка ожирею, обрюзгну… да нет, гимнастика не позволит. Проживу очень долго, чрезвычайно долго, соревнуясь с Вечным Жидом, и, если все-таки умру, то не под потолком ванной комнаты, а на чистом ложе, под заботливым присмотром, со словами напутствия: «Никогда не пейте, люди, не блядствуйте! Работайте усердно и упорно!» Оставлю, естественно, светлую память о себе и денежные накопления.
Аминь, Теодоров, аминь! – поздравляю мысленно себя и, слегка воспрянув (опять появился светлый клочок в затянутом тучами, небе!), одеваюсь, беру сумку с трехлитровой банкой и выхожу на поиски пива. Олька скоро придет (вот он, светлый клочок!). Не могу я ее встретить в таком растерзанном виде. То есть, нехорошим я буду папой, если покажусь ей на глаза таким непотребным. Только поэтому ищу помощи у пива, а иначе бы ни за что, ни в жизнь!..
Но сначала обнаруживаю в почтовом ящике письмо. Не часто балуют меня письмами, как и я своих родных и знакомых. Кто вспомнил о Теодорове? Мама, вероятно… Но нет: это столица нашей Родины подает голос. Я надрываю конверт, быстро пробегаю короткий текст. И остальные лестничные марши (почтовый ящик на втором этаже) преодолеваю в быстром темпе, уже не пошатываясь от головокружения, не оступаясь. Ибо это московское письмо, как шоковая терапия, возвращает меня к жизни, по-новому гонит кровь. Ибо кооперативное издательство (название пока утаю) одобряет и принимает сочинение Теодорова, посланное туда месяца два, кажется, назад.
Как мало мне все-таки надо, чтобы восстать из небытия, возродиться для новых подвигов! Та же улица Есенина, но уже не та, что вчера. Это уже ранний Есенин, желтоволосый, звонкоголосый Сережа, и я приветствую его, как приятеля. Срываю одуванчик и укрепляю его в кармане куртки. С любовью вглядываюсь в зеленые, солнечные сопки: там хорошо сейчас, Лиза Семенова, особенно если захватить с собой плед (для удобства) и бутылочку (для вдохновения). Раскланиваюсь с незнакомыми людьми: здравствуйте, здравствуйте, рад, что вы тоже пережили эту кошмарную, бесовскую ночь! Ну, а как насчет пива – повезет или нет? О чем речь! Вот же она, спасительница страждущих, желтая цистерна на колесах. И покупателей – надо же! – немного. Умеренная, спокойная очередь без драки и мата, надо же! Понимаю, что это ирреально, но все-таки встаю в хвост и через двадцать минут заполняю банку «жигулевским».
Может быть, двинуть в парную? – приходит привычная мысль. Нет, не успею до прихода дочери. Да и не тянет меня что-то сейчас в баню. А влечет меня – страшно сказать – к полузабытой уже, заброшенной в кладовку рукописи романа… того самого, что удостоился столичной похвалы. Перечитать, оценить свежим глазом – вот что я хочу. Есть к тому же у Теодорова и новые страницы, полумесячной давности, – трезвый зачин большого сочинения о нашем современнике… их тоже интересно проглядеть и прикинуть, во что может вылиться нехреновый, в общем-то, замысел. Да-а, творческая прыть овладела, кажется, недавним полутрупом Теодоровым! Это не к добру. Так, глядишь, банка пива может оказаться последней на текущей неделе: засяду на кухне над белыми листами, отключусь наглухо от соблазнов большого мира, припомню, как пишутся буквы…
9. ПИШУ РОМАН И…
Так и происходит. Но прежде дочь моя Ольга, неповторимая, прибегает ко мне. Я встречаю ее гладко выбритый, в наглаженной чистой рубашке, помолодевший от пива – славный такой, дееспособный папа! Я нежно целую ее, вглядываясь в смеющиеся карие глаза, обнимаю за плечи и провожу в комнату, где успел навести поверхностную приборку. В окно светит солнце, да и сама моя дочь, не хвалясь говорю, как свежее, двенадцатилетнее солнышко, теплое и яркое, – самое, безусловно, удачное мое произведение. Не обиделась ли она на мой неприход к кинотеатру, пусть скажет честно. Нет, конечно, что ты, папа! Она же понимает, что у меня могут быть неотложные дела, дурочка она, что ли, чтобы этого не понимать? Правильно. Молодчина. Разумно рассуждаешь. Я, Оля, зачастую не распоряжаюсь собой. Потому и звоню нерегулярно, потому и встречаемся нечасто. Но помню о тебе денно и нощно, знай это.
– Я знаю, папа. Я тоже все время помню, – прислоняется она головой к моему плечу.
Да, вот таким образом. Прислоняется головой к моему плечу, а я глажу ее по мягким волосам. Ну, давай, говорю, рассказывай. Как ты живешь, как проводишь каникулы. Все, как на духу, выкладывай отцу.
Дочь смеется. Все хорошо, папа. Она живет нормально. Читает, встречается с подружками, посещает три раза в неделю бассейн, ходит с компанией на видики.
– Видики? – прицепляюсь я.
– Да, а что?
– Надеюсь, не порнуху какую-нибудь смотрите?
– Нет, что ты! – смеется, понимая о чем речь. – Ужасы всякие. Ниндзей всяких. Ерунду всякую.
– Мало тебе ужасов в жизни, – говорю я. – Преступность кромешная, знаешь об этом? Ты у меня смотри, не шляйся поздно вечером, – назидаю я. – Не шляешься?
– Нет, что ты! Мама разве позволит!
– Правильно делает. Как мама? Не болеет?
– Желудок иногда… но сейчас ничего. Мы в отпуск собираемся. В Венгрию поедем по путевке.
– Все вместе?
– Ага..
– А Олег Владимирович… (Это мой преемник в доме)… как ты с ним? Не конфликтуешь? – хмурясь, спрашиваю я.
Она задумывается на миг. Теребит серебряную цепочку на шее. Нет, они не конфликтуют. Все хорошо, папа, ты не думай. А сам я как? Не болею?
– Когда это я болел, ну-ка припомни! Ко мне, Олька, болезни не пристают, знай. («Надежно проспиртован», – следовало бы добавить.)
– Да, ты молодец! – хвалит меня дочь. («Знала бы ты, глупышка!»…) Еще с полчаса болтаем мы о том, о сем легко и жизнерадостно… и тут она искоса смотрит на свои маленькие часики.
– Спешишь? – спрашиваю я.
– Понимаешь, – краснеет она, – я маме обещала вернуться к двенадцати. Мы в примерочную собрались.
– А-а! Вон оно что. Жаль! Я думал, мы с тобой прогуляемся. В кино, что ли, сходим, – мрачнею я.
– В другой раз, папа, ладно?
– Конечно. Раз мама велела…
И думаю: эх, Клавдия! Оберегаешь все-таки дочь от отца, не полагаешься на меня. Впрочем, можно тебя понять, можно.
– Знаешь, Олька, – грустно говорю. – А ведь я для тебя подарков не припас. С деньгами у меня туго.
– А мне и не надо! Зачем мне?
– Возьми вот жвачку. Жуй и радуйся.
– Спасибо. Мои любимые!
– Только не надувай пузыри, пожалуйста.
– Почему?
– А вы все, когда надуваете, на дебилок становитесь похожи, – поясняю я, и дочь моя заливается смехом.
Я провожаю ее до остановки, усаживаю в автобус. Она быстро, порывисто целует меня на прощанье. Голос ее звенит: «Ты звони почаще, ладно? И заходи, ладно?» Да, да, Оля, непременно. Позвоню, зайду. Привет маме.
С тем и расстаемся. Рассеянно, растроганно улыбаясь, я захожу в телефонную будку. Звоню Илюше.
– Здравствуй, – говорю, – это я.
– Юраша! Привет! Голос у тебя бодрый. Ожил?
– Можно сказать и так. Я вот чего звоню. Я, наверно, до конца недели на люди не появлюсь. Вы там не подумайте, что я отдал концы. Не создавайте похоронную комиссию, ладно?
– Та-ак! Ясно, – смеется он. – Творческий запой или та самая девица?
– Запой.
– Рад за тебя.
– Ну, вот и все. Новостей нет?
– В газетах полно, у нас тихо.
– Дома урегулировал отношения?
– Все в порядке. Семейная идиллия.
– Ну, пока!
– Пока, Юраша!
Погружаюсь, следовательно, в очередной запой. Такой запой (сообщаю для любознательных) происходит поэтапно. Вернее, последовательно, по нарастающей, как и подлинные загулы. Суток двое требуется мне, по меньшей мере, чтобы освоить кухонный стол, заново привыкнуть к нему, как к родному, довериться ему и полюбить. Но это не пустое время. Я перечитываю готовый роман (третий машинописный экземпляр). Переселяюсь в северные студеные края. Давней, нетленной молодостью, мной же воссозданной, веет с первых страниц, и Теодоров самодовольно ухмыляется: что ж, нехреново! Но тут же хмурюсь и раздражаюсь: а это что за мутотня такая? Как это я проглядел эту беспомощную, рахитичную главку, не почуял ее ущербности? Вон ее! Крест накрест ее! – ярюсь я, нещадно черкая, хоть и осознаю, что своими руками уничтожаю двести, а то и триста рублей. Зато как пробудилось сразу действие, как задвигались, оживая, герои и геройчики! И вот это тоже надо убрать, – вхожу я во вкус правки, – и вот этот глубокомысленный пассаж надо вырезать, как бесполезный аппендикс!
Свирепствую, одним словом. Уродую чистую, такую красивенькую машинопись. Но не жаль, нет. Мы, товарищ читатель, беспокоимся, чтобы вы не захандрили над нашим произведением, не впали, чего доброго, в летаргический сон. Этого мы с Теодоровым не переживем. А потому свирепствуем, пусть с опозданием, пусть это грозит перепечаткой, а значит материальными издержками… Новый облик сочинения, не столь благостный, оправдывает все.
(Видела бы ты, Лиза Семенова, умное, одухотворенное лицо Теодорова в эти часы запоя! Небось, сразу бы сняла вето с этой квартиры!)
Наконец, наступает время для новой рукописи – да, да, Лиза, той самой, шизичной. К ней я приступаю с внутренним сладким трепетом, как, предположим… прости за пошлость, Лиза… к несовершеннолетней, неискушенной малышке. Страшно, боязно! Оправдаются ли смутные ожидания? Так ли она чиста и искренна, как я себе представляю, или за полмесяца разлуки изменилась до неузнаваемости и сейчас потрясет своей несомненной лживостью? (Дымлю нещадно. Плитку не выключаю: поточный метод кипячения воды и заварки чая.) Первый лист, второй, третий… пятый, седьмой… и я шумно перевожу дыхание. Слава тебе, Господи! Кажется, не фальшивка… кажется, не туфта… тьфу, тьфу! Последний, пятнадцатый лист оборван на середине фразы… кто-то, видимо, пришел в гости (не помню кто), а продолжить я уже не сумел.
Та-ак! – Потираю я руки. Так-ак! Что-то в этом есть, Юраша, и кретином будешь, если не осуществишь замысел. Назревает (уже назрело) болезненное нетерпение приступить к кройке и шитью этого романа. Лиза Семенова родилась в Москве в 1970 году. Ходила и детский сад, затем поступила в школу и успешно ее окончила. Успешно поступила… Слушай, Семенова, сгинь! Не мешай, пожалуйста, творить. Не маячь перед глазами, неужели тебе хочется попасть на эти листы, неужели ты такая тщеславная? Ну, хорошо. Ну, предположим, я включу тебя в роман. Станешь соучастницей смысла – может быть, даже активной. Но ты же не представляешь, неразумная, как я могу с тобой поступить! Некоторое внешнее сходство, возможно, сохраню. Но я не обещаю, что зеленые глаза твои в силу творческой необходимости не станут вдруг водянисто-бесцветными, да еще косоватыми к тому же. Припухлые, свежие губы твои я могу сделать бесстыдно порочными. Ты обязана будешь (в силу творческой необходимости) слегка полысеть. У меня запланирована драка, и ты, возможно, лишишься кончика носа: его откусит соперница. При всем при том некоторые детали, штрихи недвусмысленные подскажут твоим друзьям и подругам (если они прочтут), что прототипом этой героини послужила именно Лиза Семенова. Вот так. Подумай, стоит ли присутствовать в романе Теодорова! И Лиза исчезает.
Так я разделываюсь с неотвязной Лизой. Больше не вспоминаю ее. Десять суток (я прихватил другую неделю), даже по ночам (а ночи идут по сокращенной программе) я не думаю о ней. Меня серьезно растревожила семнадцатилетняя Марусенька Трифонова. Чем дальше, тем сильней я привязываюсь к этой девушке. Потакаю ей всячески, оберегаю, как могу. На тридцатом, примерно, листе – так велит правда жизни, направляя мою руку, – Маруся моя обязана поддаться искушению и подарить себя некоему безумному Володе. Но я оттягиваю на пять листов этот час ее падения… Бедная Маруся! Очень мне ее жаль. А ведь еще предстоит в обозримом будущем (если такие запои станут регулярными и затяжными), предстоит мне уничтожить Марусю самым зверским способом, с издевательством и насилием… да-а!
Спеша по улице в магазин за новым запасом сигарет, чая и минимального количества продуктов (ибо деньги на исходе), Теодоров пугает прохожих своей щетиной, диковатым взглядом, неожиданными вопросами, вроде: «А сегодня, например, какой день? А число?». В магазине я лезу к прилавку без очереди, что-то бормоча о больных грудных детях, и при этом покупаю для них ливерную колбасу. Ну, невтерпеж мне стоять в очереди! Так тянет назад за любимый кухонный стол к Марусе! Уже не верится мне, что именно я предавался относительно недавно забубенному пьянству и сводил счеты с жизнью. За кухонным столом тоже можно быть пьяным (даже до невменяемости), но это уже качественно иное состояние. (А будто ты этого раньше не знал, Теодоров!)
На десятый день под вечер неожиданный стук в дверь пугает меня. Так известный бедолага Крузо вздрогнул, увидев человеческий след на песке. Я быстро встаю и спешу в прихожую. Кто бы это мог быть? Кому я понадобился? Открываю и, пораженный, отступаю на два шага. Вот уж кого я не ожидал увидеть!
– Юрий Дмитриевич Теодоров здесь живет? – смиренно спрашивает она с порога.
– Да, это я. Входи.
– А правда это ты? Очень не похож. Бороду отращиваешь, да?
– Нет, не бороду. Я… это самое… не бреюсь я. Некогда мне… это самое… бриться. Входи, Маруся.
– Ка-ак?!
– Прости, Лиза. Маруся там на кухне. Входи.
– Ну нет. Я уж тогда, пожалуй, пойду. Извини.
– Постой! – пугаюсь я. – Куда ты? Не понимай буквально. Ее вроде бы нет. А вроде бы…
– Так есть или нет? – хмурится она.
– Точно не знаю. Иди сама убедись. Ну, входи, входи! – втягиваю ее за руку.
– Я, собственно, зашла, чтобы узнать, не заболел ли ты, – объясняет Лиза.
– Нет, я здоров. Трезв. Все в порядке. А вот Маруся потихоньку спивается, – вздыхаю я.
– Что за ерунда! – сердится Лиза. Решительным, быстрым шагом проходит на кухню, бросив беглый взгляд в комнату, и тут же закрывает ладонью нос и рот. – Ужас! Газовая камера.






