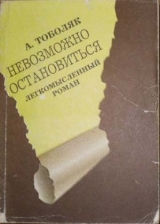
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
6. ЗНАКОМЛЮСЬ ЗАНОВО, ТЕРЗАЮСЬ
– Ду-усенька! – зову я, подняв голову от подушки. – Ми-и-лая!
Она выглядывает из кухни. Вообще-то зовут ее Тымани, а Дусей почему-то нарек муж, ну и я издавна не нарушаю семейную традицию. Это маленькая, невзрачная женщинка с плоским, в отметинах оспин лицом, черноволосая и узкоглазая. Подруга жизни Николая то есть Христофоровича, жена художника.
– Дусенька, милая, – жалобно говорю я. – А брусничного соку у тебя больше нету? Пить очень хочется.
– Сейчас! – торопливо отвечает она и опять ускользает на кухню.
Я лежу на кровати железной, каких вроде бы уже не выпускают, с панцирной сеткой, высокими спинками, под тяжелым ватным одеялом, а Ботулу спит около стены на кумаланах под любимой оленьей шкурой. Там, надо думать, переночевала и Дуся… согнал я, выходит, хозяев с их семейного ложа… нехорошо, однако! Комната большая, просторная. Кроме кровати, в ней есть еше шкаф и стол с остатками нашей вчерашней трапезы. Вдоль стен там и тут стоят изнанкой к наблюдателю картины художника Н. Х. Ботулу (я их проглядел, кажется, вчера); несколько изделий, размерами поменьше, висят на давно не беленых стенах – пейзажи, пейзажи таежные… в углу мольберт, скопление банок, бутылок, кистей, тюбиков… творческая, словом, мастерская, она же место обитания.
Невзрачненькая Дуся приносит большую кружку напитка. Я жадно пью, а она стоит рядом, улыбаясь, помаргивая безбровыми глазами.
– А водочка, Дусенька, у нас еще осталась? – перевожу я дыхание.
– Есть немножко. Всю не выпили, – улыбается она.
– Это хорошо, – одобряю я. – А ты, Дуся, буди, однако, мужа. Хватит ему, однако, дрыхнуть.
Она послушно подходит к спящему и ногой в меховом тапке сильно пинает его в бок.
– Вставай, Ивуль! (Ивуль – это что-то вроде, как мне вспоминается, нашего Иванушки-дурачка. Как, однако, она обращается с народным художником!) У-у, Ивуль! Нажрался. Вставай!
Ботулу мычит, стонет, перхает – всякие звуки издает, но от ее пинков все-таки пробуждается. Садится. Трет руками широкое, помятое лицо, трясет головой.
– Здорово, Юрка! – узнает он меня. – Хорошо спал?
– А я, Коля, не знаю. Наверно, хорошо.
– У, ешкин-мошкин, как мы с тобой напились! Это ты меня напоил.
– Так уж и я.
– Ты! – утверждает он. – Я тебя не узнал в аэропорту, а ты меня узнал. Я мог мимо пройти, а ты меня позвал. Ты, Юрка, виноват.
Вот какая логика, странная логика…
– Теперь снова надо пить, – продолжает Н. Х. Ботулу, на этот раз очень логично. Переворачивается, встает на четвереньки, отвешивая солидный животик, лишь затем с кряхтением поднимается. – Дуська, неси чего-нибудь! Чего глядишь? Неси, говорю!
Жена, которая только что лупила его ногами, послушно уходит на кухню.
«А ведь эдак, – мелькает здравая мысль у Теодорова, – я кроме этого дома ничего не увижу».
За окном ясное высокое солнце. В такое время года на здешних широтах определиться без часов чрезвычайно трудно. Ночь мало чем отличается от дня: неизменный свет озаряет тайгу. Сейчас, судя по ходикам на стене, одиннадцать. Одеваясь, я вижу в окне широкую гладь Нижней Тунгуски. Щемяще знакомый пейзаж дальних крутых берегов, заштрихованный лиственницами. Обычно пустынная, сейчас река заставлена там и сям грузовыми судами. Навигацией это называется, Лиза. Краткая пора высокой воды, единственный месяц, когда самоходки могут преодолеть Большой Порог в низовьях и подняться сюда с гостинцами для таежных жителей. Ох, черт, как прерывисто дышишь, как жадно смотришь, когда после многомесячной глухой зимы вон из-за того поворота появляется первый караван!.. А вскоре опять опустеет река… промелькнет светлое лето… уже в сентябре крепко ляжет снег и в надолго воцарившейся ночи стужа зашкалит градусники. Такая тут земля, и странно, право, что память о ней так живуча и неистребима, как… «как о первой, сильной любви, да?» Да, догадливая, да, сколь ни избито это сравнение!
Умываясь на грязной, запущенной кухне под рукомойником, я ставлю перед собой цель в ближайший час выбраться из дома художника. Коля Ботулу, думаю я, хорош в умеренных дозах. Его надо… как бы это сказать?.. умело дегустировать. Но тут же спохватываюсь и говорю себе: а ты ведь тоже не подарок, похмельная морда! Сильным иммунитетом нужно обладать, чтобы выдюжить с тобой рядом длительное время… некоторые невинные души прямо-таки заболевают и чахнут на глазах. Так что не будь судьей и не будешь, соответственно, судим. Уже то хорошо, думаю я, утираясь подозрительным полотенцем, что пробуждение сегодняшнее относительно легкое, без головокружений и сердцебиений, без сосущей тоски в районе пупка, где, кажется, размешается душа. Не иначе мой организм настроился на волну молодости, когда никакие бешеные гулянки не могли умерить радостной жажды жизни… вскакивал по утрам в промерзшей комнатухе своей, насвистывал, топил печь, пил крепкий чай и, обрядившись в унты, полушубок, солнцеподобную шапку, спешил по темной, трескучей от мороза улице в редакцию радио – деятельный, неистребимый, талантливый, мать-перемать!
А Ботулу невтерпеж, Ботулу зовет. Он сидит за столом в трусах и майке, жирненький, с брюшком уже… потомок охотников и оленеводов, разучившийся бросать маут-аркан, ставить чум, распутывать следы на снегу, продавший душу свою таежную дьяволу по имени Искусство. Опасное, ох, опасное знакомство свел, теперь уже до смерти не вырвется из этого капкана! А правильно ли – вот вопрос! – распорядился своей жизнью? По той ли пошел тропе, Николай Христофорович? Может, надо было тебе сидеть сейчас на верховом олене-учаге и перегонять многоголовое стадо из тайги на тундровые просторы, где не так донимает летний гнус, – покрикивать «хэ-хэ!», тянуть нескончаемую песню обо всем, что видят глаза, – о воле вольной! – и не знать ничего ни о выставках, ни о званиях, ни о славе бренной? Нет же, неодолимая дьявольская сила (знакома она мне!) привязала к холсту и кистям, поработила… За что же выпьем, Коля, за жизнь или ее отражение?
– А ты давай, – говорит он, сдвигая свой стакан с моим, – оставайся у нас, живи. Я за тебя похлопочу. Квартиру получишь. Девку найдешь, однако. Женишься. Чего тебе!
Эх, Николя, Николя, чудак! Кто же, какой безумец возвращается на круги своя? Разве в бреду горячечном, в беспамятстве…
– Дусю-то пригласи, – говорю я. – Все время ее игнорируешь. Нехорошо как-то.
– А пускай! – отмахивается он. – Дуське на работу идти надо. Она в интернате полы моет. Дуська! – кричит в другую половину дома. – Иди работай!
Крепостник, однако, какой… не замечал я за ним этого раньше.
– А сын у меня в институте, знаешь? – спрашивает Ботулу, разрывая зубами кусок вчерашнего холодного мяса.
– Ты говорил.
– В Ленинграде, в институте Герцена, – хвалится он, надуваясь.
– Стихи пишет. Я думаю так: поэтом будет.
– Молодец, однако.
– В меня пошел. Творческий. Я его маленьким на мороз выкидывал. Хорошо закалился.
– А это уж ты зря… Ты мне скажи, Николай, ты Лену Абрамову знал?
– Это какую?
– А ту, что в отделе культуры работала инструктором. Молоденькая была такая, с челочкой такой.
– А-а, Ленка! Она не Абрамова. Она Вычужанина. За пилота вышла. Тут она.
– Здесь?!
– А куда ей деваться? Ты пей, Юрка, чего не пьешь!.. А муж ее на материк улетел.
– Развелась, что ли?
– Ага, развелась. Пей, Юрка! Давай выпьем за мою выставку. Я скоро новую подготовлю. Видишь, сколько у меня картин? Я, Юрка, очень плодовитый.
– Молодец, однако. А Вику Дорожко – такую знаешь?
– Тут, тут! – сердится Ботулу на невнимание мое к его незаурядности.
Лена тут, Вика тут… а Лизоньки, значит, нету, думаю я несколько уже смутно. Приросли они, значит, к этой земле, как я к своей дальневосточной. Какой-то озноб проходит по телу при мысли, что могу их увидеть. Необычное ощущение… вроде как вспомнил я об умерших, канувших в Лету, а вдруг оказывается, что они реальные и достижимые и находятся на расстоянии протянутой руки. Надо смываться, думаю я, лихорадочно возбуждаясь, а Колю в экскурсоводы не брать, ни в коем разе! Вот на предполагаемой рыбалке он будет незаменим.
Но уйти пока невозможно. Хозяин мой, разомлев, расплывшись, решил показать мне по второму разу свои работы. Жирненький, низкорослый, в трусах и майке, он, установив очередную картину около стены, сам встает рядом, уперев руку в бок, – чванливый, важный – и кажется мне живописней своих полотен. А сами полотна… я поверхностный ценитель… что ж, много в них света и тьмы, одного длинного дня и одной длинной ночи, лиственниц, чумов, воды и неба…
– А мой портрет не сохранил? – спрашиваю я. – Помнишь в Харпичи?..
– Не, твой портрет я, Юрка, не сохранил, – отвечает он. – Его, однако, мыши съели.
– Вот спасибо, – говорю я. – Вот как ты меня ценишь.
Однако же это изобилие полотен, и намерение автора пойти по третьему кругу, и растущая по минутам его спесь начинают меня утомлять. Я наливаю в стаканы побольше, тяну его к столу.
– А что. Коля, – говорю, – хочешь послушать мой новый роман?
– Не, не хочу! – отвергает он.
– Нет, ты послушай! Очень интересно! Ты мне друг? Обязан послушать хоть начало.
– Давай выпьем, Юрка.
– Давай выпьем и послушай.
Пьем по полстакана – остатки – закусываем мясом. Я закуриваю, а Ботулу ложится на кровать. Он недоволен, но подчиняется. Машет мне оттуда рукой: мол, валяй, начинай! Вроде старт дает оленьим гонкам.
Я достаю из сумки рукопись. Листаю, приступаю. Расчет мой верен. На пятой уже странице Николай Христофорович храпит, булькая губами. Такого быстрого эффекта я, признаться, даже не ожидал. Замечательно, однако, снотворный роман написал Теодоров!
Но зато теперь я могу уйти куда пожелаю, благо и жены Дуси уже нет в доме. Нетерпение, азарт охотничий чувствую я, словно вступаю в богатые угодья… считай, Лиза, это художественной метафорой.
Та же, ей-богу, та же, что и была, таежная столица! По тем же скрипучим деревянным тротуарам иду, мимо тех же одноэтажных, темных от времени домов, мимо той же почты, той же школы-интерната… мимо таких же, как прежде, отощавших за зиму поленниц вдоль заборов… собаки те же, верней, потомки тех, но такие же пушистые, остромордые лайки, которые, знаете, умеют, склонив голову набок, смотреть по-человечески умно и теряют благодушный облик в пору кровавых своих свадеб, вот они самые… тот же сильный блеск широкой воды, тот же деревянный спуск к реке… и получается вроде бы так, что все здесь долгие годы пребывало в здоровой неизменности и сохранности, замирая зимой и пробуждаясь лишь летом… тревожно и радостно от такой узнаваемости!
Закурю. Да, закурю, чтобы успокоиться, и лишь затем войду в это приземистое одноэтажное здание, громко именуемое в мое время Домом радио. Так. Покурил. Утихомирил сердце. Вдох-выдох. Шагай, Теодоров! Крепко опоздал ты, однако, сегодня на работу. Сейчас получишь начальственный втык.
Длинный коридор, а по сторонам его кабинеты. Мой – первый слева, и я заглядываю туда.
– Здравствуйте! – говорю каким-то тонким, бабьим голосом. Одна незнакомая женщина – молодая – разговаривает по телефону. Другая незнакомая – пожилая – поднимает на меня от бумаг отсутствующий взгляд.
– Здравствуйте, – откликается. – Вам кого?
– Да мне, собственно… Сейчас разберусь. Вы пишите пишите! – разрешаю я ей, входя.
Налево через дверь смежный кабинет, распивочный кабинет Толи Флеймана, и я заглядываю туда. На месте Толи, за его столом сидит и подкрашивает губы, глядя в зеркальце… да, Лиза, да, – молодая девица! Ну, не виноват я, хоть убей, что тут такой женский накопитель.
– Здравствуйте, – говорю я.
Она прячет зеркальце в ящик стола.
– Здравствуйте, – отвечает.
Ничего девица, не уродливая девица, вежливая. «Здравствуйте», – вежливо отвечает. Сейчас должна спросить: «Вам кого?»
– Вам кого?
– Да мне, собственно… Сейчас разберусь. Вы продолжайте… это самое… краситься, – разрешаю я. И мимо нее подхожу к двери еще одного кабинета (такой тут у нас лабиринт!). За ней (по старому летоисчислению) должен сидеть пьяный в сиську, главный редактор наш Неклесса Геннадий Кузьмич. Но там за его столом восседает старая, очень-очень старая, но, пойми меня правильно, Лиза, женщина.
– Здравствуйте, – говорю я в приотворенную дверь.
– Здравствуйте. Вы ко мне?
– Да нет, я так… знакомлюсь. Вы извините. Вы работайте, пожалуйста, – разрешаю я ей работать.
Пока разговоры были не слишком содержательными. Никто пока не бросился мне на шею, не закричал: «Теодоров!», и я, выйдя в коридор, иду в глубину дома. На пороге аппаратной оглядываюсь. Так и есть! Три – да, три! – женщины вышли из того кабинета и наблюдают за моим продвижением. Интересно им. Очень. Что за странная личность с загадочными повадками бродит по их владениям? А в самом деле!
Аппаратная та же, с теми же, кажется, магнитофонами, но операторши опять-таки незнакомые, чужие, неродные: эвенка и русская, обе в годах, Лиза.
– Здравствуйте, – приветствую я их с порога.
Понятное дело, они отвечают «здравствуйте» и спрашивают «вам кого?».
– Слушайте, – решаю я слегка усложнить диалог, – в этой организации работает Вика Дорожко?
– Виктория Семеновна? – переспрашивает эвенка.
– Ну да. Виктория Семеновна.
– Да, работает. Она сейчас на записи в студии.
– Правда?! – озаряюсь я улыбкой. – А можно… позвольте, я посмотрю через стекло. Мне… это самое… очень надо.
Они переглядываются. Русская тетя пожимает плечами в сиреневом халате.
– Вообще-то здесь посторонним нельзя. Ну, глядите, пока они готовятся.
Я прохожу через аппаратную… на цыпочках почему-то иду, словно подкрадываясь к дичи… заглядываю осторожно из-за угла в широкое студийное окно. Там за пультом сидят, склонив головы над листами бумаги, две… да, Лиза, да! Беседуют о чем-то. Губы их безмолвно шевелятся.
– А где же Виктория Семеновна? – громко недоумеваю я, оборачиваясь.
– А вы что, не знаете ее? – спрашивает русская операторша, подходя. – Вон, которая слева, в жакете.
– Бросьте! – говорю я и зримо, по-видимому, бледнею. Ну, не бледною, а меняюсь, наверно, в лице, чем сильно удивляю ее.
– Ну да, – утверждает. – Дорожко. Она.
Господь видит… Господь знает, что все ожидал Теодоров. Не рассчитывал я, конечно, на встречу с прежней милой, белокурой Викой, чувствуя все-таки ход времени. Но чтобы милая, белокурая, пухленькая Вика обернулась вдруг, как оборотень, этой толстолицей, пышнотелой, крашеной дамой, этой анти-Викой, этой злой, неталантливой пародией на Вику… я представить не мог. Ну, не мог!
И я поспешно отодвигаюсь от окна, лезу в карман за сигаретами и в растерянности, в смятенных чувствах хочу закурить.
– Здесь нельзя! – в голос говорят обе операторши, наблюдая за мной.
– Ага, нельзя. Правильно! – каркаю я. – А было можно. Раньше.
– Валечка! – раздается сильный, густой голос через студийный микрофон. – Мы готовы. Давай попробуем.
Я замираю.
– Это Вика говорит? – спрашиваю.
– Ну да. Кто же!
– Так я вам и поверил, – бормочу я и поспешно выхожу в коридор.
Я действительно в смятении, напуган даже. Что же происходит? Почему время так безжалостно обошлось с Викой Дорожко – милой, белокурой, пухленькой девушкой, такой, помнится, смешливой в самые ответственные моменты? Многодетная мать наверняка… может быть, уже мать-героиня? Господь, дай мне понять твой замысел! Неужели хочешь на живом примере убедить Теодорова, что и сам он непоправимо иной, чем прежде, что пора уже раз и навсегда поставить на прошлом могильный крест с надписью «увы, увы!»?..
Ждать – не ждать? – думаю, затягиваясь дымом. А зачем ждать? Что мы скажем друг другу в нынешних, таких разных, весовых и интеллектуальных, надо полагать, категориях! Невозможность прикоснуться, и обнять, и распалиться молодым огнем… Горькие сожаления… Тоска и страх… О нет, дорогая Вика! Прости меня, но я сбегу позорно… как тот Гарун с поля брани, где некогда перемешивалась и струилась алая кровь, а ныне лишь печальная трава-мурава да подорожники… Прощай!
Но та ничего себе девица с накрашенными губами успевает перехватить меня на выходе.
– А кого вы все-таки искали? – интересуется она, появляясь из кабинета.
– А-а! – машу я рукой. – Заскок, девушка. Не туда попал. А вот интересно, девушка, не могли бы мы встретиться сегодня вечером?
– Ого! – слегка отступает она.
– А что? Я человек приезжий, вы местная. Нам есть о чем поговорить. Короче, девушка, в шесть вечера на спуске к реке, идет? – предлагаю я с каким-то отчаянием.
– Но я же вас совсем не знаю.
– Я тоже – вас. Но это даже хорошо! Надо срочно познакомиться, а то никогда больше не встретимся, представляете? Ужас!
– Странный вы… или пьяный.
– Странный, – выбираю я лучшее из двух. – В шесть на лестнице, договорились. Все о себе расскажу, ничего не утаю, верьте!
И провожаемый ее взглядом – недоумевающим, надо полагать, – выхожу из этого женского накопителя, из этого Дома радио, а лучше сказать – Дома призраков. Дома теней, где такому, как я, нынешнему Теодорову, места уже нет.
Не удивляюсь, что солнце скрылось за тучами. Еще бы ему не скрыться!
Мой внутренний свет тоже ведь погас. Я иду подавленный, пасмурный, опять сирота горемычная. Маленькая теплится надежда на Лену Абрамову: может быть, ей удалось совладать со временем, не поддаться необратимому кладбищенскому тлену? Но сомнительно. Лучше подготовиться сразу. Забыть ту Лену Абрамову (короткая стрижка, темная челочка, яркая улыбка, ловкая гимнастическая фигурка) и представить самое наихудшее: сморщенное, как печеное яблоко, личико, редкие волосенки, венозные икры, дряблые опавшие груди… забудем также звонкий, легкий говорок, а услышим скрипучую, медлительную речь многолетней функционерки… ну, и не следует ли тебе, Теодоров, повернуть, пока не поздно, к дому художника, а еще лучше в аэропорт?
Но иду, безвольно тащусь, самого себя веду к очередному потрясению, обрекаю вроде бы на новый ужас. Исполком! Деревянное, старое двухэтажное здание. В этих стенах Лена Абрамова начала юным инструктором отдела культуры и, пересаживаясь со стула на стул, из кресла в кресло, постепенно старея, дослужилась, как я понимаю, до заместителя председателя. У-у, как страшно входить к такому большому руководителю! Как осторожно надо дышать в таких высоких, незамутненных сферах!..
– Елена Александровна у себя? – навожу я справку у миловидной секретарши-эвеночки.
Елена Александровна у себя. Но у нее, ясное дело, совещание.
– И долго продлится?
– Этого я не знаю.
– Тогда вот что, девушка. – Я присаживаюсь на стул, достаю из куртки блокнот (есть у меня блокнот, есть!), ручку (есть и ручка!) и, на миг задумавшись, пишу на вырванном листе: «Дорогая Ленуля! Я срочно нуждаюсь в домашнем тепле и ласке. Ю. Теодоров». Протягиваю секретарше, свернув лист вчетверо. – Передайте Елене Александровне прямо в руки. Это очень важно. Она в курсе дела. Прямо ей в руки!
Чуть помедлив, секретарша – ну, миловидная, ну, что с ней поделаешь! – записку мою берет и скрывается в кабинете. Отсутствует она минуты так две, не больше, – и вот появляется, миловидная по-прежнему, и протягивает мне свернутый листок.
На листке одно слово – твердое, директивное, недвусмысленное: «Подожди!»
Что ж, это уже кое-что. Текст приемлемый, и я слегка ободряюсь. Заместитель председателя окрисполкома могла написать и нечто иное, например: «Пошел вон, старый маразматик!», или иезуитское: «Этот вопрос не в моей компетенции», или служебно-деловое: «Удовлетворить не представляется возможным», а то взять да и натравить на меня местную полицию нравов… а почему нет? Не исключено также, что Лена Абрамова попросила меня подождать, чтобы высказать один на один свое негодование и пресечь дальнейшие мои подлые поползновения… а почему нет?
Все-таки слегка, повторяю, ободренный, я пристаю к хорошенькой (но глупенькой, Лиза, очень глупенькой) секретарше-эвеночке с провокационными вопросами: а как ее начальница, очень ли она сурова? любит ли она дисциплину и порядок? часто ли улыбается? а позволяет ли себе, положим, рукоприкладствовать? а красива ли она? а сколько у нее детей? – и разговорившись, чуть было не предлагаю миловидной встретиться сегодня в шесть часов на спуске к реке… Но тут из кабинета начинает выходить деловой люд… я отворачиваюсь на всякий случай, чтобы не узнал кто-нибудь из бывших знакомых. И вот звонок из кабинета вызывает секретаршу (о, какая конспирация!). Вот эвеночка возвращается и почтительно говорит:
– Вас.
Подмигнув ей легкомысленно, Теодоров входит в кабинет. Он живет, как было уже не однажды сказано, на улице Есенина – и не потому ли всплывают и крутятся в его памяти незатейливые строки: «Да, мне нравилась девушка в белом, а теперь я люблю в голубом. Да, мне нравилась девушка в белом… да, мне нравилась…»?
– Здравствуй, Лена.
– Юра!
Она встает из-за своего стола в глубине кабинета. Господь, ты милостив! Господь, ты добр! Господь, ты добр, милостив и сострадателен! Благодарю тебя, Всемогущий, что ты пощадил Лену Абрамову. Я сразу и безоговорочно узнаю ее. Это она! Перемены значительны… даже издалека вижу, но это она. Спасибо, Господь. В неисчерпаемом великодушии своем ты, надеюсь, сохранил не только облик Лены Абрамовой, но уберег и ее умственные способности, не лишил былой светящейся искренности, не превратил в зануду-партократку, в архивную бабу-ягу.
Она выходит из-за стола, а я быстрым шагом пересекаю кабинет и, крепко обняв, целую заместителя председателя, ну, в сахарные, скажем, уста.
– С ума сошел… Ну перестань… войти могут, – освобождается Елена Александровна. – У меня тут проходной двор. Садись. Кури. Откуда ты взялся?
Морщинки в углах глаз… некоторая дряблость кожи… иной, каштановый, цвет волос… но та же, черт возьми, ловкая гимнастическая фигурка, те же ровные, светлые зубы, та же живая приветливость.
– А я, Лена, представь себе, прилетел на самолете.
– Да? Не пешком пришел? С тебя станет! Какой ты!..
– Какой?
– Немолодой уже. Седой. Трудно узнать.
Бац! Пощечина Теодорову. Я хмурюсь:
– Хочешь сказать, что готов для погоста?
– Не болтай! Просто изменился. Слушай, дружок. Я не хочу, чтобы тебя здесь видели. Народ у нас глазастый и любопытный, сам знаешь. Давай сделаем так. Возьми ключ и иди ко мне. А я пораскидаю дела и прибегу. Хорошо?
– И когда вы прибежите?
– Скоро. На обед.
– А потом опять убежите сюда?
– Нет, не убегу.
– А что скажет ваша взрослая дочь Дина, когда я вторгнусь?
– Уже знаешь! Ничего, она в школе. А придет – объяснишь, кто ты. Вот ключ. Дом как раз напротив рыбкоопа. Второй этаж, шестнадцатая квартира. Найти проще простого.
– А это самое, извини, в твоем доме имеется или мне надо зайти в магазин?
– Имеется. Иди! Сейчас люди придут.
Я беру ключ и встаю.
– Спасибо, Лена, что ласково встретила. Я, признаться, опасался. Выглядишь ты чудесно. Секретарша у тебя прелесть.
– Уже оценил! – смеется она. – Ты, дружок, все такой же.
– Да, Лена, я страшный консерватор.
С этими словами преображенный Теодоров покидает кабинет. На улице, само собой, распогодилось: опять сильно светит высокое солнце, широко и привольно блестит текучая Угрюм-река, темно-зеленая тайга на том берегу манит, манит в свою глубину… За мной увязывается, почуяв мой светлый дух, рыжая лайка… забегает вперед, призывно оглядывается. Я говорю ей на эвенкийском: «Иду хэвальдянэ? (Где работаешь?)», а затем, не имея других местных слов, на русском: «Как жизнь? С экологией у вас тут нормально?» – и хочется мне, неразумному мудиле, почему-то весело залаять…
… и скребусь ключом в замке. Но дверь сама открывается. Тонкая, длинненькая девочка в халате холодно и недоуменно говорит с порога:
– Здрасьте!
– Здрасьте, – отвечаю я. – Вот хотел вас ограбить, а ты, оказывается, дома. Давай знакомиться. Я приезжий человек, странник. Можешь звать меня дядя Юра. А хочешь – Юрий Дмитриевич. Я твоей мамы давний знакомый. Она мне доверила ключ. А ты мне доверяешь?
Девочка секунду-другую размышляет, закусив губу. Тоненькая, длинненькая, голоногая… чуть постарше моей дочери.
– Ну, входите, – говорит она, отступая. То есть разрешает войти.
В этой квартире я не бывал. Я бывал в другой квартире Абрамовой. А в этой квартире я не бывал. Я бывал в другой квартире, где никакие тоненькие, голоногие девочки меня не встречали. В той, другой квартире, где я бывал, я часто зимой топил печку, готовил, случалось, ужины, вообще, хозяйствовал… а здесь, где я никогда не бывал, центральное отопление и невозможно сразу пройти на кухню, чтобы обследовать холодильник. Здесь все по-иному, чем в той квартире, где я бывал… очень богатая мебель и ковры на полу, и несколько комнат… и еще здесь тоненькая, голоногая девочка, которая вдумчиво разглядывает меня и которой, безусловно, не существовало в той квартире, где я бывал. Вот так.
– Дина, а Дина, – говорю я, усаживаясь в гостиной в кресло, – покажи мне, пожалуйста, свой дневник.
Она стоит напротив – в халатике, с голыми коленками. Лицо у нее бледное, болезненное.
– А зачем вам? – спрашивает она.
– А я, Дина, хочу сравнить его с дневником своей дочери. У меня такая же дочь, как ты.
– Ну и что же? Нет, я не покажу.
– Напрасно, Дина. Я могу наставить тебе сколько угодно пятерок по любому предмету. Твоя мама будет страшно рада твоим успехам.
– У меня и так много пятерок.
– А! Тогда другое дело. Тогда я могу поставить тебе «неуд» за поведение. Мама тебя налупит.
– Мама меня никогда не бьет, – отвечает она без улыбки.
Да-а, не проходят что-то здесь теодоровские шуточки. Не получается у нас что-то легкомысленная беседа. Но все-таки продолжаю:
– Я с твоей мамой давно знаком, Дина. Я здесь работал. Мы с твоей мамой сотрудничали. Мама у тебя хорошая, Дина, – подлизываюсь я.
– Я сама знаю. А зачем вы пришли?
Вот те раз! Так уж прямо в лоб… какая однако серьезная и неприступная девочка. Неужели я должен ей объяснять, что ее маму и меня связывают в некотором роде тайные масонские узы, некие ненарушаемые секреты?
– Просто так пришел, – отвечаю. – А что, нельзя?
– От вас водкой пахнет, – заявляет она без всякой дипломатии и как-то очень безжалостно.
Я сглатываю свою улыбку. Я хмурюсь.
– Да, возможно. Извини. Постараюсь не дышать. А курить у вас в доме можно?
– Папа курил, но вы ведь не папа, – слышу в ответ. И нет ее – ушла в другую комнату.
Да, непростая девочка, думаю я. Не уйти ли мне отсюда подобру-поздорову? – хмуро размышляю я. – Не смыться ли? И я бы наверняка ушел, если бы знал, что меня ждет. Но мы же не знаем, что нас ждет. Я страшно, безысходно близорук, преступно доверчив к обстоятельствам – и потому я все-таки, маясь в комнате, листая журналы, разглядывая книги, дожидаюсь прихода Лены Абрамовой.
Она появляется улыбающаяся, в светлом деловом костюме, маленькая, с гимнастической выправкой, – и сразу спрашивает, как мне понравилась ее дочь, обнимая при этом Дину за худенькие плечи. Что я могу сказать? Прекрасная девочка, умница-разумница, чудесная девочка. Встретила она меня, как подобает встречать незнакомых чужестранцев, вдруг вторгающихся в дом, несколько недоверчиво… что было, то было… но переговоры прошли успешно, общий язык, кажется, найден – так ведь, Дина? «Не так!» – тотчас отвечает маленькая правлолюбица, но мама лишь смеется, целуя ее, а я лишь улыбаюсь, прощая девочке очередную подножку. «Иди, Дина, иди к себе, – говорит мама, подталкивая ее. – Ты ведь уже пообедала? Ну вот. А мы хотим есть. Дядя Юра хочет есть, и я хочу есть», – на что Дина откликается: «До вечера будете есть?» – а мама слегка сердится: «А вот это уже не твое дело. Иди, иди!» – и выпроваживает ее, и мы тотчас, как в той квартире, где я не однажды бывал (а в этой я никогда прежде не бывал) приникаем друг к другу жадно и надолго. Извини, Лиза, предателя. Ложись лучше спать пораньше.
– Целоваться ты не разучился, – хвалит меня Лена Абрамова, переводя дух, на что Теодоров отвечает: – А ты будто помнишь, как было раньше!
– Я все о тебе помню, – говорит светящаяся Лена. – Я даже помню, что у тебя в одном интимном месте есть родинка. Правильно?
– Где именно? – желает уточнить Теодоров.
– Я тебе потом покажу, если захочешь, – обещает заместитель председателя окрисполкома, и вскоре мы уже сидим на просторной кухне («тут будет спокойней»), кухне-люкс, блистающей неземной чистотой, – я сбросив куртку, а хозяйка уже в длинном голубом халате, что означает, надо полагать, ее нежелание возвращаться сегодня за рабочий стол. Она достает из холодильника колбасу, сыр, давно невиданные шпроты – богато, однако, живет! – и бутылку армянского, да, армянского, да, подчеркиваю, армянского коньяка.
«Сразу выпьешь или подождешь, когда сжарю мясо?» – интересуется она.
«Безусловно, сразу», – отвечаю я и самолично, как в той квартире, где я много раз бывал, достаю из стенного шкафчика две стопки и наполняю их. «Рад тебя видеть в целости и сохранности», – произношу тост. «И я», – отвечает Лена.
Мы выпиваем и закусываем легким поцелуем.
– А скажи честно, ты ко мне первой зашел или нет? – улыбается Лена.
Я вспоминаю о Вике Дорожко и о назначенном свидании на спуске к реке и относительно честно отвечаю, что первым, у кого я здесь побывал, был Николай Христофорович Ботулу.
– Ну это не в счет! – сразу успокаивается Лена Абрамова и…
Пропустим, пропустим! Жаль, но опять я вынужден писать избирательно, уплотняя время, унижая и низводя его, бесценное, до своих прикладных потребностей.
Уже второй час сидим мы с Леной Абрамовой на кухне. Уже известно ей (вкратце, вкратце, конспективно!) содержание прошедшей двенадцатилетней мини-жизни Теодорова: его перемещения по стране, его творческая, так сказать, биография, его семейное положение и гражданский статус. Лена жадно расспрашивает, осадно слушает, вздыхает, иногда смеется. Ей самой есть о чем поведать, но у нее все проще и ясней.
Сюжет ее жизни малоподвижен; соблюдено классическое единство места и времени. Двенадцать лет уже она не Абрамова, а Вычужанина, и вот уже около года разведенная Абрамова-Вычужанина… и карьеру она сделала, в сущности, незначительную. Главное ее достижение – это, конечно, Дина, ради которой она так долго тянула волынку с бывшим пилотом гражданской авиации Алексеем Вычужаниным.
– Пил? – спрашиваю я.
– Не то слово, Юра. Страстно любил водку. Больше, чем меня.
– Ясно, – говорю я, снова наполняя стопки. – Да ты и сама неплохо пьешь, – замечаю я вскользь. Защищаю таким образом бывшего пилота Вычужанина, самого себя и все мужское сословие.
– Да, научилась. Но еще держусь. Работа такая… щепетильная, а то, знаешь, пустилась бы во все тяжкие.
– Брось! У тебя дочь. Выдашь ее замуж – тогда бушуй.
– Эх, Юра-Юрочка, дружок ты мой хороший! Какого черта мы с тобой не поженились?
– Хорошо, что обошлось. Я бы тебя в могилу свел. Хорошо, что обошлось.






